На суше и на море 1971 [Анатолий Сергеевич Онегов] (fb2) читать онлайн
- На суше и на море 1971 (пер. Ю. Новиков, ...) (а.с. Антология фантастики -1971) (и.с. На суше и на море-11) 11.86 Мб, 804с. скачать: (fb2) - (исправленную) читать: (полностью) - (постранично) - Анатолий Сергеевич Онегов - Игорь Иванович Акимушкин - Игорь Маркович Росоховатский - Н. Петров - Вячеслав Иванович Пальман
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]


НА СУШЕ И НА МОРЕ
Путешествия Приключения Фантастика
Повести, рассказы, очерки, статьи

*
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Редакционная коллегия: Н. Я. БОЛОТНИКОВ (составитель), П. Н. БУРЛАКА, И. А. ЕФРЕМОВ, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ, И. М. ЗАБЕЛИН, А. П. КАЗАНЦЕВ, С. Н. КУМКЕС, Н. Н. ПРОНИН (ответственный секретарь), С. М. УСПЕНСКИЙ
Оформление художника В. ЮРЛОВА
М., «Мысль», 1971
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Антонина Никитина
МАРШРУТОМ ЖИЗНИ

Повесть Рис. В. Сурикова
Глава первая
— Не надевайте скафандр! Зеленоватая вода, слабо подсвеченная лучами солнца, сжимает в своих объятиях, не дает дышать, тяжелый шлем стискивает голову, рвущая боль обжигает висок. — Спасите! Чьи-то пальцы касаются плеча. — Успокойтесь, — выплывает из зыби. — Не надо так… Сестрица, шприц! — Где я? — приходит в сознание Клара. — Молчите! Лежите тихо! Вам нельзя говорить, двигаться… Слабый укол в руку — и снова кружится голова. — Спать, спать! — баюкает ровный далекий голос. Мысли начинают путаться, гаснуть, волны забытья подхватывают беспомощное тело, легонько колышут и куда-то несут, несут… …Клара стоит на галечной косе. Перед ней бесконечность океана. Он ровно дышит, чмокает о берег. Ну что в нем красивого? Однообразный и пустынный, он прячет свои тайны в недоступной глубине. Океан чужд ей, она привыкла к зеленой загадочной тайге, к незамерзающим горным ручьям, к сибирским глубоким снегам. Сколько раз, бывало, опершись грудью о лыжные палки, часами выстаивала она где-нибудь на крохотной полянке, забыв обо всем на свете, не в силах оторваться от зимней таежной красы. А летом? Разве можно сравнить равнодушные и жутковато далекие горизонты океана с величием гор, с разноголосым гомоном лесных птиц?.. …Волны. Опять зыбкие волны швыряют и несут ее по безбрежному злому океану. Почему так долго длится спуск? Тошнота комом подступает к горлу, боль рвет на части правую половику головы. Нечем дышать. Клара ловит шланг, но руки хватают пустоту. — Не надевайте скафандр! — истошно вопит она чужим, страшным голосом. Тяжело. Душно. Больно. Но что бы она делала без скафандра? — Пить, — чуть слышно шепчет Клара и открывает глаза. Перед ней сероглазое усталое лицо, чьи-то добрые, ласковые руки лежат на запястье. — Вот мы и пришли в себя, — слышит Клара. — Видите меня? Так. Смотрите сюда. Лежите спокойно. Пульс хороший. Молодец, девушка! Теперь она отчетливо видит белые стены, блестящие спинки кроватей, широкое окно. Больница? — Как я сюда попала? — тихо спрашивает Клара. — Сняли с поезда, — отвечает сероглазая женщина в белом халате. — Пришлось срочно делать операцию. В ту предпоследнюю студенческую весну с Кларой творилось что-то неладное. По утрам она с трудом отрывала от подушки чугунную голову, с горечью во рту и отвратительным настроением брела в университет. Весь день ходила вялая, бледная, а вечером сразу же валилась в постель. Это так было непохоже на нее, и все это заметили. Подруги посылали Клару к врачу, но она только отмахивалась. Ей таких трудов стоило добиться разрешения ехать на преддипломную практику к Тихому океану. До отъезда оставались считанные дни, когда тут ходить по врачам. Ладно, отмахивалась Клара, в поезде отосплюсь, отдохну, и все пройдет… Только бы скорее во Владивосток! И вот она на берегу океана. Так вот ты какой, Великий или Тихий? Что сулишь ты мне? Поделишься ли со мной хоть частицей своих тайн? Покажешь ли мне жизнь своих придонных обитателей?.. — Скафандры девчатам надевать не советую, — говорит руководитель практики. — Это им противопоказано. Давление водной толщи иногда вызывает серьезные осложнения в организме, а каждая из вас со временем может стать матерью. — Что же это за преддипломная практика, если нельзя увидеть главного, ради чего я приехала сюда? — возражает Клара. — Я должна опуститься на дно. Я здорова. Могу дать расписку… Сейчас Клара поняла: университетские подруги все-таки были правы. Не следовало ей ехать на Тихий океан. Конечно, изучение бентоса Японского моря значительно расширило ее научный кругозор, но это не имеет прямого отношения к биохимическому методу разведки полезных ископаемых, которым она занимается. Пожалуй, прав был и руководитель практики, предупреждая об опасности для нее работы в скафандре. Вот уж третий год как не оставляет ее недуг. Временами свинцовая тяжесть сковывает мышцы, дикие боли терзают затылок. Но Клара борется с недугом. Она превозмогает слабость, старается больше двигаться, работать… Более двух лет так держалась, а тут грянула новая беда. Говорят, она чуть не умерла от паралича. Началось все со злого, рвущего легкие сухого кашля, простуды, подхваченной при возвращении из тайги. Потом на лице вскочил пустяковый чирий. От него воспалилась надкостница черепа — и воспаление мозга. В таком состоянии и сняли ее с поезда. Была на краю бездны. Пришлось делать операцию. Удалили большой кусок теменной кости. Рана затянулась, но металлическую пластинку пока ставить нельзя: масса воспалительных очагов еще таится в костной ткани. Но теперь все это позади. Кончились все беды. Молодец, Клара, выкарабкалась! Скоро придет Эдик, узнает, что ее выписывают, обрадуется, побежит искать такси. Вчера он был таким грустным, смотрел как-то особенно преданно и странно. Чудак! Еще начнет жалеть, опекать. Не выйдет! Слабой себя считать она не привыкла. Почему раньше ее не тянуло так к Эдику? Считала его мальчишкой, хорошим товарищем, и только. Девчонки-однокурсницы утверждали, что Эдик чем-то похож на Инсарова. «Он всегда такой серьезный. Долг для него прежде всего». Выдумают же. Неловкий, стеснительный парень с географического факультета и тургеневский Инсаров? Эдик добрый, ну где ты, почему не едешь? Сейчас врач даст последние наставления, оформит документы, и можно ехать домой… Не суждено было Эдику отвезти в тот день Клару домой… То, что Клара услышала от врача, потрясло ее, снова свалило в постель. Ей нельзя вести самого обычного образа жизни — учиться, работать, любить, рожать детей… Ей можно только есть, пить, дышать. Ее ждет участь живого трупа! Неужели кончилась ее короткая дорожка? Нет! Нет! Лучше умереть! Малейшая простуда или нервное перенапряжение — и катастрофа! Тихо в белой палате. Только глухо стонет лежащая на койке Клара…Глава вторая
Старый проводник терпеливо ждет. Геологи вот уже часа два увязывают вьюки. Второй месяц старик живет среди геологов, привык к ним, полюбил. Ему нравятся молодые, веселые парни и их такие же молодые и веселые спутницы в сапогах с ремешками на голенищах, в легких зеленых куртках с капюшонами. Вон муж и жена. Он старший геолог, заместитель начальника. Лицо строгое, глаза внимательные, голос серьезный. Все к нему обращаются с вопросами, слушаются, хотя все, кроме самого молодого — рабочего Юры, называют его запросто: Эдя или Эдик. Не в пример ему жена — Клара. Эта как есть круговерть. То на аккордеоне пиликает, то песни распевает. Нда-а, и что за народ? Все им недосуг. По горам да по долам бродят, камни ищут. Землю долбят, канавы большие роют. И все нипочем — дождь, ветер, ненастье… Неуемные. Иной раз еле ногами двигают, а только разожгут костер, пожуют наспех, и пошло-поехало: шутки, песни, смех. Чего только не нагородят! Такого иной раз наслушаешься, голова кругом идет, как чугун гудит. Вон и сейчас о чем-то спорят. А стрекоза-то начальникова, Клара, больше всех разоряется. Оказывается, она прочла в книжке, что у Дзержинского были синие, чистые, веселые глаза, а вот у ее Эдика не хватает во взгляде веселья. Скажет же такое! Хоть и муж он ей, а начальник… Целыми днями проводник топчется то возле оленей, то обихаживает лагерь. Руки его редко расстаются с острым топориком. Тюк да тюк. Там кол у палатки надломился — заменит, тут тренога над костром подгорела. Заменить надо. А дров сколько идет! Хоть и не его это забота, а как без дела просидишь? Начальникова женка все лето с этим долговязым птенцом Юркой-коллектором ветки да траву из леса в рюкзаках таскают и в печке жгут.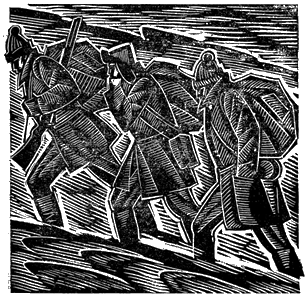
Смех и грех. По сумочкам разложат» как в магазине. Спорить зачнут. Боятся, слышь, перепутать. Печку-то вон откуда на гору волокли. Воронки в ней железные. Натолкают в них траву, в дырочки на печке пхнут. А потом над золой трясутся: в пакеты ссыпают, подписями метят. Какой-то новый метод испытывают. Наука! — Эх-хе-хе, — кряхтит проводник. Ноги болят: быть непогоде. Когда-то и он был молодым. Его крепкие ноги будто не имели сносу. Сколько истоптали ичигов, бродней, армейских сапог! Дважды перебитые, переломанные, они после госпитальной койки снова несли его по дорогам войны. И в мирное время ногам тоже не было покою: не счесть холодных рек, что перебрели они! А геологи, хоть и кричат, но дело делают. Один за другим шлепаются около проводника тюки. Юра помогает ему поднять их на оленей. Дело не простое: надо, чтобы было и посильно для животных, и приторочено как следует. Идти-то не торной тропинкой, а где придется. Геологи свертывают лагерь, грузят палатки на оленей, заливают костры. — Трогай! — машет рукой начальник. — Юра, где Клара? — Клара Ивановна во-о-он туда пошла, — показывает юноша. — Клара-а! — несется по ущельям. — Скорей! — Иду-у! Крепкая, ладная фигурка показывается на скале над самой тропой, легко прыгая по валунам. — Эдик! — доносится радостный голос. — Я к тем березкам бегала. Образцы взяла. Наглядный гигантизм. — И Клара потрясает пучком веток. Да, молодайка — винт, раздумывает старик. И лицом пригожа. Если б не шрам на голове, совсем красавицей была бы. Говорят, после тяжелой операции на голове доктора запретили ей даже быстро ходить, а она звон как носится… Э-эх, молодежь! Ученые, а того не чуют, что тепло-то как оползень: только что было да сплыло. Того и гляди, дождик забрызгает. А там снегу жди. Торопиться надо: Саяны шутить не любят. — Эгей! — сердито прикрикивает проводник на вожака и направляет оленей на чуть приметную звериную тропу. Цок да цок! Цоки-цоки-цоки-цок! Олени не торопятся. Копытцами по камушкам знай стучат, следок в следок укладывают. В топких местах олени, проваливаясь, приседают на задние ноги и рывками выбираются из трясины. Пахнет диким хмелем, багульником. На выступе скалы задумчиво сидит орел. Потревоженный людьми, он нехотя взлетает. Мелькнув белым пятном, метнулась в кусты косуля. На альпийских лугах стадо животных. Длинная шерсть висит почти до земли. Хвосты лошадиные. Из-под густых лохм глядят большие красноватые глаза. Это пасутся тибетские яки, покачивая толстыми, похожими на ухват рогами. На валуне, присев на задние лапки, умывается горностай. Гибкий, с веселыми глазками, он вытянулся столбиком, повел черным носом с тонкими усиками, тряхнул хвостом и юркнул в расщелину. Продвигаться все труднее. Все выше и выше скалы. Кажется, перевал рядом, но до него еще идти и идти. Всюду кручи, пропасти. Сеет, моросит нудный дождь. Ох, как болят косточки, тянутся невеселые раздумья проводника. Не к добру. В горах погода, как девка: только что одно скажет, а через минуту другое заявит. Сколько лет по гольцам да россыпям ноги мозолю. Соболя бил, белку, горностая, куницу. А рыси тут какие! — Ох-хо-хо, — вздыхает старик. — Нападет рысь, теперь от нее не отбиться, как в тот раз, когда мы с Дарьюшкой здесь промышляли. Сколько воды с тех пор с гор утекло? И куда все подевалось? Уж и Дарьюшки, поди, лет пятнадцать на свете нет. По сыновьям уж больно убивалась. Всех до единого война съела. А какова девка была! Вроде начальниковой Клары… Пройдя шагов двести, проводник останавливается, приседает на корточки, долго рассматривает отпечатки копыт на земле. Исхлестанное дождями, ветрами и морозами коричневое усохшее лицо его мрачнеет. — Изюбри спускаются с гор, — говорит он. — Плохо. Рано на зимовку спешат. Пурга будет. Надо быстрее идти, завалит снегом перевал — пропадем! — бормочет проводник, торопя и подгоняя оленей. Чем ближе к вершине, тем труднее становится дышать. Старик часто хватается за грудь, иногда застывает на мгновение, привалившись к боку оленя, но потом опять упрямо идет вперед. Проводник он или нет? Налетает сильный, пронизывающий ветер, внизу грознее шумит тайга. Быстро темнеет. Дождь внезапно сменяется снегом. Он сыплет все гуще и гуще. Липнут к щекам мокрые хлопья, залепляя глаза. Пригнув головы, люди идут и идут, спотыкаясь, падая, вставая, скользя и снова карабкаясь по камням. Впереди начальник, за ним, шаг в шаг, Клара. Взгляд ее сосредоточен, стиснуты зубы. На вершине перевала ветер хлыщет сильнее, почти валит с ног. Еще свирепее стегают вихри снега по лицам измученных людей. Тучи, закрыв весь горизонт, смыкаются над самой головой, наваливаются на горы. И вдруг сверкает молния. Снежная гроза! Охнув от грома, выжидающе притихает земля. Олени шарахаются, сбиваются в гурт и ложатся наземь, повернувшись мордами навстречу ветру. Ни побои, ни крики на них не действуют. Геологи торопливо устанавливают палатку. — Обложите ее снегом, камнями. Иначе сорвет! — шепчет проводник. Он стоит около оленей, держится за грудь. Еще немного прошли бы, а там впереди распадок, лес, много дров… До него долетают обрывки фраз: «Где дрова будем брать?», «Стланик рубить», «Главное — разжечь». Старик приходит в себя на круче сваленных тюков. Шевельнуться нельзя: острая боль пронизывает грудь. Он болезненно стонет. — Что с тобой, дедушка? — склоняется к нему Клара. — Сердце схватило, будь оно неладно. Чего долго костер не разжигаете? — Все намокло… Руки не слушаются… Ветер… — А-вай! — бессильно всхлипывает старик. — Так окоченеть недолго. Оленя надо резать, кровью руки греть… — Расчески! — вдруг взлетает над ним обрадованный возглас Клары. — Давайте сюда все, что горит: очки, расчески! Через несколько минут полыхает огромный кострище. К утру пурга стихла, и отряд благополучно спустился с перевала. Саяны позади! Еще один этап работ завершен!
Эдуард проснулся от холода. Самодельный чум-тренога из жердей, обернутых палаткой, трясся и качался под порывами сентябрьского ветра. — Давай укладываться, — тронул Эдуард плечо Юры. — Надо выходить к назначенному месту. Ветер сбивает с ног, валит. Где еще вчера ясно были видны завалы, осыпи, сегодня угадываются лишь небольшие углубления и белые бугры. Снег прикрыл предательские щели, провалы и оползни. В сумрачную долину медленно вползает рассвет. Перед гласами по-прежнему порхают снежинки. Они садятся на телогрейку, запутываются в курчавой бороде Эдуарда, липнут к сапогам. Ноги сами сворачивают к реке и бредут по воде. Небольшая сердитая речушка кипит расплавленным металлом, брызжется у валунов, ворчит, бранится, как свекровь, петляет в расщелинах, лезет на скалы. Вода обжигает, идти по ней невозможно. За день прошли километров пятнадцать, ночевали у костра. И в эту ночь Эдуард не мог уснуть. Он думал о Кларе. После чертовски трудного перехода через Саяны даже бывалые геологи обычно отдыхали, набирали сил. И она могла бы остаться в охотничьем поселке, заняться анализами. Так куда там! Твердит одно: «Здесь иная растительность, другие виды травяного покрова. Разве можно это пропустить?» Вот и отправилась в дальний маршрут с Кудряшовым, начальником партии. Почти месяц порознь. Как она там? Все утро Эдуард и Юра брели то по берегу речушки, то по воде. К обеду увидели верхушку чума, выглядывающую из узкого распадка. Подойдя ближе, Эдуард почувствовал: не все ладно. Обычно еще издали можно обнаружить присутствие человека — то ли по дыму костра, то ли по запахам готовящейся пищи, то ли по звукам. А тут ничего. Ни запахов, ни звуков. Зола в костре холодная, разметанная ветром. Эдуард и Юра устало сняли рюкзаки. Встреча с отрядом Кудряшова намечена на завтра в охотничьем поселке, километрах в пятнадцати отсюда. Но этого чума им никак не миновать, и сегодня к вечеру они должны быть здесь. Где же они? — Давай, Юра, для начала пожарче разложим костер. Может, они еще подойдут. Время тянулось медленно. Эдуард и Юра несколько раз ходили к ближайшим сопкам, кричали, стреляли. Километрах в трех от стоянки почудились им чуть заметные следы. Эдуард внимательно всматривается в каждый бугорок, кустик. Кругом нетронутые снега. Слух напряженно ловит звуки гор. Где-то застрекотала сорока. О чем раскричалась белобокая вещунья? Может быть, подает сигнал бедствия, верещит о чьей-то гибели? Нет. Не слышно тревоги в голосе сороки. Глаза беспокойно ищут отбитый от скалы осколок, перевернутый камень, ямку-закопушку в русле исчезнувшего ручья, срезанную с кедра ветку. Молчат камни. Никто не трогал их, никто не оставил следа. В узком глубоком ущелье путники увидели голубоватый язык замерзшего, в нижней части засыпанного снегом водопада. — Кровь! — внезапно испуганно закричал Юра. Эдуард, шедший поверху, скатился вниз. Действительно, на льду ярко проступали пятна крови. Откуда она? Может, со скалы, нависшей над водопадом, сорвалась снежная лавина и увлекла с собой людей? Их было четверо. Неужели всех завалило? Тогда чья же кровь? Эдуард и Юра долго прощупывали плотно слежавшийся снег палками, но никаких признаков людей не обнаружили. — Юра, надо бежать в поселок за охотниками… …Они еще издали услыхали шум, хохот, взвизгивание гармошки. Охотники шли парами, в обнимку. Они окружили путников, пристали: — Эй, геологи, гуляйте с нами, праздник у нас! Председатель сельсовета развел руками: — Вот ведь незадача. Подождите до утра. К завтрему мои ребята придут в себя после праздника. Будем открывать сезон. — Ждать? Нет, кет нельзя! — всполошился Эдуард. — Погоди, начальник! Сейчас все образуется. Есть одна мысль. Пойдем к старику, который сей год вас через Саяны проводил. Дам ему упряжку. Поедешь с ним, осмотришь, а если что серьезное — дадите мне знать. Что-нибудь придумаем. …Дед сидел за столом над какой-то книжицей. Губы его шевелились, брови были насуплены. — Люди пропали! — с порога закричал Эдуард. — Женщина, два геолога, рабочий… — Чего кричишь? — спокойно поднял глаза проводник, смерил Эдуарда взглядом, медленно закрыл книжицу. — Садись да толком говори дело, а то, ишь, раззвенелся. Испугался небось за свою тараторку. А что ей сделается? Греется где-нибудь у костра. …Оленья упряжка бойко бежит по склонам. Скоро ущелье с замерзшим водопадом. — Ну, где видел кровь? — спрашивает старик, останавливая упряжку. Эдуард ведет его вниз, показывает на алые пятна. — Какая же это кровь? — хмыкает старик. — А еще ученый. Поехали назад! — Как поехали? Надо осмотреть, не засыпало ли наших снегом. — Ты, начальник, разве первый день в тайге? Не видишь, что ли, что снег смерзся, как камень. Недели две как его свалило. А твои товарищи, сам говорил, сюда только сегодня должны подойти. Поедем, осмотрим распадок; может, они где и бредут там. Им больше деться-то некуда. С час они ехали по распадку, выискивая следы людей, пока наконец не нашли. — Так и есть, — обрадовался старик, — пока мы с тобой валандались в дороге и у водопада, они напрямик через перевал махнули в поселок. В чум и не заглянули… В поселок «спасатели» вернулись поздним вечером. Еще издали они увидели яркий свет в окнах дома старика, услыхали громкое пение, разговоры. — Ну пойди, пойди, погляди, как твои покойнички веселятся… — усмехнулся старик. — Небось уже успели разговеться у наших ребят. Слышь, гомонят… Но Эдуард уже не слышал старика. Он бегом бросился к дверям, распахнул их и застыл на пороге с распростертыми руками, то ли желая броситься к Кларе, обнять ее, то ли удивляясь, что все они действительно живы-здоровы. — Эдуард Федорович! — первым заметил его Юра, остававшийся в поселке. — Эдька! Эдик! — подхватили все. Но Все эти восторженные возгласы перекрыл то ли в шутку, то ли всерьез строгий голос Кудряшова: — Старший геолог Жбанов! Что за слухи вы распространяете о нашей гибели? За панику объявляю вам выговор! Кудряшов любил дать почувствовать, что он начальство. Но Эдуард не слышал его: он смотрел в сияющие глаза Клары. — Эдик, милый, вот мы и вместе. Знаешь, сколько интересного материала собрала я в этом маршруте? Иу, как твои дела? Но Эдуард продолжал молчать, не в силах оторвать глаз от милого, родного лица. — Эд, глупышка ты моя родная, — шепнула Клара. — Как это ты умудрился принять микрофлору за кровь? — Не смейся, Кларушка. Я так боялся за тебя. Мне было этот месяц так тревожно, так горько, мне и чудилось бог знает что. — Успокойся, милый. Теперь мы опять вместе.
Глава третья
Легко и уверенно идет Клара по лесной просеке, поросшей кустарником. Ерник, шиповник цепляются за одежду, царапают руки. Она с трудом продирается сквозь заросли и выходит на пригорок. Кругом покой, свежесть, аромат цветов, трав. Клара наклоняется, разгребает куст малины: какой необычной окраски цветы. Отчего бы? — Помогите!.. — доносится до нее отчаянный крик Юры. Клара напрямик, через заросли, бросается на крик. Вот полянка, посредине ее кедр. На нижних ветвях сидит Юра и кричит. Под деревом огромный муравейник, а в нем копошится медвежонок-годовик и, поглядывая на Юру, урчит: «Чего, мол, орешь? Слезай сюда, угощение на славу!» Клара вынимает из кобуры пистолет; выбрав потолще да подлиннее палку, идет на медвежонка. Зверь, увидев еще одного человека, удивленно таращит глазки, кривит морду. Осознав, что его гонят, он обиженно скулит и бредет в кусты. Перепуганный Юра слезает с кедра, разыскивает на земле кепку, смущенно косится в сторону Клары. — Сколько раз предупреждала: отставать в маршруте нельзя! Пошли! — сурово говорит она. Юра облегченно вздыхает, широко улыбается. — Думал, труба мне… И с восхищением посмотрел на Клару: «Ну и баба! Во молодец! И как это она спокойно с пистолетом медведю чуть ли не в самую морду сунулась? Хоть бы бровью повела. А вдруг мишка бросился бы на нее? Тут бы ей и конец. Я чем мог бы ей помочь?» И снова двинулись вперед по просеке, поросшей кустарником. Молодая женщина и паренек, нагруженные рюкзаками. И снова с утра до вечера то крутой подъем, то спуск, то броды через быстрые речки. Еще в Саянах, в прошлом сезоне, когда Юра только поступил в экспедицию, как-то перебираясь с Кларой через бурную речку, он сказал: — Вот никогда не думал, что на свете так много рек. И зачем вы все норовите через них? Нет того, чтобы обойти. Вам гора ли, река — все напрямик. — Мы же не на прогулке, а на работе, — рассмеялась Клара. Юра смолчал, а когда остановились на привал, возобновил разговор. — Странные вы люди, геологи. Ищите то, чего не теряли. — Как тебе объяснить? — ответила Клара. — Это только кажется, что мы без цели ходим. Вот глянь на карту. Видишь эти знаки? Это помечены горные породы. Посмотрят на них геологи и поймут, где надо искать железо, олово или медь. А чтобы такую карту составить, надо своими глазами эти породы увидеть, изучить, зарисовать. Вот геологи и ходят, смотрят, отбирают на пробы камни. Мы же с тобой собираем цветы, травы, листья, ветки с деревьев. Это наши пробы. Мы их сожжем и золу отправим в лабораторию. По нашей золе специалисты определят, есть ли в этом месте золото или свинец. Это и называется биогеохимическим методом разведки. — Как же это в цветок попадет золото? — А вот так, — продолжала Клара. — Биогеохимический метод основан на процессах солевого питания растений. Тебе понятно, что это такое? — Хорошо ли, плохо, а в школе химию и ботанику проходил. Может, что и пойму. — Так вот. Представь себе, что в этом месте, где мы сейчас с тобой сидим, где-то там, в глубине, под толщей горных пород скрывается месторождение какого-нибудь металла. В природе нет ничего постоянного, в ней все изменяется. На этот упрятанный в глубине металл воздействуют и соседствующие с ним породы, и глубинные воды, и газы. Происходит постоянный химический процесс, в результате которого вокруг месторождения образуется так называемый солевой ореол. Растения добираются до него корнями, всасывают соли, накапливают их в ветвях и листьях. По золе листьев с помощью спектрографа и узнаются химические элементы, извлеченные деревьями; затем на карту в тех местах, где брались пробы, наносятся соответствующие значки. Таким образом мы можем даже оконтурить границы месторождения. — Ну здорово! Сквозь землю видите. У нас в совхозе агроном как-то лекцию читал про солевое питание растений. — Агрономы изучают процесс солевого питания, чтобы вносить в почву недостающее для жизни растений, а геологи наоборот, изучают его, чтобы извлечь из недр нужные людям руды. — Ну и ну! Вот что значит наука, — с откровенным восхищением протянул Юра. С тех пор Юра стал строже, прилежнее относиться к своим обязанностям. В душе он гордился, что его труд, сколь и ни скромен, нужен науке. Счастливую жизнь проживет человек, если он смолоду почувствует свою нужность людям! В этом году экспедиция перебралась в новый район разведок, в Забайкалье. Хотя рабочих обычно набирают на месте, Юра упросил Жбановых, а те начальство, чтобы его взяли с собой. И снова, как на Саянах, его назначили маршрутным рабочим при Кларе. И снова с утра до вечера шагают они вдвоем. И снова то крутой подъем, то спуск, то броды, через быстрые, но привычные уже речки. Вот и водораздел. Клара, опершись на длинный черенок геологического молотка, всматривается в горные хребты, окутанные голубоватой дымкой. Вдоль и поперек исхожены они за это лето. Вдали белеют ковры лишайников, сверкают озера. Причудливой лентой вскачь несется вниз речка, петляет в кедровом стланике, отчаянно бьется об утесы и наконец вырывается в долину, поросшую редколесьем. Летом речку можно перепрыгнуть с разбегу, но во время осенних дождей она осатанело ворочает на перекатах замшелые валуны, сердито грохоча, брызжет пеной. За холмами, где над рощей вьется курчавый дымок и желтеют палатки геологов, она встречается со своей подружкой, такой же своенравной, капризной рекой. В долгом раздумье стоит Клара. Отсюда, с водораздела, удобнее наметить путь. Низовья реки уже обследованы. Часть проб уже отобрана, озолена и отправлена в лабораторию. Что-то покажут анализы? Завтра нужно пойти вон к тем озерам. В бинокль хорошо видно озеро у дальних скал. На выступе утеса застыла кабарга. Она не сводит глаз с лосихи, которая жадно пьет воду, настороженно оглядывается по сторонам и снова пьет… По крутому склону к водопою спускается стадо диких оленей. В россыпях снуют тарбаганы. «Когда и почему эти степные жители переселились сюда?» — спрашивает себя Клара. Студеный ветер гуляет по вершине, шевелит волосы, забирается под воротник. Клара ежится, окликает Юрия и устало шагает по гребню, спускаясь вниз. Вдали виднеются крохотные одинокие лиственницы. Справа и слева почти отвесные скалы, сумрачные ущелья. Захватывает дух. Что-то холодное, как бурав, сверлит сердце, кружит голову. Пузатый рюкзак давит плечи. На вершине перевала тропу заслонил большой язык ледника. Разноцветные солнечные зайчики бесновато скачут на его зеркальной поверхности, даже больно глазам. Пришлось идти в обход ледника, прижимаясь к нависшим скалам и хватаясь за чахлые кусты. Впереди сплошная ссыпь. Щебень катится вниз, увлекает за собой. С гор дует ветер, ошалелым вихрем мечется по ущельям. Ожили безмолвные камни. Отвесная скала, иссеченная глубокими морщинами, накренилась. Вдруг от ее вековой толщи отламывается глыба, другая. Они падают, разбиваясь на куски, и скачут под гору. Грозный гул камнепада все нарастает, приближается. — Бежим, Юра! — кричит Клара. — Скорей, скорей! И тут увесистый обломок пролетает над головой паренька, ударяется в гранитную стену, высекает искру, отскакивает и исчезает из виду. Миновав россыпь, искатели устало опустились на землю. — Кажись, проскочили! В лепешку мог сплюснуть, — облегченно вздохнул Юра. Вниз спустились уже в сумерках. Долго пили, припав к студеному ручью воспаленными губами. В воде Юра увидел свое загорелое, обветренное лицо. Из-под выгоревших на солнце бровей на него смотрели незнакомые глаза, обведенные темными кругами. — Ну и страшила! — засмеялся он. — Почему же медведь меня не испугался? — Значит, он храбрее, — улыбнулась Клара. К своему полотняному городку они добрались, когда вечерняя заря брусничным соком облила вершины.Глава четвертая
Палатка начальника стоит на отшибе, у родника. Кудряшов достает из вьючного ящика какие-то банки, говорит вполголоса: — На, Надюша. Вот тебе сметанка, вот медок. Дорогой купил, только что из сотов. А куда наша сгущенка делась? — Не знаю, — вяло отзывается Надя. — Ага, вон он, ящичек. Ты его в сторонку, в сторонку. Вот тебе еще вареньице. Тут больше трех кило. Хватит нам до новых ягод, а там опять, как в прошлом году, запасемся на зиму. Хорошо, что ты согласилась в этом году поехать со мной в поле… Да, сметану опусти в родник, чтоб собаки не достали. А те ящики, что на машине, завтра на склад. Там концентраты, тушенка, овощные консервы, пшено, макароны… Вон сколько всего привез, пусть только попробует Жбанов ворчать, что не заботится начальник о людях… Демагог! Ладно, скоро мы от этой парочки избавимся, — продолжает пришептывать Кудряшов. Но Надя, поглощенная своими думами, не слышит. — Картофеля у нас мало, — говорит она, расстилая мужу койку. — Как люди за стол — не знаю, куда глаза девать. — Ладно, Надежда, привезу. Пока вари что есть. Да чего ты такая кислая, Надюша? Плохо ли мы живем? Зимой у нас оба оклада останутся чистенькими. — А вдруг они узнают? — Надя кивает в сторону лагеря головой. — Со стыда сгорю. — Поменьше с подружками откровенничай. Гостей к себе не води, далеко от лагеря не отлучайся да продукты подальше упрячь. — Не могу я так, Леша! Не умею! — с болью вырывается у Надежды. — Кусок в горле застревает. Едим отдельно от других, прячемся как воры. — Ты опять за свое? Надоело! — цыкает Кудряшов. — Знаешь, можешь строить из себя идеалистку в своей школе, а тут ты — повар! Понятно? И помалкивай. Ложись спать! — Кудряшов зло заваливается на койку, демонстративно отворачивается к стенке палатки и тут же засыпает. Надя опускается на скамью, сжимает виски ладонями. Как непохожа эта жизнь на ту, о которой она мечтала когда-то! Ей вспоминается школьный диспут «Кем быть?» Подружки перебирали профессии, искали что-то гриновское. Кто в наш век «поднимает паруса» мечты? Геологи? Моряки? Летчики? Полярники? Или физики, стирающие «белые пятна», не выходя из лабораторий? Надины мечты были скромными. Она собиралась изучить французский язык, чтобы преподавать его в средней школе, общаться с детьми, чувствовать их любовь, привязанность. Она и достигла своего. Два года вела класс, а теперь вот стала поваром. Послушалась Алексея. Зато будут «два оклада чистеньких». Надя прислушивается. За стенками палатки шумит тайга, звенит родничок, а рядом умиротворенно посапывает муж. Она накидывает на плечи пуховый платок, выходит из палатки, садится на поваленное дерево и, кусая платок, беззвучно плачет…Ранним утром ломкими отголосками плеснули горы: — О-о-о! Змея-а-а! Укуси-и-ила! — Кого? Где? — Бей! Эх, упустили! Уползла в темноту. Взметнулся растрепанный сноп костра. Люди спросонок выскакивали из палаток, на бегу натягивая одежду. Пошатываясь, вышел на крики Эдуард. — Кого укусила? — спросил он, но тут же ноги его подкосились, и он, сдавленно охнув, ничком рухнул на землю. — Скорей, Леша! К упавшему бросилась маленькая светловолосая повариха Надя. Она с трудом перевернула Эдуарда на спину, расстегнула воротник рубашки. — Что опять там стряслось? — послышался из палатки раздраженный голос ее мужа Алексея Кудряшова. — Жбанов решил, что это Клару гадюка укусила, поднялся, и вот… — Театр комедии, — усмехнулся Кудряшов, подходя к Надо. — Давно он заболел? Тон мужа возмутил Надю. — Как тебе не стыдно, Алексей. — Ей хотелось наговорить ему дерзостей, ко она сдержалась: — Подержи ему голову, я схожу за водой. Кудряшов сердито откинул со лба длинные, прямые волосы, нехотя подхватил больного. Надя быстро вернулась с ковшом, смочила полотенце, положила Эдуарду на лоб. — Обморок, — заключил муж. — Почему ты не поверил телеграмме Эдуарда Федоровича о болезни рабочих и не привез врача? Вот теперь свалился и он, — спросила с упреком Надя. — Ладно, Надежда, тебя это не касается! Смотри-ка, он, кажется, приходит в себя. — Кого укусила змея? — слабым голосом спросил Жбанов, пытаясь приподняться. — Успокойтесь, Эдуард Федорович, это ложная тревога. Кого-то у костра подпалило, он со сна не разобрал и взбудоражил лагерь. — И к мужу: — Давай перенесем Эдуарда Федоровича в палатку. — Спасибо, Надя. Не надо, — отстранил ее Эдуард. — Оставьте нас вдвоем, мне с начальником надо поговорить наедине. Надя сняла с себя фуфайку, укутала плечи больного и ушла. — Что думаете предпринять, Алексей Викторович? Целый месяц люди работают на полуголодном пайке, без мяса, без жиров. Чуть ли не половина партии болеет вирусным гриппом. А вы уехали и пропали. Нигде вас не могли найти. Может быть, скажете парторгу? Или собирать партгруппу? — тихо спросил Эдуард. — Ладно, Жбанов, меня ты партгруппой не пугай. Где был, там теперь меня нет. Понятно? А продуктов вон целую машину пригнал, сегодня же отправим тебя на базу, а оттуда вертолетом в город, в больницу. Обратным рейсом доставим сюда врача. Так что можешь успокоиться. — Разве я забочусь о своем покое? — Ладно, — бросил свое любимое словцо Кудряшов. — Все образуется. Ребята хотя на ногах держатся, а тебя вон как скрутило. Поезжай, поправляйся! Будет все в порядке.
Тихо. Жарко. Гудит под тиглями длиннотрубная печка, потрескивают лиственничные дрова. Юра сноровистыми движениями то снимает и отставляет в сторону горячие воронки с золой, то заряжает печку новыми порциями зелени, то выскребает остатки из пустых воронок. За два года работы в экспедиции Юра многому научился. Теперь Кларе не надо было напоминать ему сделать то-то и то-то. Юра знал сам. В прошлом году, месяца через два после истории с медведем, с Кларой случилась беда. На тропе ее свалил припадок. Юра принес ее на руках в лагерь и передал Эдуарду, изменившемуся в лице. Все в лагере переполошились, но Жбанов успокоил: — Ничего, все обойдется. У нее солнечный удар. — И, выразительно посмотрев на Юру, отнес жену в палатку. Юра тогда долго стоял, прислонившись спиной к кедру, продолжая вертеть в руках Кларину соломенную шляпу, не спуская глаз с палатки Жбановых. После этого случая Юру словно подменили. Он следил за каждым движением Клары, стараясь предугадать ее распоряжения. Утром вставал вместе с Надей, затапливал «обжорку», спешил управиться с пробами. В маршруте он отбирал у Клары рюкзак, не позволял поднимать тяжести, тревожился, когда она уходила одна. Неподалеку от Юриной длиннотрубной печки, под толевым тентом, за длинным, грубо сколоченным столом, колдует Клара над пробирками и колбами. Тут же сбоку Надя очищает рис для обеда. — Клара Ивановна! — зовет Юра. И та, отставив стекло, спешит к печке, объясняет, быстро и ловко сворачивает пакетики, ссыпает туда золу, разыскивает в маршрутном дневнике номера проб, сверяет, помечает. Наде слышен ее короткий смех, смущенное бормотание паренька. Вот она снова возится с колбами. «Счастливая, — завидует ей Надя. — Все у нее есть: любовь, уважение, интересная работа. С мужем у них полное согласие. Он гордится ею. Еще бы! Порыв, сгусток мысли, желаний, энергии! А как она красива! Какие глаза! Карие, блестящие, со светлинкой».

— Скажи, Надя: ну почему так коротка человеческая жизнь? — вздыхает Клара. — На кой черт природа дала черепахе триста лет жизни? Ну зачем они ей? — Неужели ученые не разгадали этой тайны? — Предположений много. Мечников считал, что млекопитающие сокращением своего века обязаны только усложненности кишечника. Микробная флора сокращает нам жизнь почти втрое. Видишь, какое прозаичное объяснение? — А может быть, это и к лучшему? Мы бы просто замучились так долго ждать. — Ну что ты, Надюша! Мне бы и пятисот лет не хватило. Ведь столько хочется успеть! А как тут уложишься в свой коротенький век? Надо спешить, спешить… — Куда? — грустно вздыхает Надя. — К старости? — О, Надя! Если есть цель, нужное людям дело, до старости можно прожить десять жизней! Клара готова была еще распространяться на эту тему, но тут ее снова позвал Юра, и она побежала к печи. «Как все для нее ясно и просто, — подумала Надя. — За каждым камнем, кустом, неосторожным шагом подстерегает ее смерть. А она и виду не подает. Гордая. И какое упорство! Только и разговоров о результатах работы, об открытии месторождений, о том, что лет через пять геобиохимия станет хозяйкой в каждой геологической партии. Все у нее просто, естественно. Заболел муж, увезли в больницу с серьезными осложнениями после вирусного гриппа. Другая бы охала, вздыхала, а она улыбается: выздоровеет мой Эдик, вернется. Нет таких болезней, которые могли бы отнять у меня Эдика. Может, для нее действительно жизнь — трын-трава? Привыкла ходить по острию ножа, может, поэтому такая дерзкая?» А как она щедра! Надя помнит, как на последнем курсе института в тяжелое для нее времечко Клара помогла ей. Ох, и студеная тогда была зима. Морозы за сорок. А Надя бегала в своем старом осеннем пальтишке. И с какой неназойливой щедростью и легкостью Клара заманила ее в магазин и купила зимнее пальто. «Я не смогу скоро расплатиться», — запротестовала Надя. — Тоже удивила, — рассмеялась Клара. — Мне деньги пока не нужны. Они отложены на мебель. А квартиру когда еще дадут». — О чем задумался, детина? — пропел над ухом Кларин голос. — Что-то, ты, Надюша, в последнее время как монахиня? Или белый свет опостылел? Или надоело возиться с кастрюльками да поварешками? — Ну а что делать? — Как «что»? Совсем ведь недавно ты еще ох какой боевой была. Кому угодно могла дать отпор. А теперь в смиренницы записалась, позволяешь над собой издеваться… — Клара, прошу тебя… — Нельзя молчать, Надя. Что я не вижу, как он помыкает тобой, учит приспособленчеству, скаредности. Ради этого ты вместо отдыха каждое лето кухаришь. — Заметив, что Надя вот-вот заплачет, Клара хлопнула ладошкой по столешнице. — Не смей нюни распускать! Человек ты или мокрица? Кончай это! Сегодня же потребуй от Кудряшова отпустить тебя к родным. Обеды сами будем варить. По очереди.
Глава пятая
— Алексей Викторович, дрова кончаются, — сказала Клара, входя в палатку. — Пошлите за ними Юру, — предложил Кудряшов. — Он у меня единственный маршрутный. На нем же лежит и озоление. Дайте рабочих дня на два. — Откуда же прикажете их взять? — Хотя бы с шурфов. — С основного объекта? — Раньше наша работа была внеплановой, а рабочих давали. — Теперь за вашу работу отвечает старший геолог Жбанов, пусть он и заботится. — Он в больнице. Клара старалась поймать взгляд Кудряшова, но он безучастно уткнулся в бумаги. — Вообще, Клара Ивановна, что вы от меня хотите? Результаты вашей работы, вашего метода либо будут, либо… — Странно, Алексей Викторович. Совсем недавно вы иначе отзывались об этом методе в своих статьях, — перебила его Клара. — Что же тут странного? Просто старался поддержать новшество… — А может быть, надеялись издать результаты чужого труда под своей фамилией? Удар был в цель. Кудряшов вскипел, собрался было что-то сказать, но Клара перебила его: — Алексей Викторович, я не намерена говорить на эту тему. Мы к ней еще вернемся позже, а сейчас прошу об одном: распорядитесь дать рабочих. — С шурфов снять не могу, — отрезал Кудряшов. — Алексей Викторович, мы не выполним задания. — Не беда. Считайте на этом разговор исчерпанным. Не знала Клара, не могла предполагать, чем вызвана метаморфоза в поведении Кудряшова. В своих статьях, опубликованных совсем недавно в специальном журнале, он хотя и с множеством оговорок, недомолвок, весьма осторожно, но в основном положительно отзывался о результатах биогеохимического метода, разработанного Кларой Ивановной Жбановой в экспедиции, возглавляемой им (в статье это акцентировалось). «Нами разработана методика зимних биогеохимических поисков, — писал Кудряшов, — создан ряд приспособлений для успешного проведения их. Новая методика позволяет геологам зимой, еще до выхода в поле, заглянуть в глубь земли на 30–40 метров под осадочный «чехол», который прикрывает рудопроявления и месторождения. А так как таких «закрытых» месторождений в Бурятии немало, то нетрудно представить перспективность подобного рода работ». Методика Жбановой (а между строками сквозило, что родилась она не без участия автора статьи) сулила массу преимуществ, намного удешевляла разведку. Этот метод, продолжал автор, нужен стране, его следует и дальше разрабатывать, внедрять, возможно далее создать отраслевой научно-исследовательский институт и т. д. и т. п. Поторопился Алексей Викторович. Письмо приятеля из Москвы (каждый порядочный геолог-полевик должен иметь в столице приятеля, близкого к «сферам») заставило Кудряшова задуматься. Товарищ извещал, что статья Кудряшова вызвала раздражение у его шефа. Оказывается, выступая на одном высоком совещании, он назвал статью «дешевой рекламой», аметодику Жбановой «очковтирательством, если не больше», что, по его словам, еще в тридцатых годах кучка прожектеров пыталась пропагандировать биогеохимический метод разведки, даже добилась средств, начала работы, но они вскоре были прекращены, дескать только потому, что сама идея биогеохимического метода сродни знахарству. Почтенный шеф кривил душой. Это понял даже Кудряшов. Он знал, что идея не умерла. Ее сторонники продолжали эксперименты и добились немалых успехов. Но вся беда была в том, что новаторы не могли заинтересовать своими исследованиями производственные организации, а значит, и получить на работы денег. Ситуация складывалась не из приятных. Кудряшов понимал: с шефом нельзя портить отношения. Как-никак, а он член комиссии, которая будет давать окончательное заключение об итогах работы экспедиции в целом. Поэтому Кудряшов и решил самолично «провентилировать» вопрос с нужными людьми. Без ведома начальника базы и управления он слетал в столицу. И пока Эдуард разыскивал Кудряшова на базе и по отрядам, чтобы сообщить о нехватке продуктов и массовых заболеваниях, тот «вентилировал» вопрос у шефа. Отсюда и перемена курса. Но Кудряшов не учел, что на свете существует Эдуард Жбане в, что, даже прикованный к больничной койке, Жбанов нашел возможность дозвониться в обком партии. Секретарь обкома, ведающий этими вопросами, навестил его, долго и внимательно выслушивал. И вот результат: экспедиции Кудряшова выделили дополнительные средства, «единички», то есть добавили штатные должности специально на работы по методике Жбановой. Из Москвы, из специального НИИ, в котором, оказывается, вопреки желанию шефа все-таки изучался и обобщался опыт биогеохимического метода разведок, в экспедицию была направлена ученая дама, кандидат наук, «богиня по этому делу», как узнал Эдуард по своим каналам информации. «Богиней» оказалась Зина (теперь она величалась Зинаида Александровна), та самая закадычная подруга Клары по университету, с которой некогда ездили на практику к Великому или Тихому, которая и сочла, что Эдуард похож на Инсарова. Приезд Зины внес свежую струю. Кудряшов, достаточно опытный в житейских делах, решил, что лезть на рожон не следует, и делал вид, будто бы ничего и не происходило.— Как я рада, Зинуша, что мы снова вместе. Ты мне так нужна сейчас! Козья тропа, виляя вдоль берега реки, вывела подруг к кедрачу. Юра, шагавший впереди с веткорезом — длинной палкой с насаженным на конце ножом, — скосил по ветке с разных сторон кедра, уложил пробы в мешочки с номерами профиля. Клара и Зина внимательно осматривали разнотравье. — Странная полынь, — задумчиво проговорила Зина. — Явно нарушена точка роста стебля. — А еще? — спросила Клара. — Мутовчатые пучки листьев, болезненно вздутые побеги. — А что про подмаренник скажешь? — Форма соцветия совершенно изменена. И мак тоже. Смотри, Клара, как он странно окрашен: на лепестках ржаво-бурые пятна. — Да, очень интересные растения, — согласилась Клара. — Придется заложить здесь шурф. К обеду вышли в широкую лощину. По склону сопки, в сухих распадках, предстала перед подругами преждевременная осень. Лиственницы и березы стояли пожухлые. На общем фоне зеленого покрова этот участок выделялся. — Налицо явление хлороза, — показала Клара. — Тоже влияние потоков рассеяния рудных элементов, главным образом цинка. Пока Клара и Зина разбирались в пробах, описывали и помечали их, Юра смастерил очаг из камней, сварил гречневую кашу, поставил кипятить чай. — Слушай, Зинка, — зашептала Клара. — Я скажу одну тайну. Тебе первой, понимаешь? — А Эдик? — И он не знает. Клара взяла Зину за руку, приложила к своему боку. — Чувствуешь? Слышишь, как толкается? Во, во: кулачками, ножками. Особенно бьется по ночам. Живет, Зина! Растет! — Давно? — Пятый месяц. — И ты не боишься лазить по скалам? — Я ничего не боюсь. — Зачем же скрывать? — Только скажи, такой шум поднимется! Мне нельзя рожать. Не хочу никаких охов и вздохов. Дохожу до отпуска, а там… — Клара Ивановна, чай готов, — позвал Юра. — Иде-ем! Клара легко поднялась, уложила в рюкзак журнал, карандаши, компас.
Глава шестая
— Эдик! Мама! Анюта! Это я, — донеслось из прихожей. — Ох что сегодня было! Научно-технический совет. И отчет хорошо прошел, и проект новой печи одобрили. Я уже была в мастерской. Будет удобная, легкая. На себе можно переносить. Представляешь, какая выгода! Прямо к месту отбора проб… Клара продолжала делиться с Эдуардом своими новостями, успевая при этом одновременно осведомиться у свекрови, как вела себя утром Анюта, и сообщить, что продукты на завтра куплены. С ее приходом в комнате как будто стало светлее. Трехлетняя Анюта, возившаяся в своем углу, с радостным визгом бросилась матери в объятия. Эдуард, лежавший на кушетке, улыбнулся, пытался приподняться на локте, но тут же беспомощно свалился на подушку. Четыре года прошло с тех пор, когда Эдуард перенес болезнь, а последствия, как он говорил, «проклятущего» гриппа — сильное головокружение, тошнота, потеря сознания — временами наваливались на него. Эдуард всячески боролся с недугом, соорудил даже приспособление, позволявшее писать лежа, и теперь, когда болезнь валила его с ног, он не оставлял работы, обобщая результаты полевых исследований. Да и как он мог поддаваться слабости, когда перед ним был такой пример, как Клара. Вторичную операцию ей так и не сделали из-за опасности обострения остеомиелита. И вот уже несколько лет ходит она по краю пропасти, ежеминутно грозящую ее поглотить. Клара словно забыла о своей болезни. И не потому, что избавилась от нее. Просто отметала даже мысли о ней. А сколько было переживаний, когда Клара ушла в родильный дом, и сколько радости, когда вернулась с долгожданной дочкой. Она словно переродилась. Порозовела, пополнела. Жизнь была заполнена заботами о ребенке, о больном муже, о работе. Но она не ныла, не жаловалась. Вставала чуть свет, все успевала сделать быстро, скоро, весело. И даже когда к ним переехала свекровь Елизавета Николаевна, чтобы взять на себя заботы по дому и уходу за Анютой, то и тогда Кларе хватало дел. Елизавета Николаевна души не чаяла в невестке, радуясь ее счастью с Эдуардом, но к этой радости примешивалась тревога за Клару. Свекровь не могла без содрогания смотреть на шрам, который Клара по утрам старательно прикрывала прической. Она приходила в ужас, бывало наблюдая, как невестка, кончив кормить Анюту, занималась гимнастикой, перегибалась через стул, делала «шпагат» и всяческие другие, по словам Елизаветы Николаевны, «выкрутасы». — Ах ты господи! Что же это делается? — сокрушалась Елизавета Николаевна. — Эдик, да запрети ты ей бога ради. Долго ли до беды? Не удержится да виском об угол… Еще больший ужас у доброй женщины вызывали утренние процедуры. Клара приносила из колонки ледяную воду, становилась в таз и обливалась из ковшика. — Батюшки мои, Кларушка, доченька, образумься! Ты же простудишься, воспаление легких схватишь. — Нет, мамочка, не схвачу. В этом секрет вечной молодости. Мне надо прожить триста лет. Чем я хуже черепахи? — И хохочет, заливается, растираясь до красноты махровым полотенцем. Елизавета Николаевна только руками разводила, когда приезжие геологи привозили из тайги письма от Эдуарда и Клары и рассказывали, как Клара переправлялась на лодках и плотах через пороги и какой она хороший товарищ и компанейский человек. Не мудрено, что и зимой, как только Эдуард с Кларой возвращаются с поля в город, в квартире Жбановых вечно толпится народ. Смех, песни, танцы, споры. О чем только не спорят! Потом даже сами не помнят о чем. Но сегодня тихо. Никто почему-то не заглянул на огонек. А может, это и к лучшему. Иногда хорошо побыть своей семьей, вчетвером. Вечером почтальон принес два письма. Одно со штампом «воинское» было от Юры. В прошлом году его взяли на действительную службу. Сколь ни коротки солдатские досуги, Юра все же находит время регулярно писать Жбановым длинные письма. Он рассказывает, как скучает о бродячей жизни, о быстрых речках и тайге, расспрашивает о каждом участнике экспедиции, интересуется, кто управляется вместо него у печи, довольна ли им Клара Ивановна, каковы результаты ее работ. И лишь в самом конце письма, преступая молчаливый запрет касаться этой темы, Юра робко осведомлялся о ее здоровье. Второе письмо было от Зины из Москвы. Зина сообщала, что вышла замуж («Он поэт, хотя еще и не очень-то известный, но будет, обязательно будет известным»), что в их институте разрабатывается проект проведения комплексных биогеохимических разведок одновременно на больших площадях и в широких масштабах в Восточной Сибири. Отрядам будут приданы вертолеты, вездеходы, всяческая новейшая техника и приборы, которые предстоит испытывать. И вообще перспективы головокружительные. «Тебе, Кларочка, — заканчивалось письмо, — пора всерьез подумать о сборе материалов для диссертации. Пора, пора, дорогая, «остепеняться»…» Клара уложила Анюту спать, подсела к Эдуарду на край тахты, долго молча смотрела ему в глаза. Потом сказала: — Хорошо мне, Эдик. Знаешь, как я счастлива! — Помолчала и добавила: — Зина права: надо готовить диссертацию. Потом она ушла на кухню и там долго о чем-то шепталась с Елизаветой Николаевной. А еще позже, укладываясь спать, шепнула на ухо мужу: — Эд, родной мой, а у нас будет сынишка…Третий день Елизавета Николаевна живет у невестки в отряде. Место красивое. Рядом озеро, лес. Детям тут раздолье. И быт налажен. У хозяев дом просторный, с верандой. И Кларе место в доме нашлось бы, а она не захотела в нем жить. Говорит, что не любит стеснять людей, привыкла жить по-таежному, и поставила свою палатку на берегу речушки в огороде. Эдуард с Зиной далеко, где-то в горах, где ни троп, ни дорог. Только вертолетом и можно до них добраться. Клара осталась здесь, поближе к людским местам. Рвалась тоже в глушь, но Эдуард настоял: — Не забывай, что ты теперь многодетная мать. К тому же здесь, у озера, наиболее трудный для исследования участок и люди, малознакомые с твоей методикой, могут завалить дело. Пришлось Кларе согласиться. Вчера она дала свекрови письмо, полученное от мужа. «Здравствуйте, мои родные! — писал Эдуард. — Уже двадцать дней ничего от вас не получаю: бережем вертолетные рейсы. Флорой занимаемся втроем. Нам с Зиной помогает студентка-практикантка. Они сейчас от меня километрах в десяти. Здесь все уже отобрано и озолено. По грубым подсчетам, отобрано примерно две трети всех проб. Но результаты анализов будут известны только через месяц. А так хочется сопоставить с тем, что нашли вы там, внизу. Кстати, Клара, твои показатели не обманули: золото есть. Мы даже нашли самородок. Хотя еще начало августа и у вас небось стоит еще теплынь, здесь уже сентябрит. Ночью вылезаем из спальников и отогреваемся у костра. Над гольцами шапкой клубится постоянный туман. Время от времени он сползает вниз, в кар, на лагерь. Иногда туман становится плотным и сеется дождем или градом. Ходим прямо в туче, град сыплется не сверху, а с боков. Ледники, снег, холодный камень, пронизывающая сырость. За день так устанешь и намерзнешься, что готов обнять костер. А Юра очень хитроумный парень. Армейская служба, видимо, многому его научила. Добыл козью шкуру, пришил сзади фартуком. Его сначала подняли на смех, а потом сообразили, что в его чудачестве наше спасение. Нам часто приходится сидеть на холодных камнях. Теперь мы все стали хвостатыми. Хорошо, что работу на гольцах мы закончили. Там сейчас выпал снег. Не знаю, смогу ли отправить вам это письмо. Пишу его почти месяц, как дневник. У нас работа вот-вот свернется. Скоро будем на базе, а там в палатках печки. Мне придется сходить на свой участок, теперь он называется «Высотный». Клара, о каких болезнях ты спрашиваешь? Нет их у нас. Есть огорчения, заботы, но никаких недомоганий! Помнишь наши выводы: природа кидает болезни горстью, и уж дело человека держаться стойко и побеждать или же размагничиваться и погибать от пустяка. Не каждый смог бы выбраться из того состояния, в котором когда-то была ты… О доме стараюсь не думать. Даже странным кажется, что у меня есть сын, который уже что-то лопочет. Да и жена мне вспоминается больше студенткой-первокурсницей, нежели будущим кандидатом наук. Будто и не было, Клара, этих десяти лет. Будто вся наша жизнь — юношеская мечта. А как, наверно, выросла Анюта! Думал привезти ей белочку, но здесь нет никаких зверей. Тайга пустая и злая. Письма твои получил через месяц. Подозреваю, что рисунки Анюты только наполовину ее. Скажи ей, что папа приедет и научит ее рисовать. Ах как хочется увидеть Жаника! Сынулечка и доченька, скоро мы с вами встретимся. Только бы вертолетчики не подвели. Целую всех крепко и ласково. Ваш папа». Елизавета Николаевна прочла письмо, прослезилась, подумала: «Эх дети, дети. Вы и взрослые уже, сами стали родителями, а для меня так детьми и остались. Ну когда вы угомонитесь, когда будете жить, как все живут: домком да ладком. Так нет, все в разъездах, в разлуке. И Клара больно до жизни жадна. Раньше страшилась остаться за бортом, мечтала о работе, о детях, о счастье. А теперь ей и этого мало: подавай диссертацию! Носится с научными книгами, не бережет себя. Только и твердит: «Сколько лет добивались результата. Вот они, показатели. Этим летом все подытожится». И мужем командует: «Эдик, поддерживай тонус!» А где предел этому «тонусу»? В прошлом году, например, только родила Жаника, — казалось бы, сиди дома да на детей радуйся. А она на курсы…» И все же Елизавета Николаевна в душе гордилась невесткой, гордилась и жалела. Видела, нелегко достается невестке ее хлеб. Раньше Елизавета Николаевна думала, что у Клары только и заботы — дела научные. А оказывается нет: днем одна работа, а ночью другая — над бумагами сидит, записи ведет, карты вычерчивает. Замоталась совсем. А все только и слышно: «В сроки не уложимся. Торопиться надо». — Что это вас так нагружают? — спросила как-то Елизавета Николаевна. — Сами спешим. Результаты видеть хочется. Столько лет к этому стремились. Если подтвердятся наши предположения, метод пойдет по всем геологическим партиям края. Поэтому и Эдуард с Зиной в таких трудных условиях работают. От их и наших результатов зависит многое. Вот опять Клара ушла, целый день по солнцу ходить будет. Раньше ей это строго запрещалось. Да разве только это? Каких только страхов ей не наговорили: ни работать, ни ходить, ни рожать. А она уже вон сколько лет работает, двоих детей мужу подарила. Может, самое страшное уже позади? Дай-то бог… Подумав так, Елизавета Николаевна вдруг встрепенулась, вспомнив, как сегодня утром Клара ни с того ни с сего спросила ее: — Мама, вы кого больше любите: Жаника или Анюту? — Да что ты, доченька, — растерялась Елизавета Николаевна, — они для меня кровиночки, одна моя радость. Клара порывисто схватила свекровь за руку: — Берегите их, бабушка, любите! Это было сказано с такой тревогой в голосе, что Елизавета Николаевна испугалась. — Да что ты, доченька. Тебе что, недоброе почуялось? Успокойся. Смотри, какие краснощекие бутузы растут. — Спасибо, мама. Я побегу. Шурф у нас проверочный заложен… — И, чмокнув свекровь в щеку, убежала.
Заросший, бородатый человек держал на руках Анюту и Жаника и смеялся. — Эда! Сынок! Приехал! — бросилась к нему Елизавета Николаевна. — Здравствуй, мама! Смотри, как чижики мои выросли за лето! Не забыли меня. Ах вы, птенчики мои! Как я по вас соскучился. Жаник совсем стал мужчиной. А где Клара? — Да разве ее можно застать? Чуть свет ушла. Роздыха себе не дает. Ладно ли это, Эда? — Время у нас такое, мама. Я привез отличные результаты, Клара ахнет! Это она предложила искать на нашем участке подтверждение методики. Некоторые специалисты смеялись. Хорошо, что главный геолог управления поддержал, предложил составить партию из добровольцев. Если и здесь, у Клары, открытие подтвердится, это будет большая победа. Ты правильно, мама, сделала, что чижиков привезла. Кларе спокойнее. Как ее здоровье? — Вроде бы ничего. Весела, бодра, — начала мать, но тут Елизавете Николаевне вспомнилась утренняя сцена, происшедшая недели две назад, и она снова встревожилась. А вдруг скрывает что-то? — Поостеречься бы ей, Эда. — Клара торопится до зимы обобщить материал, представив всю карту месторождения. Отчет будет грандиозный. Материал для диссертации собран огромный. — Было бы здоровье. А ну как случится что? Двое детей… — Что ты, мама, пугаешь? Или заметила что? — Нет, Эда, я ничего не заметила.

За палаткой небольшая прозрачная говорливая речушка. На ее берегу разложен костер. Ветер-низовик, дохнув на огонь, взбивает искры, бросает на людей и уносит вместе со сморщенными прошлогодними листьями. Чуткая вечерняя зорька с лёта подхватывает звуки, голосисто несет по долине громкий говор, музыку, смех. — Что это за гулянье у вас в огороде? — спрашивает соседка хозяйку Жбановых. — У квартирантки муж приехал с гор. — Геологи, что ли, собрались? — И сельчан хватает. Почитай, вся молодежь там. На музыку, как бабочки на огонь, летят. Танцы, пляски… — По-городскому танцуют, — шепчутся сельчанки. — Нашим не суметь. Елизавета Николаевна сидит на стуле. У нее на руках прикорнул внук. Он сегодня очень разволновался от встречи с отцом, раскапризничался, не пошел спать. А теперь посапывает, свернувшись калачиком. Мать забыла утренние страхи. Вон как Клара веселится. — Становись все! — командует Клара и берет аккордеон. До поздней ночи от реки плывет музыка, смех, песни, веселые возгласы.
А ночью Елизавете Николаевне снились несуразные отрывочные сны. Ей чудились стоны, вздохи, торопливые шаги. Она проснулась с неясным тревожным чувством. Подошла к внукам, поправила на них одеяльца, поцеловала. Может, сходить к палатке Эдика и Клары? Вышла на порог веранды. Ночь, глубокая, тихая, с желтой спелой луной над горами, успокоила ее. А утром, когда проснулась, Клара уже была одета. — Где Эдуард? — К начальнику пошел. Пока он ходит, я к шурфам сбегаю. Срочно нужны данные. — Хоть бы позавтракала. Я быстро разогрею. — Не хочу, мама. Я недолго. Свекрови показалось, что Клара бледна, измучена. Наверно, не выспалась после танцев-то. Отдохнуть бы денек. Ни выходных, ни отгулов все летечко. Прибежал Эдуард. — Где Клара? — К шурфам пошла. — Опять свое. Ей в больницу надо! Разве ты не знала? У нее по ночам бывают припадки. Поэтому она и спала в палатке, чтоб не напугать тебя и ребят. — О господи! — Начальник распорядился отправить ее в город. Эдуард бежал через лес, кустарник. — Только бы ничего не случилось! — шепчет он. — Я отвезу ее в больницу. Пусть опять будут чистки, пункции, операции, пусть вернутся все ужасы первых лет семейной жизни! Пусть что угодно, только бы она жила! — Кла-а-ра-а! — несется над далекими сопками. Но никто не отзывается на призыв Эдуарда. Только где-то над озером надрывно кричит одинокий — кулик. Вот и первый шурф. Его заложили в прошлом году по указанию Клары. Метрах в пятистах — второй. Качаясь от слабости, Эдуард продолжает бежать. У третьего шурфа поднимает ее планшет. И чуть впереди на краю насыпи четвертого шурфа он видит Клару, лежащую лицом вниз с широко раскинутыми руками. Последним усилием она пыталась обнять всю землю. Эдуард прижимается ухом к ее груди. Сердце не бьется. — Кла-а-а-ра-а-а!
Глава седьмая
Перед рассветом Юра вышел из палатки. Падал снежок. У костра белела заснеженная фигура Жбанова. — Почему не спите, Эдуард Федорович? — Думка одолела, Юра. — Геолог стряхнул снег, поправил костер. — Посиди со мной, дружище. Юра пристраивается рядом, закуривает, и между ними снова, в который раз, происходит безмолвный разговор. Все о том же. …Прошло четыре года с того дня, как не стало Клары. Но Эдуард никак не может освоиться с мыслью о потере. Ведь все вокруг осталось таким, как было и при ней. Так же пробивается из земли, растет, зеленеет и жухнет трава. Все так же выпадают и снова тают снега. Все так же завывают зимами в горах пурги, а летом шумят теплые дожди. Как и при Кларе, вокруг те же старые спутники, с которыми столько исхожено троп по Саянам, Забайкалью… Как и раньше, — рядом тот же верный, всегда готовый прийти на помощь Юра. После службы он окончил вечернюю школу, курсы радиометристов и вернулся сюда, чтобы помогать Эдуарду и всем, кто продолжает дело Клары. Юра считал себя должником Клары. Она спасла ему жизнь, она пробудила в нем самое лучшее качество человека — потребность быть всегда полезным людям, обществу. Она заставила его поверить в себя, полюбить суровый труд искателя… Имя Клары никогда почти не произносится в разговоре Эдуарда и Юры, но они почти постоянно ощущают ее незримое присутствие. В блеске струй горного потока им чудятся ее лучистые то строгие, то улыбчивые глаза. В шуме вершин кедров им слышится ее бодрый голос, зовущий к действию, вперед, скорее вперед… Нет, не напрасно торопилась Клара. Разработанный ею метод зимних биогеохимических поисков применяется в ряде районов страны. Геологи Казахстана, исследуя с его помощью сухие степи и полупустыни, обнаружили несколько биогеохимических аномалий меди, свинца, цинка. Проверка бурением подтвердила наличие рудных тел. Уральцы доказали эффективность этого метода при поисках медноколчеданного оруденения. Это было признание, которое увековечило имя Клары. Значит, не ушла она из жизни! Значит, оставила след в мыслях, сердцах, душах ее друзей, коллег, последователей! Этим Клара выполнила свой долг ученого. Да разве только в этом ее жизненный подвиг? Она выполнила священный долг женщины! Дала жизнь двум существам, которые должны вырасти — и вырастут! — людьми, достойными своей матери. В чем же тогда главный подвиг Клары Жбановой? Кто ответит на этот вопрос?.. — Давайте отдыхать, Эдуард Федорович, — нарушает молчание Юра. — Скоро рассвет. — Ты прав, дружище. Отдых нужен. Завтра, точнее, уже сегодня, у нас будет трудный день. Мужчины скрываются в палатке. Скоро оттуда доносится их мерное дыхание. Легкий снежок продолжает идти, укрывая палатки, тюки, оленей, вертолет, стоящий поодаль. Порыв ветра прилетает с вершин гор, смахивает белую порошу, но тут же стихает, чтобы не тревожить короткий сон искателей… Завтра у них трудный день. Еще один трудный.Об авторе Никитина (Постнова) Антонина Ефимовна родилась в 1926 году в с. Ново-Студеновка, Сердобского района, Пензенской области. Во время Великой Отечественной войны служила медсестрой в полевом эвакогоспитале. После войны окончила педучилище, работала учительницей, затем корреспондентом районной газеты, в настоящее время — литсотрудник Энгельсской газеты «Коммунист» (Саратовская область). Автор многих очерков, статей, рецензий, фельетонов в периодической печати. Повесть «Маршрутом жизни» — первое крупное произведение А. Е. Никитиной и первое ее выступление на страницах альманаха. В настоящее время автор работает над новой повестью из времен Отечественной войны — «Девчонка из Ахун».
К повести Антонины Никитиной «МАРШРУТОМ ЖИЗНИ»

Клара Жбанова в районе «Студенческого» месторождения. Хребет Хамар-Дабан

Клара Жбанова с лайкой Рудой. Саяны, 1959 год
Валентин Зорин
ПЯТЬДЕСЯТ ЛИНЬКОВ

Рассказ Рис. Е. Скрынникова
От норд-норд-веста еще шла низкая и частая волна, с хлюпающим коротким звуком била в смоленый борт транспорта, но ветер стихал. Небо светлело, одевалось в розоватые тона и было ясно, что вскоре установится штилевая погода. В этих широтах она была в общем-то редкостью, хотя июнь так или иначе вступал в свои права. «Начато, что и говорить, во благовременье», — подумал Невельской, вжимая в глазницу медный окуляр подзорной трубы. Прозрачное, чуть с желтизной окружье, в которое вдруг втиснулся мир, рывком приблизило низкий заснеженный берег, белые буруны среди черных камней-валунов, смутно рисующиеся вдали темные горы, размытые пятна леса… Окружье медленно передвигалось, и вот уже только зыбкая, едва уловимая линия горизонта плыла в нем, деля надвое линзу. Северный берег, неуютный берег неуютного Сахалина, Охотское море… — Во благовременье, — задумчиво произнес капитан-лейтенант и тут же досадливо поймал себя на том, что эти слова вырвались у него помимо желания. Он опустил трубу, поежился от ощущения мучительного озноба — июнь июнем, а ветер холоден и остр, как лезвие ножа. И невольно покосился на своего старшего помощника лейтенанта фон Лютце, который стоял, заложив руки за спину, высокий, неподвижный и безучастный ко всему на свете, как статуя. Впрочем, о безучастности лейтенанта пусть полагают те, кто его не знает. Вот и сейчас он медленно повернулся всем корпусом — не изменив позы, не разомкнув рук за спиной, колючими точками блеснули глаза, рыжевато засветились бакенбарды на щеках, и Невельскому на миг показалось, что длинное остзейское лицо помощника опалило пламенем. — Вы изволили что-то заметить, Геннадий Иванович? — густым баритоном, тщательно выговаривая слова, осведомился помощник. — Прикажите спустить шлюпку, — холодно сказал Невельской и заметил, как поджались тонкие губы лейтенанта, как посерели щеки. Но руки привычно метнулись вниз, выпятился подбородок. — Есть приказать спустить шлюпку! И зашагал вдоль шканцев, размеренно застучал каблуками по трапу. Невельской усмехнулся. Вчера после постановки на якорь, когда, отужинав, дымили трубками и болтали в кают-компании о всякой всячине, лейтенант фон Лютце вдруг заговорил о Петербурге, о дальновидности и мудрости начальника Главного морского штаба князя Меньшикова. Потом бросил в рот карамельку, запас которых всегда возил с собой, откинулся на спинку кресла и забарабанил тонкими белыми пальцами по медному бортику стола: — Полагаю экспедицию нашу неизмеримо удачливее, ежели направлена она была бы в иные широты… Холодно-с, господа! Разговоры в кают-компании оборвались. Офицеры замерли, настороженно глядя на командира и на его помощника. Кому на транспорте «Байкал» не известна была страстная одержимость Невельского, утверждающего, что между материком и островом Сахалин неминуемо должно быть водное пространство. Да и только ли на «Байкале»? Во всяком случае любой из команды знал, что даже самое крохотное сомнение по поводу пользы и необходимости этой экспедиции воспринимается капитан-лейтенантом Невельским с какой-то особой болезненностью, как большая обида… Фон Лютце стучал пальцами и, прикрыв веками глаза, чуть покачивался, словно в задумчивости. Потом, видимо, воцарившаяся в кают-компании тишина насторожила его. Он перестал раскачиваться, напрягся. И встретился взглядом с командиром. — Продолжайте, Эдуард Венедиктович, — тихо сказал Невельской. Лейтенант чуть растерянно вильнул глазами, но тут же его лицо вновь обрело всегдашнее надменное выражение. — Мое мнение, Геннадий Иванович, вам известно пре-достаточно-с… Хоть и в общих чертах только. Не смею поэтому утруждать… — Да нет, отчего же… Прошу вас, продолжайте. Итак, ваше мнение… — В таком часе извольте-с. Тем паче, что и не мое это мнение, а известного ныне всему свету Лаперуза, а также уважаемого, полагаю, вами Крузенштерна… Уверен, что знания их и авторитет превыше любых досужих суждений. Да и светлейший… — Достаточно, — твердо произнес Невельской и встал. Вспыхнула и заискрилась золотая канитель эполета на его плече — лампа под подволоком покачивалась и бросала желтые блики на стол, лица офицеров, переборки… — Достаточно, господин лейтенант. Однако хочу сказать вам, нет и не может быть на свете непререкаемых суждений, а отказ от постижения истины возможен лишь для людей бессердечных и к славе отечества равнодушных. Известно, что весьма почитаемый мной адмирал Крузенштерн таким недостатком не страдал. Вы все свободны, господа! — Позвольте, позвольте! — заклекотал фон Лютце, — я, кажется, понял ваш намек! Столь предерзостно о светлейшем князе!.. Но командир уже покинул кают-компанию. …Сейчас, ожидая, когда будет доложено о том, что шлюпка на воде, Невельской мерял шагами узкую шканечную площадку. Да, его сиятельство начальник Главного морского штаба отнюдь не собирался проникаться доверием к планам молодого капитан-лейтенанта. Есть ли пролив, отделяющий Сахалин от материка, или он не существует, на этот счет давно имеется определенное мнение. И на всех географических картах значится узкий перешеек, связывающий северо-западную оконечность острова с верхней кромкой берега в устье Амура. Лишь после седьмого представления в Главный штаб записки с проектом исследования и поисков пролива упрямому до дерзости капитан-лейтенанту была вручена инструкция: «…осмотреть юго-восточный берег Охотского моря между теми местами, которые были определены или усмотрены прежними мореплавателями». И только. Внизу взвизгнул и заскрежетал блок. И тотчас же послышался хлесткий удар о воду. Раскатилась замысловатая ругань, и Невельскому на миг показалось, что сиплый, с пропитой хрипотцой голос боцмана застрял у него в ушах. Невельской поморщился, шагнул к балюстраде, ограждающей шканцы, перегнулся через планшир. Бледный до синевы, вытянув руки вдоль парусиновых брюк, возле фальшборта стоял матрос. На лице его словно не было рта — так крепко были стиснуты губы. Возле макроса, подпрыгивая, размахивая кулаками, сыпал бранью Соцман. А рядом статуеобразный лейтенант фон Лютце, вздергивая угловатыми плечами, наотмашь хлестал матроса ладонью по щекам. Матрос откидывался всем корпусом назад, и голова его моталась под размеренными ударами, как тряпичная. — Господин лейтенант! — раздельно и громко сказал Невельской. Фон Лютце обернулся рывком, убрал с лица гримасу брезгливости. — Зта свинья, господин капитан-лейтенант, упустил лопарь[1] талей… — Но шлюпка цела? — Так точно, вашскородь! — заорал боцман, подбрасывая руку к шапке. И, тут же обернувшись к матросу, налился кровью: — У-у, не нашего бога идол! Искалечу! — Отставить, боцман, — бросил командир и неторопливо начал спускаться на палубу, ощущая под ладонью влагу отсыревшего в охотских туманах планширного дерева. Матросы работали сноровко и молча, переводили спущенную шлюпку дальше, к откинутому уже выстрелу[2] со штормтрапом, с узластыми шкентелями. Провинившийся по-прежнему стоял вытянувшись и по-уставному задрав подбородок. Правая рука матроса вздрагивала, едва заметно теребила пальцами парусину штанины. — Пятьдесят линьков скотине! — прошипел фон Лютце, — да погорячее! Слышишь, боцман? Проверю! — Есть, вашбродь! — Твоя фамилия Кудинов? — спросил Невельской, подходя к матросу, опустившему голову. — Ну-ка, покажи, братец, руки. Корявые ладони были покрыты свежими бледно-розовыми струпьями. Невельской взглянул на фон Лютце. — Этот матрос, если вы помните, при переходе через Японское море, в шторм исправил повреждение румпель-штертов… — Беру на себя смелость полагать, — лейтенант дернул плечом и надменно выпятил губу, — что приказание старшего помощника командира должно быть исполнено…

— Мы еще вернемся к этому, — сказал Невельской и, уже не глядя на фон Лютце, поправил застежки плаща на груди. — Боцман! Гребцов! Кудинов пойдет лотовым! И приготовить к спуску еще две шлюпки! — Есть! — весело загорланил боцман, и было ясно, что он доволен таким оборотом дела. — А ну, идолы не нашего бога! По лопарям!
…Амур безостановочно катил свои зеленоватые с металлическим оттенком волны. Встречаясь с водами Татарского пролива, он пенился, вздымал никогда не опадающий вал, шумел ровно и величественно. Лиственницы по берегам устья казались зеленым дымом, который не мог развеять никакой ветер. Второй день шлюпки с транспорта «Байкал» исследовали эту могучую реку. Затем они вышли в лиман и повернули к югу. Сидя на корме головной шлюпки, Невельской положил на колени карту и, придерживая ее край, загибающийся от ветра, делал пометки — вот прошли мысы Ромберга и Головачева… Берега материка и Сахалина сливались впереди в одну темную, видимо густо поросшую лесом, линию. «Повернуть?» — мелькнула мысль, но капитан-лейтенант тут же отбросил ее. — Навались, братцы! Кудинов! — Есть! — Сколько на лоте? — Пять саженей! — отозвался матрос, выволакивая на носовой рыбине мокрый линь с навязанными на нем красными тряпицами марок-отметок. Пять саженей… Что ж, четыре-пять отмерялось на протяжении всего пути. Это говорит о том, что, будь там, впереди, перешеек, глубина неминуемо должна упасть — круговороты воды, образующиеся от амурского течения, охотские штормы обязательно намыли бы в этих местах постепенно повышающуюся отмель… — Навались! Весла ровно и сильно врезались в низкую, торопливую волну, гребцы дружно откидывались, снова заносили весла, с шумом выдыхая, и жмурились от пота, заливавшего глаза. На красных, казавшихся одинаковыми в этом усилии лицах двигались жесткие желваки и глаза смотрели пристально и уверенно. Линия берегов приближалась — довольно высокая полоса поросшей лесом земли. «Неужели ошибся? Неужели здесь действительно перешеек и Лаперуз был прав?.. Еще кабельтов, два… — Навались! Сколько на лоте? — Пять! — радостно прокричал Кудинов. И словно распахнулась земля, раздвинулась двумя мысками, расположенными как бы один позади другого. И впереди блеснула узкая, как лезвие японского меча, полоса пролива. — Вот он, — устало сказал Невельской. Весла взметнулись вверх, как при торжественном приветствии высоких персон. Двенадцать простуженных, просоленных морем глоток рявкнули дружно: — Ура! Ура! Ура! Невельской поймал напряженный, полный тревоги взгляд Кудинова, понял его немой вопрос и подумал, что приказ фон Лютце о пятидесяти линьках он отменит, а там господин лейтенант пусть думает и делает, что хочет. Он, капитан-лейтенант Невельской, сделал бы все для этих людей, пришедших вместе с ним к победе. Сделал бы… Но ведь и Коцебу даже с помощью Румянцева, вернувшись после кругосветного плавания, не смог освободить своих моряков от постылой казарменной лямки, от телесных наказаний. Открытый пролив блестел и переливался рябью. «Для тебя, Россия!» — мысленно произнес Невельской, снова и снова всматриваясь в полосу воды и не будучи в силах оторвать от нее взгляда. Ветер шелестел картой, и рука привычно нащупывала карандаш, чтобы сделать отметку.
Об авторе Зорин Валентин Николаевич родился в 1930 году в Ленинграде. Окончил Батумское мореходное училище. Ходил на различных судах в Черном и Средиземном морях, в Индийском и Атлантическом океанах. В настоящее время литературный сотрудник краевой курортной газеты «Черноморская здравница», член Союза журналистов СССР. Автор нескольких сборников повестей и рассказов: «Голубое утро» (1959 г., Краснодар), «Зюйд-Вест» (1962 г., Краснодар), «Слоны Брамапутры» (1970 г., Краснодар), а также ряда рассказов и повестей, опубликованных в журналах «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Кубань», «Дон» и других. В альманахе выступает впервые. Сейчас работает над новой книгой повестей и рассказов о путешественниках, исследователях, оставивших свои имена на карте мира.
Аркадий Фидлер
СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ И ДОЛИНЫ

Глава из книги Перевод с польского Д. Гальпериной Рис. А. Соколова
Банф
Национальный парк в Банфе поражает своей могущественной природой и до некоторой степени также и индейцами. Но прежде всего — природой! Это красивейший парк не только в Канаде, но, вероятно, во всем мире. Название «парк» не должно вводить в заблуждение: девять десятых его территории — это более дикая и безлюдная глушь, чем наша Беловежская пуща, и в несколько десятков раз обширнее пущи. Зато на оставшейся одной десятой части к вашим услугам все блага цивилизации и комфорта. Современный улыбающийся городок Банф — это прелестная, чистенькая, сверкающая горная жемчужина. Банф можно было бы назвать летней столицей Канады, подобно тому как Закопане гордится наименованием зимней столицы Польши. Несколько тысяч его жителей из кожи вон лезут, чтобы сделать приятной жизнь ста тысячам гостей. И совершают чудо: обеспечивают удобным ночлегом, вкусно и без очередей кормят — и все это дешевле и любезнее, чем где-либо в другом месте Канады. Эту местность, привлекающую ныне толпы восторженных туристов, белый человек увидел впервые лишь в 1841 году, когда директор Компании Гудзонова Залива и властитель Западной Канады Джордж Симпсон пешком и на лодке пересек страну до побережья Тихого океана. Но сей трезвый шотландец, поглощенный торговлей бобровыми шкурками, не заметил красоты пейзажа. Сорок лет спустя, в 1883 году, инженеры, строившие здесь Трансканадскую железную дорогу, открыли не поразительное величие природы, но горячие серные источники на склонах одной из гор вблизи нынешнего городка Банф. Для охраны источников они добились в Оттаве признания небольшого участка земли — десять квадратных миль — национальной собственностью. И только позднее проезжающие по железной дороге путешественники, очарованные открывавшейся из окон вагонов необыкновенной панорамой вершин и долин этой части Скалистых гор, осознали их прелесть и истинную ценность. Они подняли шум и добились создания Национального парка, ставшего теперь законной гордостью каждого канадца от океана до океана. Поражает редкостное сочетание всего, что есть в природе чарующего и ошеломляющего: сказочных гор, долин, каньонов, девственных лесов, озер, водопадов, бальзамической свежести воздуха; создав все это, природа добилась здесь высшего совершенства. Другая же, не меньшая достопримечательность парка — дикие звери. Впрочем, какие там к черту дикие! Несколько десятков лет их не отстреливали, не истребляли, не спугивали, и они привыкли считать человека своим сородичем, смирным двуногим зверьком, а поэтому доверчиво и дружелюбно подходят к нему, как подходит олень к лосю, лось — к горной козе. Тот простой факт, что здесь перестали хозяйничать смертоносные пули, изменил поведение зверей настолько основательно, что некоторые зоологические законы утратили свою силу. Прежде всего смягчились повадки и темперамент самых грозных зверей. Даже такой кровожадный хищник, как дикий властелин чащобы гризли, сейчас и не думает нападать на людей, когда те по неосторожности оказываются на его пути. При виде такой идиллии возникает озорная мысль: прислать бы сюда советников по разоружению из Женевы, чтобы они воочию убедились в удивительных результатах разоружения! Забавные звери, так доверчиво подходящие к своим двуногим братьям, приобретают в Глазах людей дополнительную прелесть: любой обыватель из Соединенных Штатов или канадский горожанин начинает чувствовать себя здесь возвышенным существом, подлинное благородство которого постигают инстинктивно лишь дикие звери. Я настолько светлая личность, думает он, что даже звери от меня не убегают. До чего приятно фотографироваться в этом ореоле с разными лесными созданиями. Признаюсь, что путешественники из Польши не составили исключения. Несомненно, когда смазливая мисс позирует для снимка, стоя рядом с настоящей прекрасной ланью, на ней отражается красота животного и девушка приобретает черты Дианы, по крайней мере в глазах своего boy friend’a[3]. Другая приятная сторона жизни зверей в Банфе — это отсутствие вражды между ними и угрозы со стороны человека. Здесь все живет в мире, словно в библейском раю. Полно диковинных зверей, бродящих так же невинно, как в детских грезах человека. Медведи, обычно грозные животные, стоят здесь на задних лапах и ластятся к людям ради кусочка сладкого печенья, чему их никто специально не учил, — мохнатые чудовища с парадоксальной благовоспитанностью ангелов. Все это выглядит сказочно и нереально. Как же охотно люди отрываются здесь от повседневной действительности, утомляющей своей обыденностью! Чтобы усилить эффект, предусмотрительные отцы города Банф всем улицам, за исключением главной — Банф-авеню, присвоили названия окрестных зверей. Так, недалеко от реки Лучной — Bow Riwer — протянулись улицы Рысья и Бизонов, параллельно им улицы Карибу, Волчья, Хорьков и Лосиная, есть, конечно, и Медвежья, и Гризли, и улица Горных Баранов, Бобровая, Выдровая, Росомашья, и так более тридцати улиц. Не обошли ни одного из любимых животных, и даже белкам, кроликам, ласкам и суркам воздали должное. Все эти звери в большом количестве околачиваются тут же за городом, часто шныряют между домами и избегают лишь центральных, более людных улиц днем. Автомобилей они не боятся. Только стадо бизонов ввиду их исключительной ценности заключено в огромном заповеднике, где они живут в естественных условиях. Остальные ходят по белу свету, где и как им вздумается. Например, в районе Пурпурных озер — Vermilion, расположенных в полумиле от города и лежащих у подножия могучего массива Норквей (8275 футов над уровнем моря), утром и вечером можно подойти к лосям, пасущимся на болотах. Озорные черные медведи нередко выбегают из чащи на гольфовое поле к, играя, похищают белые шары для гольфа; забавно, что это происходит в нескольких шагах от центрального Банф Спрингс Отеля. Другие медведи, большие лакомки (а может быть, те же самые проказники), смешно ковыляя, окружают свалку за городом, куда вывозятся отбросы, и с явным наслаждением роютсясреди банок из-под консервов.
И еще одна любопытная черточка, если я не ошибаюсь, единственная в этом роде во всем мире. Известный канадский писатель Ральф Коннор свою повесть из истории здешних индейцев назвал «Каньон Танца Солнца» (Sundance Canyon); основное действие ее происходит в одной из долин вблизи нынешнего городка Банф. Благодарные жители из уважения к автору не только эту долину назвали Каньон Танца Солнца, но близлежащим горам дали название Горы Танца Солнца (Sundance Range) и поток в долине наименовали потоком Танца Солнца (Sundance Greek). Мудрый и добрый народ живет в Банфе.
Индейские дни
В середине июля в Банфе поднялась радостная суматоха, засуетились тысячи туристов. «Индейские дни в Банфе» (Banff Indian Daus) — это не шуточный магнит. В эти дни сюда съезжается около тысячи индейцев из трех близлежащих племен: ассинибойнов, кри и черных стоп, чтобы организовать свои игры и покорить толпы туристов. Веселые съезды прерийных племен в середине лета не являются чем-то новым. С незапамятных времен, еще задолго до появления белого человека, они относились к главным ежегодным обрядам. Прежде всего во время исполнения Танца Солнца — важнейшего обряда индейцев прерий — происходило торжественное посвящение юношей в воинов. Когда белые захватили прерии и заключили индейцев в резервации, они настрого запретили им исполнение Танца Солнца и всякие собрания племен, считая их подозрительными. Этим и подобными грубыми приказами они, как известно, нанесли индейцам тяжелую моральную и физическую травму. В таких условиях учреждение около трех четвертей века назад Индейских дней в Банфе оказалось спасительной отдушиной для близлежащих племен и внесло немного радости в их жизнь. Эти дни напоминали индейцам давние вольные времена, воодушевляли их, хотя не было уже Танца Солнца. Любопытнее всего, что белые сами вызвали индейцев на ежегодные съезды и игры, хотя и не с филантропическими целями. Белых, как обычно, интересовали собственные развлечения и бизнес. Идея Индейских дней возникла совершенно случайно. Летом 1889 года в Скалистых горах прошли проливные дожди, которые размыли полотно канадской Тихоокеанской железной дороги и прервали на несколько дней движение поездов. Многочисленных путников пришлось разместить в Спрингс Отеле в Банфе. Они всячески бранились из-за вынужденной задержки, и администратор отеля старался изо всех сил, чтобы как-то их ублаготворить. Он попросил о помощи своего приятеля, агента индейцев в близлежащих резервациях, а этот весельчак выкинул неплохую шутку: ночью он прислал в Банф несколько десятков индейских семей с палатками, конями и всем дорожным скарбом. Наутро, когда постояльцы отеля проснулись, они пришли в панику. Однако после кратковременного испуга и недоумения их охватил восторг при виде живописного лагеря, разбитого рядом с отелем. Так как это происшествие совпало с, периодом летних съездов индейцев, то многие из них щеголяли в праздничных нарядах, оставшихся от былых времен. Мало того, индейцы принялись за свои излюбленные обряды, и белые гости с восхищением наблюдали их состязания, скачки, укрощение диких мустангов, стрельбу из луков, племенные танцы и другие чудеса. Открыв этот доходный источник аттракционов для туристов, белые уже не зевали. Так вошли в обычай ежегодные Индейские дни в Банфе, знаменитые по всей Канаде и привлекающие множество гостей из Соединенных Штатов. Веселые, увлекательные цирковые конные упражнения с каждым разом все больше нравились публике. Индейцы их особенно любят. Хотя эти упражнения повторяются в течение многих лет, они никому не наскучили и продолжают привлекать толпы приезжих. Небывалое очарование нисходит в эти дни на восхитительный городок Банф. Время словно отступает на целое столетие, индейцы снова становятся здесь хозяевами, они задают тон всему, заполняют долину веселым шумом и колоритной красочностью своих нарядов, а белые только смотрят, жадно впитывая экзотические впечатления. В праздничные дни весь Банф живет как бы в приятном опьянении. В атмосфере веселых чудачеств все становится возможным: и то, что на неприкосновенном гольфовом поле близ Спрингс Отеля играют индейцы (кстати, совсем неплохо), и то, что индейские вожди в качестве арбитров красоты белых дев измеряют их бюсты и бедра, выбирая Мисс Банф. Чтобы окончательно перевернуть вверх ногами все понятия и довести шутку до предела, писатель из Польши разрешил грозному воину в индейском музее нацелить лук прямо в польскую грудь: воин, к счастью, был фигурой из воска. Но черт возьми, разве не кажутся здесь порой и многие другие вещи нереальными, словно вылепленными из воска?Медведи
В течение последних двадцати шести лет, то есть со времени моего последнего посещения Канады, ничто не изменилось так основательно, как отношение человека к медведям. Прежде всего я имею в виду белого человека. И наоборот: до чего же изменился подход многих медведей к людям! Четверть века назад медведь был опасной, таинственной силой канадской тайги, силой, вызывающей суеверный страх и почтение. Он был грозным символом лесных дебрей, а потому вожделенным трофеем для мужественных охотников. Индейцы почитали медведя как магическое воплощение лесных духов, у которых, убивая их, нужно просить прощения. Правда, уже тогда кое-где в национальных парках Скалистых гор медведи выходили на дороги и, падкие на сладкое печенье и немного прирученные, позволяли фотографировать себя с близкого расстояния. Но то были сенсационные случаи. По всей Канаде медведь считался мрачным детищем диких сил природы, что наполняло канадцев некой гордостью. Тогдашние воззрения я описал в двух разделах моей «Канады, пахнущей смолой»: «Опасные медвежата» и «Медведица». А нынче — как все изменилось! Мохнатый зверь перестал казаться дьяволом, легенда о страшном чудовище развеялась, и человек видит в нем почти забавную диковинку, живого гротескового медвежонка — Тедди. И некогда грозный хищник — о чудо! — стал действительно забавным. Это не значит, что люди его специально охраняют: сейчас в связи с размножением диких зверей наверняка больше медведей гибнет от пуль охотников, чем прежде, но там, где их не хотят убивать, родилась комичная, трогательная, я бы сказал, странная дружба между человеком и диким медведем. То же самое происходит и за пределами национальных парков. В многочисленных поселках лесорубов и сплавщиков леса, разбросанных на лесных пространствах, выработался своеобразный кодекс чести, к неписаным правилам которого принадлежит, между прочим, неприкосновенность медведей. Тех и других связывает как бы ощущение общественной солидарности существ, живущих совместно в лесу и благодаря лесу. Сообразительные мишки быстро оценили благоприятную конъюнктуру и, признав лесорубов своими друзьями, охотно посещают их поселки. Они знают, что им перепадет из кухни не один вкусный кусок. Примеры такого рода дружбы настолько многочисленны, что стали прямо-таки типичным явлением для канадских лесов, и эпизод в семье Ломбаров не относится к числу редких. Ломбары — смелая, дружелюбная к людям и зверям семья, родом из-под Сандомира. — Старый Ломбара, отец, приехал в Канаду в 1927 году и, кое-что скопив, в 1961 году семидесяти двух лет от роду возвратился в Польшу. За несколько лет до своего возвращения он вызвал в Канаду из Польши трех сыновей, живущих сейчас в Онтарио. И вот один из них, Ян Ломбара, работавший в поселке лесорубов невдалеке от железнодорожной станции Хемло, примерно в двадцати милях к востоку от станции Маратон, весной сплавлял по реке стволы срубленных деревьев, а его жена Мария тем временем в поселке возилась на кухне. Медведи, достаточно многочисленные в той местности, скоро убедились, что она женщина сердечная и голодному не откажет.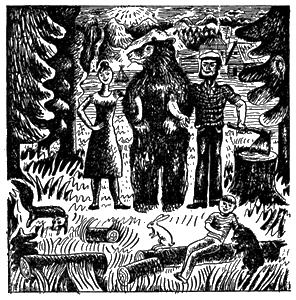
Однажды приковылял этакий черный подросток, совсем еще молокосос, хотя весом килограммов в сто, и получил корм. Он полюбил милую благодетельницу, ибо на следующий день вставал на задние лапы и ел из рук. На третий день он вежливо лизал ее ладонь, как бы благодаря за щедрость. На четвертый этот симпатяга уже не думал возвращаться в лес, а завалился в сенях, терпеливо ожидая очередного кормления. Разлегся на самом проходе, и людям трудно было его не задеть, он же каждый раз галантно приподнимался и любезно пропускал проходящих. Через неделю явился другой медведь, постарше, и прогнал первого. Это был бессовестный нахал, он никому не понравился. Желая его отогнать, Ян Ломбара прострелил ему конец уха. Испуганный мишка сделал несколько прыжков в сторону, однако быстро вернулся, чтобы доесть содержимое покинутой было миски. Только после этого он сбежал в чащу и больше не возвращался. Как видно, не понравилась стрельба. Симпатичный же бутуз приходил снова и снова, получал вкусную еду, но, к сожалению, недолго. Заявилась медведица с двумя малышами, бесцеремонно выставила молодого мишку и полностью овладела кухней, сердцем Марии Ломбара и чуть ли не всех жителей поселка. Неотесанная и не слишком доверчивая, старая пройдоха сама держалась в стороне, но малышей своих охотно подпускала к людям. Чудесные, игривые карапузы покорили людей и получали столько корма, сколько в них влезало. Дружба, основанная на наслаждениях обжорства и щедрости кухарки, длилась до тех пор, пока Ломбары были в поселке. После их отъезда здесь поселилось экономное на еду и даже скуповатое ирландское семейство. Когда у медведей кончились лакомства, они гневным ворчанием выразили свою обиду, но скандала не учинили. Отгоняемые палками, звери в конце концов примирились с печальной действительностью и ушли в лес, чтобы через несколько дней пробраться ночью в кладовку с запасами продовольствия и произвести там немалые опустошения. Ирландцы хотели устроить охоту и перебить медведей, но этому воспротивились остальные лесорубы. Вскоре обиженные звери покинули эту местность.
Аффект
Кормление диких зверей в лесу — рискованная забава, которую нельзя внезапно прервать. Если вдруг перестать кормить зверя, обнаглевший мишка способен утратить хорошее настроение и, неожиданно разозлившись, обрушить на человека свою страшную силу. Медведя, если бы он даже не пускал в ход клыки и когти, без оружия не одолеть и десятку атлетов. В национальных парках в Скалистых горах не разрешается кормить медведей, но — редкий в Канаде случай недисциплинированности — никто и не думает о запрете. Люди бросают мохнатым попрошайкам пищу из автомобилей, а наиболее смелые выходят на дорогу, чтобы фотографировать их вблизи. Медведи на дорогах придают особое очарование национальным паркам и, если бы непослушные туристы перестали их кормить и звери исчезли с автострад, парки много бы потеряли. Каждому, кто въезжает на автомобиле в какой-либо из парков, полиция вручает на границе отпечатанное серьезное предупреждение. «Медведи, — гласит совершенно справедливая памятка, — это дикие звери. Каждый из них вблизи может стать опасным. Он может броситься на тебя внезапно и без видимой причины. Для твоей безопасности правила парка запрещают кормление медведей. Не рискуй!» Однако люди рискуют, ибо все немного помешались на канадских медведях и воспылали к ним неодолимой страстью. Попросту — такова мода! Люди прощают медведям, когда те в отсутствие охотников или рыболовов врываются в лагерь, разрушают палатки и пожирают запасы продовольствия. Какое интересное приключение! Чудесные проказники! На них не сердились (по крайней мере те, кто не пострадал) даже тогда, когда эти «шалуны», чтобы добраться до коробки с лакомствами, разнесли оставленный ненадолго кадиллак стоимостью в шесть тысяч долларов. Бывают и страшные трагедии. Летом 1959 года женщина, жившая в кемпинговом бунгало в Джаспер Парке, потеряла дочурку. Трехлетняя девочка играла перед домом, как вдруг появился медведь, схватил ребенка — случай, какого много лет не бывало в парках, — и спокойно направился к лесу. На крик ребенка мать выбежала из дому, схватила палку и догнала хищника. Она стукнула его по голове и носу, но этим только довела зверя до бешенства. Он оттолкнул женщину, а ребенка через несколько сот шагов растерзал насмерть и бросил. Случай убийства стал большой сенсацией. Два года спустя нам все еще рассказывали о нем. Но в каком удивительном освещении! Медведь был убийцей, этого нельзя было отрицать, но всему виной, оказывается, была мать, ибо она раздразнила зверя. Вот это снисходительность! Любовь, как поется в песенке, все прощает, даже любовь к мохнатым разбойникам.Супергризли
Осенью 1955 года старая индеанка из племени кри, живущая в районе Малого Невольничьего озера в провинции Альберта, отправилась в лес к югу от озера, вооруженная лишь легким малокалиберным карабином. Каждый год в это время она охотилась на белок. Это была необыкновенная женщина и великолепный стрелок — она попадала мелким зверькам точно в глаз, не портя шкурки. В чаще леса, у подножия гор, носящих название Swan, Hills (Лебединые горы), она наткнулась на необычного зверя. Это был медведь, каких она прежде никогда не видела. Рассерженный внезапным появлением женщины, зверь хотел кинуться на нее, но смелая индеанка не утратила хладнокровия. Два выстрела грянули один за другим, и могучий зверь, пораженный в глаза маленькими пульками, пошатнулся, упал и, хрипя, испустил дух. Только тогда индеанку охватили изумление и страх, ибо перед ней был зверь, совершенно не похожий на известных ей медведей: огромный, могучий, невероятного роста серый гигант, чуть ли не вдвое больше своих нормальных черных сородичей. У женщины на мгновение помутилось в голове — ей показалось, что она убила легендарного демона, лесное чудище из сказок старых воинов, настолько этот колосс отличался размером от прочих зверей. Когда весть об этом медведе вырвалась из лесов, она произвела большое впечатление не только в Альберте, но и во всей Канаде. Число известных до тех пор канадских медведей обогатилось новым видом. Это был низинный, пре-рийный гризли, еще более могучий, чем гризли Скалистых гор, зверь, открытие которого отдалось эхом в прессе и наполнило всю Канаду патриотическим шумом. Обладание таким супергризли было первоклассной сенсацией. Натуралисты, ломая голову над загадкой гиганта, обратились к документам прошлого, и по запискам давних путешественников и охотников обнаружили, что это не был новый вид медведя, а вид некогда известный и ныне поднятый из забвения, как бы воскресший из мертвых. Выяснилось, что еще до второй половины XIX века по прериям рыскали низинные гризли, плотоядные гиганты, питавшиеся мясом бизонов, на которых они охотились в прериях. Когда около 1880 года в прериях были истреблены последние бизоны, исчезли и низинные гризли, лишенные прежнего корма. Теперь стало ясно, что не все животные погибли в ту пору. Очевидно, немногие оставшиеся в живых гризли подобно небольшой части бизонов бежали на север и забились в канадские лесные дебри. Они запрятались там так успешно, что в течение трех четвертей века этот вид считался исчезнувшим, и лишь случай со старой индеанкой опроверг такое мнение. В 1956 году, вскоре после описанной встречи с низинным гризли, в лесную чащу отправилось несколько научных экспедиций. Они искали редкостного медведя в районе гор Суон Хиллс. Через некоторое время мир узнал об успешных результатах поисков: низинные гризли существовали! Правда, в небольшом количестве, обусловленном их необычайной прожорливостью, однако достаточном, чтобы обеспечить дальнейшее существование этому виду. Канадское правительство немедленно выделило огромную территорию площадью около десяти тысяч квадратных миль под медвежий заповедник, где зверей запрещается убивать. В этом была большая заслуга молодого натуралиста Эль Эмига, обладавшего собственным парком диких зверей под Эдмонтоном, в Альберте. Этот энтузиаст прославился в качестве защитнику родной фауны, так же как некогда Грей Оул (Серая Сова) достопамятный заступник бобров.
Вот таким образом великолепное создание природы — низинный гризли, гигант ростом более трех метров, спасся от гибели в то время, когда толпы варваров, создававших в конце XIX века почву для американской цивилизации, истребляли в прериях зверей. Этот эпизод возвратил мою память к тем далеким временам, когда я, подросток с пылающими щеками, зачитывался описанием путешествия Сенкевича по Америке. До сих пор перед моими глазами стоит картина: «…большой серый медведь гризли, который бродил слишком близко от станции Чейн и был убит, точнее, расстрелян из всех винтовок, какие только нашлись». Станция Чейн лежит как раз на границе прерий и Скалистых гор, а дальнейшие заметки Сенкевича о размерах этого чудовища наводят на мысль, что это, вероятно, был низинный гризли, хозяин прерий 70-х годов прошлого века. И еще одна любопытная и выразительная деталь. Где, собственно говоря, находятся эти Лебединые горы, которые в течение стольких десятилетий сохраняли в тайне и уберегали от человеческого глаза огромных хищников? Можно подумать, что они расположены далеко на севере, в беспредельности снежной пустыни. Нет, вовсе нет! Эта медвежья чащоба начинается чуть ли не под боком у Эдмонтона, столицы провинции Альберта, в каких-нибудь ста километрах к северо-западу от города. Она раскинулась на пространстве между рекой Атабаска и Малым Невольничьим озером, а заканчивается несколько дальше к западу от этого озера, на границе нового густо заселенного района, где расположен сельскохозяйственный округ реки Пис. Таким образом, посредине между двумя многолюдными центрами развитой американской цивилизации — каждый центр с широкой сетью автострад, с десятками тысяч автомобилей и телевизоров — сохранилось более десяти тысяч квадратных миль совершенно безлюдного, дикого, нетронутого до недавнего времени девственного леса, без единой мили шоссе, зато с необыкновенным медведем, о существовании которого никто не имел понятия — и все это, повторяю, под боком у Эдмонтона, города с третью миллиона жителей. Вот аромат Канады и ее девственных лесов!
Об авторе Аркадий Фидлер — известный польский путешественник, натуралист и писатель родился в 1894 году. Он окончил Краковский и Познанский университеты, где изучал философию и естественные науки. Более сорока лет Фидлер путешествует из конца в конец земного шара, сначала как естествоиспытатель, собирая материалы по фауне для музеев, потом — в качестве писателя. Он побывал в Норвегии, Бразилии, Перу, Эквадоре, Канаде, на острове Тринидад, на Мадагаскаре, Таити, в Лаосе, Камбодже, Гвинее и многих других странах. Эти поездки и вызвали появление на свет большинства его книг. Всего Фидлером написано более тридцати книг. Почти все они переведены на языки мира. Многие из них вышли в СССР («Рио-де-Оро», «Зов Амазонки», «Горячее селение Амбинанитело», «Рыбы поют в Укаяли», «Канада, пахнущая смолой»). В Канаде Фидлер побывал дважды. Впервые в 1985 году. Результатом этой поездки была книга «Канада, пахнущая смолой». Книга «И вновь манящая Канада», отрывок из которой печатается в сборнике, написана после второй поездки Фидлера в Канаду, в 1961 году. Фидлер побывал в СССР в составе делегации польских писателей (1951–1952 гг.). Он один из авторов коллективной книги польских писателей о нашей стране — «Среди друзей». За свою научную, литературную и общественную деятельность Фидлер награжден несколькими орденами и серебряным венком Академии литературы Польской Народной Республики. В числе книг Фидлера — «Завтрашний день Мадагаскара», «Остров любящих лемуров», «Дивизион 303», «Благодарю тебя, капитан», «Дикие бананы», «Маленький бизон», «Остров Робинзона», «Новое приключение Гвинея», «Среди индейцев короадо», «Ориноко», «Через водовороты и пороги Днестра», «Мадагаскар — жестокий чародей» и другие.
Владимир Рыбин
ПУТЕШЕСТВИЕ «ВСТРЕЧЕ СОЛНЦА»

Очерк Заставка худ. Ю. Коннова Фото автора
И я познать стремился ту страну, Я шел вослед легенде незнакомой… Из саги я снежинку взял одну, Чтобы сберечь И донести до дома.Андрей Лупан
Может, это не случайно, что именно к самой дальней российской реке — Амуру так крепко приросло ласковое семейное словечко — батюшка, как к Волге — матушка? Ведь истоки одной великой реки в северо-западных пределах России, устье другой — на самом ее юго-восточном краю. Они как бы крепко охватывают в своих объятиях нашу землю. На Волге я родился. На Амуре побывал в зрелом возрасте. И полюбил его поздней серьезной любовью взрослого человека. Все 2846 километров проплыл я от того места, где мутная Шилка и прозрачная Аргунь, сливаясь, рождают Амур, до самого устья. Любовался величественными утесами на крутых кривунах, видел знаменитые Горящие горы и живописные откосы Малого Хингана, подобно крымскому Аю-Дагу уткнувшие в воды свои зеленые лбы. Бродил по таежным поселкам, по колхозным полям, по красивым набережным амурских городов и заносил в блокнот увиденное и услышанное. Так родились эти дневники.
Солнце над Июнь-Коранью
Мое знакомство с Нижним Амуром началось с Волочаевки. Ранним утром, когда по московскому времени еще полагалось видеть первый сон, я отправился на хабаровский вокзал, чтобы ехать к этой легендарной сопке. Рассвет немыслимой радугой раскрашивал небо. За вокзалом всходило солнце, просвечивало насквозь стекла вагонов, переполненных школьниками, туристами со своими гигантскими рюкзаками, солдатами, едущими на экскурсию. Я пошел на зов песни и попал к солдатам. — На Волочаевку? — Так точно! Они потеснились, уступив место. Молодые, очень молодые ребята. И интеллигентные, не похожие на моих сослуживцев военных и послевоенных лет. Бренчала гитара — этот всегдашний магнит. «На лицо мне капельки падают, падают…» Пели тихо, задумчиво, грустно, положив на колени книжки, взятые в дорогу. Заставляли задумываться о добром. Ведь это же чуть ли не закономерность: кто любит грустные песни — не бывает злым. Поезд простучал меж окраинных домов города, нырнул в черную ночь туннеля. И вдруг вылетел в солнечный простор. С высокой насыпи далеко размахнулись дали. Замелькала частая решетка моста. Внизу нехоженый свей песков на отмелях, белые змеи пены на мутной поверхности Амура. Долгая насыпь все вела и вела через луга, через голубые озерца. Пусть не посетуют на меня любители песенной Карелии, но выражение «голубые глаза озер» относится к Приамурью не в меньшей степени. Снова пели солдаты, ненасытно, песню за песней.Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни…
В городе удачи
В амурских странствиях мне часто вспоминалась фраза, оброненная писателем В. Лидиным еще в тридцатые годы: «Путь на Дальний Восток — путь в будущее». Впечатление это вызвано было новостройками, уже тогда особенно многочисленными здесь. Известно, что к 1940 году дореволюционный уровень производства был превзойден на Дальнем Востоке в 18 раз, тогда как в среднем по Союзу — в 8,5 раза.
И меня тоже не покидало ощущение, что еду по местам, где все стремительно развивается. Прежде я всегда прилетал в Хабаровск самолетом. А на этот раз приплыл по реке на большом углевозе «Столетов». И тихоходная медлительность углевоза принесла куда больше впечатлений от поездки. Несколько дней мы плыли мимо гор и бескрайних лугов, мимо колхозных полей, поселков и деревень. А тут за низкими берегами в тальнике и редколесье березок и осин на далеких холмах, уходящих к горизонту, медленно, как мираж, начал подниматься огромный город. Воткнулась в небо игла телевышки. Встали на берегах ажурные мачты знаменитого на всю страну высоковольтного перехода через Амур. Перечеркнула даль ниточка моста, того самого, сооружением которого в 1916 году завершилось строительство крупнейшей в мире трансконтинентальной железнодорожной магистрали. Тогда это всеми было воспринято как «русское чудо». Французская газета «Ла Франс» писала, что «после открытия Америки и сооружения Суэцкого канала история, не отмечала события, более выдающегося и более богатого прямыми и косвенными последствиями, чем строительство сибирской дороги». Но «Ла Франс» еще не знала, что главное русское чудо — в грядущем. В тот момент, когда я любовался мостом, над темными водами Амура низко, на взлете прошел тяжелый реактивный самолет, заглушая шум судовых двигателей. Он сделал большой круг и скрылся за башней «Ласточкиного гнезда», приютившегося на самом обрыве, словно средневековый замок. — На Москву пошел! Подумать только: передвигаться вместе с солнцем и очутиться в Москве почти в то же время, что вылететь из Хабаровска! Но я подавил в себе «домашние эмоции», ибо дал слово: плыть «встречь солнца», пока не увижу, как амурские водовороты тонут в морских глубинах. Хабаровск удивительно уютен, так и хочется сказать — городок. Но он — городище! Зеленые улицы перевалили с увала на увал. И с каждого открывались городские дали, то огороженные кубиками домов, окрашенных в солнечный желтый цвет, то упиравшиеся в серые просторы Амура, то выстолбленные по горизонту частоколами заводских труб. Вероятно, этот город всегда был красив. Еще в середине прошлого века один из путешественников писал: «Хабаровку должны мы отнести к числу лучших, красивейших мест по всему долгому течению Амура и готовы, пожалуй, признать за нею выгоды и преимущества для того, чтобы селению этому со временем превратиться в город. Действительно, лучшее место для города выбрать трудно». Пророчество сбылось. В 1880 году Хабаровск стал городом — центром тогдашней Приморской области. Теперь ото гигант, распростерший свои амурские набережные на сорок с лишним километров. Число его заводов и фабрик давно уже перевалило за сотню. С первого дня я понял, что хабаровчане самозабвенно влюблены в свои амурские набережные. Несмотря на будние дни, у каменных парапетов было полно рыболовов и просто гуляющих. Стеной стояли люди и у высоких перил «Ласточкиного гнезда», смотрели на горизонты, изогнувшиеся хребтами Хехцыра, полудугами железнодорожного моста. «Ласточкино гнездо» снова напомнило гремящие годы гражданской войны. Здесь, на утесё, в сентябре 1918 года были расстреляны 16 австро-венгерских военных музыкантов. За то, что вместо «Боже, царя храни» бросили в лицо белоказакам гордый «Интернационал». В Хабаровске мне сразу же повезло. В тот первый вечер закат раскидал по небу невиданные краски, зажег неподвижную воду. Рыбаки забыли о своих спиннингах, влюбленные вышли из темных аллей на открытый обрыв. И будто глуше стал стук лодочных моторов на реке. Розовые теплоходы у дебаркадеров, казалось, уже не гудели, а только тихонько вскрикивали. И гигантская чаша телеантенны поблескивала таинственно, словно была сродни этим облакам, освещенным закатным солнцем. Сказочный, очарованный вечер медленно растворялся в сумерках. Постепенно темнела вода, пурпурные облака окрашивались в кирпичные, фиолетовые и, наконец, в серые тона. Только тяжелая туча, спрятавшая солнце, еще долго полыхала неровными огненными кромками. Тогда над гаснущим Амуром я впервые услышал стихи Петра Комарова, продекламированные кем-то из хабаровчан: «Есть слово древнее — хабар. У русских воинов сначала оно удачу означало…» Во все хабаровские дни меня не покидало предчувствие удачи. И мне действительно везло, прежде всего на интересных людей. Первыми моими гидами, точнее, «гидшами», оказались Татьяна Васильевна Левина и Вера Ивановна Чернышева, давние здешние жительницы, отлично знавшие город. — Прежде ведь Хабаровск как звали? «Три горы, две дыры», — говорили они. — Горы остались, по ним теперь проходят лучшие наши улицы. А «две дыры» — глубокие овраги, прорытые речушками Плюснинкой и Чердыновкой, превращены в цветущие бульвары. — Вот тут находился аэродром. Там — старые казармы. Здесь, где эти дома, кругом были пустыри да овраги, мы еще девчонками бегали. — А правда, что наш парк самый красивый? — допрашивали меня женщины. — Верно, что такой широкой площади нет даже в Москве? А у нас мебельная фабрика есть, очень большая, выпускаем свои гарнитуры — «Амуры». — А на химфармзаводе крупнейший в стране ампульный цех. — Где еще вы видели такой кинотеатр? — А такой Дом культуры?.. Все это оказалось и вправду замечательным. Отыскал я в Хабаровске и человека, о встрече с которым давно мечтал, — Всеволода Петровича Сысоева. Он сидел за директорским столом местного краеведческого музея и глядел на меня ясно и прямо, как смотрят дети. В кабинете была старинная мебель, над дверьми висела голова оленя, у стены — большой письменный стол под малиновой скатертью. Тот самый стол, за которым когда-то сидел знаменитый исследователь Дальнего Востока писатель В. К. Арсеньев. — В детстве я жил в Крыму, — рассказывал Сысоев. — Там и начитался книг о путешественниках и охотниках. Стал задумываться: всем хочется в городах жить, а кто же будет новые земли осваивать?.. Учился потом в Москве, в пушно-меховом институте. Хотел уехать в экспедицию еще до сдачи экзаменов. Считал: на черта мне эти бумаги — дипломы? А начальник экспедиции Яковлев, — хороший был человек, говорит: сдавай экзамены и догоняй экспедицию. И сдал, а потом уехал на Восток. Да так тут и остался… Сысоев водил меня по музею, показывал экспонаты. — Это ствол тысячечетырехсотлетнего тиса. Полторы тонны весом. Лесорубы приходят, удивляются: как его вытащили из лесу, не поцарапав?.. А это реликтовый чешуйчатый крохаль. Мировые коллекции насчитывают не больше двадцати этих птиц. У нас — четыре. Сам добывал… Здесь, кажется, все добыто его руками. Огромную ракушку-жемчужницу нашел в реке Кур. Тигрицу подстрелил на реке Хеме. Лосиху добыл с самолета. Огромного бурого медведя — тоже с самолета. Сердитый был мишка, вставал на дыбы, норовил цапнуть снижавшийся самолет за лыжи. — Больше сотни медведей добыл. И один на медведя хаживал. Только не считаю это геройством — убить зверя. Убивал не ради удовольствия, а по необходимости. Развести зверей — вот трудность. Сысоев показал витрины, уставленные чучелами бобров, норок, ондатр, расселенных на Дальневосточье. Особенно трудно пришлось с бобрами. Этим-то зверям местные реки понравились, но вот некоторые администраторы с учеными степенями утверждали, что поскольку Сысоев даже не кандидат наук, то его исследования о возможности расселения бобров в этих местах сомнительны. Но он все же добился своего, и сейчас в Хабаровском крае немало бобровых колоний. Хранятся в музее разысканные Сысоевым личные вещи Арсеньева. Зоологический отдел благодаря заботам директора просто уникален. С ним соперничает разве что этнографический.
«Великие, но малые»
Этнографический отдел Хабаровского музея своеобразен настолько, что его экспонаты хочется сравнить с экзотикой острова Пасхи. На узорчатые одежды, на изумительные бытовые предметы можно глядеть безотрывно. Так и кажется, что краски и орнаменты срисовывались прямо с многоцветных и ярких дальневосточных зорь. А цифры на стендах удивляли даже нас, избалованных прогрессирующей статистикой официальных отчетов. До революции среди аборигенов Дальнего Востока не было ни одного грамотного, теперь — ни одного неграмотного. Не существовало школ, больниц, библиотек, предприятий, даже кустарных. Свирепствовали чума, черная оспа и другие страшные болезни. Существовала реальная угроза, что многие местные народности просто вымрут. Кто только не живет на Дальнем Востоке! Однажды в Хабаровске мне посчастливилось встретить группу девушек — представительниц почти двадцати национальностей! ульчанок, орочек, юкагирок, нанаек, эскимосок, алеуток, корячек, чунчанок, ительменок… Девушки шли говорливой стайкой вдоль залитых солнцем газонов площади Ленина. Были на них и западноевропейские «мини», и свои национальные, красиво расшитые «макси». Девушки оказались студентками Хабаровского медицинского института, внушительное здание которого стоит на площади Ленина. Они принялись рассказывать мне о самодеятельном интернациональном ансамбле «Северянка», к которому все имели отношение. Но тут одна из них, тоненькая, в модных золотых очках, Эля Ходжер, замахала рукой кому-то. — Майя Ивановна! Подошла еще одна представительница «великих, но малых», как они себя в шутку называли, быстро представилась: — Эттырантына, Институт я уже окончила. Теперь работаю терапевтом во-он в той больнице. Скоро поеду в Анадырь. — А по национальности вы кто? — Чукчанка. Все эти бойкие девушки родились в тех самых селениях, где еще недавно медведь почитался божеством, а самым уважаемым человеком был невежественный шаман. Страшно вспомнить прошлое аборигенов. В конце XIX века А. П. Чехов писал, что они «никогда не умываются, так что даже этнографы затрудняются назвать настоящий цвет их лица, белье не моют, а меховая их одежда и обувь имеют такой вид, точно они содраны только что с дохлых собак». Чехову вторил дореволюционный исследователь Дальнего Востока Н. В. Слюнин: «На монотонном тоне истории охотско-камчатского края одно ясно вырисовывалось, что край этот постепенно клонился к упадку, Средства к жизни истощались, культура и образование не проникали сюда…» На заре Советской власти, когда ленинская национальная политика только начинала свое триумфальное шествие, жители побережья — эвены писали в Москву: «Мы, тунгусы 22 родов, собрались на общую сходку-съезд, услышали доброе слово от больших начальников, присланных Советской властью Дальнего Востока. Мы узнали и поверили сейчас, что большие советские начальники — наши отцы и братья…» Они не ошиблись, те «тунгусы 22 родов». Уже в 1923 году Дальневосточный революционный комитет принял постановление о полном государственном обеспечении школьников, живущих в интернатах, детей охотников и оленеводов. «Большие советские начальники» научили кочевников обрабатывать землю и выращивать овощи, разводить коров, свиней, лошадей. Научили пользоваться техникой в рыболовстве, оленеводстве и дали эту технику. Теперь рыбаки выходят на промысел далеко в море на своих колхозных сейнерах. Бывшие оленеводы-кочевники живут оседло, а кочуют со стадами лишь пастухи, поддерживающие радиосвязь с центральными усадьбами. А дети этих пастухов учатся в институтах. Прежде мне думалось, что в советских условиях, когда каждый может учиться, где ему хочется, распространение образования среди ранее отсталых народностей не такое уж сложное дело. Но оказывается, недостаточно лишь предоставить возможность, нужно еще и по-особому внимательно помогать. Ибо вековое отставание народа оставляет в психологии людей глубокий, труднопреодолимый след. Девушки рассказывали, что некоторые из них первое время чувствовали себя неуютно в большом и шумном Хабаровске. Случалось, подолгу стояли на обочине дороги и ждали, когда пройдут все машины. А когда же они все пройдут? И все же научиться ходить по улицам оказалось самым простым делом. Труднее им было войти в бойкую студенческую среду. И тут снова помогли терпеливые и внимательные воспитатели и преподаватели. С 1949 года при Хабаровском медицинском институте существует отделение народов Севера. Это вроде подготовительного факультета, где будущие студенты, живя на полном государственном обеспечении, оканчивают среднюю школу, а заодно постепенно входят в необычный для них ритм городской жизни. Сейчас на этом отделении учатся представители 20 национальностей Севера и Дальнего Востока… Я уплывал из Хабаровска рано утром на белой «Ракете». Амур растекался бесчисленными протоками меж низких, почти вровень с водой островов. Тянулись луга, ровные, как поля стадионов, желтели песчаные отмели. Кое-где поднимались невысокие стенки тальника, растущего, казалось, из самой воды. Иногда мелькал на берегу чистый осинничек, невольно вызывавший «грибные» ассоциации. Маячили над горизонтом синие сопки и вновь тонули в безбрежной равнине. И снова — протоки, протоки, как голубые лабиринты. Мимо проплывали деревни. Оттуда, с барж-пристаней, махали нам белым флагом — нет, мол, пассажиров, и мы на скорости проносились мимо. На этот раз я сидел в рулевой рубке, слушал рассказы речников. — Топляки рубим крыльями, р-раз — и пополам. Хуже, когда бревно наискось войдет. Никакими силами его не вырвешь. — Штормы тут часты. Волны по «Ракете» словно молотом бьют. — Одна «Ракета» поднырнула под волну и воткнулась в дно. Капитан не растерялся, дал задний ход и выплыл на поверхность. На мои недоверчивые взгляды речники усмехались, пожимали плечами: на Амуре чего только не бывает… — А вон в той, Малышевекой, протоке писанцы есть на камнях. Нанайцы сказывают, будто разрисовали их, когда три солнца на небе светило и камни от жары размягчилиеь. Потом шаман два солнца сбил. Камни затвердели, и писанцы сохранились… Стояли на берегах нанайские и русские села: Найхин — с длинным рядом лодок у берега, Джари — с его знаменитым утесом, на котором когда-то Хабаров заложил Ачанский острог, Славянка — на невысоком подмытом берегу… На пологом склоне показался центр Нанайского района — Троицкое с трехэтажными кирпичными домами, толчеей судов возле пристани, с высокой деревянной гостиницей у берега, окруженной стеной цветов. В Троицком мы с «ракетчиками» пообедали в небольшой опрятной столовой, прошлись по тихим тротуарам, обсаженным березками, мимо магазинных витрин, мимо распахнутых окон школы, зазывавшей звонком разбежавшихся по двору учеников-нанайцев. В тот день Дом культуры приглашал на танцы, центральный кинотеатр показывал «Туманность Андромеды»… Но я пошел в райсовет и там со слов председателя исполкома товарища Лыскова записал в блокнот кое-что весьма примечательное. В районе более пятидесяти кинотеатров, домовкультуры и клубов. Нет ни одного, даже самого отдаленного поселка, куда бы не дотянулись электролинии. В любом селении жители имеют возможность смотреть телевизионные передачи. А вызвать врача здесь теперь так же просто, как и в Хабаровске: крупные больницы и поликлиники имеются во всех селах, а в распоряжении врачей — и машины скорой помощи, и санитарная авиация. Когда я впоследствии рассказывал об этом своим московским друзьям, они отмахивались: нашел, чем удивить. А вот аборигены не перестали удивляться счастливым изменениям. Они еще помнят время, когда под сатанинский грохот шаманских бубнов вымирали целые роды. Они не забывают, что за годы Советской власти численность малых народностей Дальнего Востока возросла в три раза…Как это начиналось
Начиналось без надежд. В 1860 году крестьяне-переселенцы из Пермской губернии основали здесь село Пермское. А семь лет спустя капитан корпуса лесничих А. Ф. Будищев, исследовавший эти места, записал в дневнике: «Необширная береговая возвышенность… на вид кажется местностью, удобною для заселения, но ни по пространству своему, ни по качеству земли и положению с другими местностями не предвещает хорошей будущности». Крестьяне охотились, рыбачили, кое-как сводили концы с концами. А куда было податься переселенцам? Бедовали там, где предписано. За семьдесят лет село не слишком разрослось. К началу тридцатых годов в нем было полсотни изб. В январе 1932 года на Нижний Амур приехал Ян Борисович Гамарник, который по постановлению партии и правительства о развитии Дальневосточного края подбирал места для будущих новостроек. Он-то и произнес фразу, ставшую знаменитой: «Здесь будет город!» А вокруг дымились сопки, щетинились угрюмыми гарями, свирепый морозный ветер гнал поземку по амурскому насту. Стеной стояла нехоженая тайга, и до ближайшей, железнодорожной станции было 360 километров. 10 мая 1932 года по едва освободившемуся ото льда Амуру в Пермское прибыли пароходы «Колумб» и «Коминтерн» с первыми строителями. Через двадцать один день за излучиной реки у нанайского стойбища Дземги высадился еще один «десант» строителей. Наступление на глухомань начиналось сразу с нескольких направлений. Города еще не было, но он уже имел выразительное название — Комсомольск и о нем уже знала вся страна. Теперь к Комсомольску не подходят привычные эпитеты большой, красивый, благоустроенный — все так. Но этого мало. Вечером я сходил в Комсомольске с чувством горделивого удивления, вызванным легендарной историей города. И я бережно нес это чувство, шагая по пологому тротуару от дебаркадера к трамвайной остановке. Кто-то рядом возбужденно рассказывал своему соседу: — Слышал, будто лет тридцать назад, когда строился город, приехал журналист и стал приставать к рабочим: «Скажи, друг, чти ты делаешь?» — «Не видишь — пень корчую, будь он проклят!» — ответил один. «Работаю, — вздохнул другой. — Подзаработаю деньжонок, домой поеду». А третий воткнул лопату, оглядел сырую низину, коряги, камни, болотные лужи и сказал гордо: «Я строю город!» Мне уже где-то приходилось слышать эту историю. Но здесь она прозвучала особенно значимо и наполнила меня непередаваемым ощущением соприкосновения с легендой… Ночью бушевал дождь. А утром над городом засветилось как бы вымытое чуть зеленоватое небо. Амур весело катил светлые гребешки волн под ноги рыболовов-любителей. Розовые дома улыбались всеми окнами. Трамваи позвенькивали на широченной улице. Первым делом я собрался в краеведческий музей. Но в тот день он не работал. Тогда я решил взять такси и осмотреть город. Пошел на остановку, увидел садившуюся в машину крепкую, высокую женщину с уверенными манерами хозяйки. — Можно мне с вами? — А вам куда? — Все равно… Женщина нисколько не удивилась. Только спросила: — Вы приезжий? — Из Москвы. Уже по дороге я спросил: — Вы давно здесь живете? — С тридцать второго года… Вот так и состоялось знакомство с одной из тех, кто закладывал город, — Ниной Тимофеевной Боровицкой. Мы заехали за ее подругой, тоже первостроительницей, Анной Ивановной Зюзиной и помчались по зеленым улицам. Женщины показали мне деревянные избы, сохраненные с «догородских» времен как музейные реликвии, дома культуры, кинотеатры, универмаги, причалы судостроительного завода, трубы «Амурлитмаша» и «Металлиста», корпуса швейной фабрики — самой большой на всем Дальнем Востоке. А на «Амурстали» мы задержались надолго. Потому что там помощником директора завода был человек, для которого Комсомольск — и детство, и юность, и вся жизнь, — Иван Павлович Рублев. Он приехал сюда еще мальчишкой, вместе с родителями. Как все его сверстники, бегал на рыбалку и по ягоды, зимой ходил в школу через высоченные сугробы. А после занятий учился обращаться с инструментами: ребят всерьез обучали столярному и слесарному делу. А жили первое время в бараках, за полотняными занавесками, строили вот это самое предприятие «Амурсталь». Иван Павлович провел нас по огромным корпусам завода, показал один из крупнейших в Советском Союзе стан — «1700», прокатывающий тонкий стальной лист, установку непрерывной разливки стали. Работа установки — поистине грандиозное зрелище. Белый, еще вязкий жгут металла, рассыпая искры, падает в глубину темного зева. Семью этажами ниже мы увидели его уже застывшим в темно-оранжевых ошметках окалины. Газорезка отхватывала от бесконечной пластины желтые языки весом по полторы тонны, и они проваливались куда-то, чтобы через минуту возникнуть на телевизионном экране, установленном возле газорезного аппарата… Потом мы снова ездили по городу. Я молчал, переполненный впечатлениями, и краем уха ловил разговор моих спутниц о пережитом. — Помнишь, как мы тут галоши теряли в глине? — Надо было их проволокой привязывать. У нас все так делали. — Ты когда замуж вышла? — Да вскоре по приезде. Разве устоишь, когда вокруг столько замечательных парней. И все ухаживают. Бывало, пойду в бригаду беседу проводить, а ребята смеются: что ты нас агитируешь? Ты пройдись только, дай на тебя поглядеть — и довольно. — А я поплакала вначале. Ведь девятнадцатилетней приехала. Думала, тут город, а оказалось — его еще строить надо. — Не одна ты так думала. Помню, как-то поиздержались мы за зиму: гвоздей, и тех не хватало. Ждем первого парохода, как бога. А он вместо гвоздей привез… унитазы, Кто-то, видно, решил: раз город, значит, и сантехника нужна подобающая. И смеялись, и ругались, пока другой пароход не пришел. Ну потом все пригодилось… Мы сошли на набережной у стеклянного подъезда Дома молодежи. Здесь прекрасное кафе, небольшой и удивительно уютный зал. Один фасад дома выходит к набережной, к камню-обелиску, установленному в честь высадки на этом месте первого «десанта» энтузиастов, другой — на огромную площадь. На ней возвышается памятник комсомольцам-первостроителям, а вокруг у дорожек зеленеет трава и лежат холодные валуны, будто невзначай разбросанные по газону. Эта площадь казалась мне символом Нижнего Амура, освоенного, заселенного, окультуренного.Как это продолжается
Теперь часто говорят о Комсомольске как об уже построенном городе. Но он продолжает расти все теми же стремительными темпами. Сооружается новый речной вокзал, спортивный комплекс, Дворец пионеров, Центральная библиотека… И конечно, новые жилые дома — 100 тысяч квадратных метров ежегодно. Но главное — те города и поселки, которые возникают вокруг города юности, в таежных дебрях, в горных ущельях. Первенцем Комсомольского индустриального узла стал Амурск — поселок работников лесообрабатывающей промышленности. Первая палатка здесь появилась в 1958 году. А теперь я не мог налюбоваться улицами многоэтажных домов, красиво сбегавшими по склонам холмов. По асфальту шуршали автобусы, мамы катали коляски вдоль зеркальных витрин на Комсомольском проспекте, таком широком, что на нем, казалось, могли приземляться самолеты. Проспект упирался в высокий холм с большой новостройкой наверху. — Там будет Дворец культуры, — объяснил мне встречный парнишка. — Лестница в сто двадцать ступеней. Обилие лестниц на амурских улицах никого не тревожит, ибо живет тут в основном молодежь. Средний возраст амурчанина — двадцать два с половиной года. Здесь почти нет стариков, мало и старожилов. Из шести человек, с кем мне пришлось разговориться на улицах, четверо только что приехали сюда работать. В Амурске мне без конца вспоминалась песня о голубых городах, которые снятся первопроходцам и первостроителям. Досуг свой большинство жителей проводит на Амуре, уплывая на лодках охотиться или рыбачить. Я видел необозримые «лежбища» лодок под зеленым обрывом, большие склады для хранения моторов, мастерские. Только на одной этой главной стоянке было свыше полутора тысяч лодок. Над лодочной станцией, над соседним с ней дебаркадером пристани возвышался крутой утес. Я поднялся на него и зажмурился от обилия света. Сияющие дали Амура лежали за бесчисленными низкими островами. Крохотные отсюда лодки, суетливые, как муравьи, сновали по реке, ныряли в протоки. В эту минуту я понял местную лодочную страсть. Раз увидев речные дали с высоты утеса, уже нельзя не мечтать о них. Даже мне, человеку, которого звала дальняя дорога, вдруг остро захотелось уплыть, затеряться с удочками в тихих лабиринтах этих амурских проток. Но мой путь лежал в другую сторону, к крутобоким хребтам Мяо-Чана. Там в ущелье с примечательным названием Холдоми, что в переводе с нанайского означает «сумка сокровищ», геологи нашли олово. И встал на крутом Склоне сопки горно-обогатительный комбинат. И поднялись над таежными марями высокие дома другого спутника Комсомольска — поселка Солнечного. У него нет окраин: нехоженая тайга подступает вплотную к асфальту улиц, к школам и магазинам. Дорога увела дальше через таежные завалы. Через полчаса пути от Солнечного асфальтовый серпантин шоссе нырнул в глубокое ущелье, на дне которого приютился рабочий поселок Горный, похожий на кавказское курортное местечко. В Горном улицы как аллеи, светлые ряды трех-, четырехэтажных домов. За поселком ступенями сходили к быстрой речке Силинке корпуса горно-обогатительного комбината. За ним хаотическое нагромождение камней, гигантские открытые разрезы, где экскаваторы копали оловянную руду. — А за разрезами непролазная тайга. Дальше нет никаких дорог, только звериные тропы. Но уже известно, что и там, за Горным, скоро будут шоссейные дороги, и встанут новые рабочие поселки, которым со временем тоже быть городами. Точно как в той песне «Снятся людям иногда голубые города, у которых названия нет…»Под дождями
Все эти дни над Комсомольском стояла ясная погода. Солнце по-летнему прогревало улицы, и мальчишки барахтались в мелкой воде за песчаными отмелями. Но как-то вечером налетел шторм. Волны бежали из-за дальнего мыса, шумно накатывались на песок пляжа. Амур опустел: лодки и мелкие суда ушли под защиту берегов. Только тяжелые железнодорожные паромы ходили через потемневшую реку, раздвигая пенную канву бурунов. Ночью над притихшим Амуром бушевала гроза, по временам освещая камень-монумент на пустом берегу. На другой день я уплывал вниз на пассажирском пароходе «Г. Невельской». Моросящий дождь затушевывал дали, брызгал в лицо холодными каплями, не давая разглядеть Комсомольск с реки. Говорят, уезжать в дождь — счастливая примета. И мне действительно повезло: на этом же судне плыл самый главный на реке человек — начальник Амурского пароходства Евгений Иванович Плаксин. Его рассказы добавили в мои путевые блокноты немало конкретного. Выяснилось, что Амурское пароходство — одно из крупнейших в стране и что оно не только речное, но отчасти и морское. Его водные дороги протянулись от Забайкалья до Японии — на десять с половиной тысяч километров. Свыше шестисот пароходов и теплоходов плавает по этим путям, не считая так называемые нетранспортные суда — путейские теплоходы и катера… Следующая ночь тоже была сырой и промозглой. Редкие огоньки вздрагивали в темени, словно дрожали от озноба. Было очень жаль, что проходим эти места ночью, да еще в такое ненастье. Ведь где-то здесь за этой темнотой тучи подпирали островерхие гольцы — остатки древних вулканов, змеились протоки, уводящие к близкому озеру Кизи. К тому самому Кизи, по которому на лодке можно быстро добраться до его восточного берега, а там всего через два-три часа пешком выйти к морской бухте Табо. Люди давно знают эту короткую дорогу к морю. Амур же почему-то поворачивает здесь на север, прорывается через высоченный Чаятынский хребет и еще добрых четыреста километров бежит вдоль побережья, повторяя его изгиб. Ученые уверяют, что когда-нибудь Амур обязательно прорвется к морю через озеро Кизи. Но ему, вероятно, помогут люди: это удлинит навигацию на реке и весьма сократит путь амурских судов к морю. Утром в дождь мы прошли Богородское — центр Ульчанского района. За завесой дождя виднелись ряды рубленых домов на свайных фундаментах, лежали на песчаной отмели бетонные блоки, приготовленные, должно быть, для укрепления берегов. За дебаркадером поднималась в гору раскисшая от дождя дорога, огибала дом на высоком уклоне — ресторан «Амурские волны». И снова потянулись луга и сопки. Я ходил по пустой палубе, кутаясь в плащ, но не спускался в каюту, боясь пропустить что-нибудь интересное. Ниже Богородского начинался Чаятынский коридор. Странные туманы ползли тут по реке: ленивые белые космы холодного пара стлались над водой, и, казалось, она вот-вот закипит. Река сузилась, сдавленная объятиями гор. Снова, как в Хингане, нависли горные склоны, крутые, ощетинившиеся лесом. Живописные берега проплывали мимо, не привлекая внимания пассажиров: холодный дождь прогонял с палубы. Мы с Евгением Ивановичем ушли в носовой салон, сели в кресло перед широкими запотевшими окнами и предались размышлениям о судьбе Нижнего Поамурья, о человеке, чье имя нес на своих бортах наш пароход. Теперь кажется странным, что еще в середине прошлого века эта большая река, одна из крупнейших в мире, была загадкой. Лаперуз, Браутон, Крузенштерн пытались вновь, после русских землепроходцев XVII века, «открыть» устье реки. И каждый утверждал, что у Амура нет устья, что воды его рассасываются в гигантских мелководьях низовий. Это звучит смешно-сейчас, но тогда все в это верили. Первым усомнился в мнениях авторитетов молодой морской офицер Геннадий Иванович Невельской. И в 1848 году он ушел на транспортном судне «Байкал» к далеким восточным окраинам России. На свой страх и риск он отправился искать устье Амура, нашел и описал его. Вечером в сыром сумраке мы увидели россыпь огней: на рейде порта Маго стояли десять судов, пришедших за лесом. А еще через два часа, уже совсем в темноте «Невельской» причалил к пристани Николаевска-на-Амуре.Ветер с моря
Штормовая ночь бесновалась над городом. Чернильное небо, казалось, совсем придавило землю. Деревья бились о мокрые крыши со смаком банных веников. Тусклые блики огней метались по черным, словно залитым нефтью, тротуарам. А над ними в темной вышине светилась, окрашенная серебряной краской, фигура Невельского на пьедестале. Адмирал стоял с непокрытой головой и смотрел куда-то вдаль через крыши, через портовые огни. Что он там видел? Может быть, будущее? Ведь оно всегда бывает солнечным, какая бы непогода ни разгулялась в настоящем… Утром меня разбудил шум самолета. Выглянув в окно, я увидел синее небо в редких лохмотьях туч и ослепительно зеленые под солнцем крутые сопки. Быстро же тут меняется погода!.. И снова я шел по городу, теперь тихому и уютному. Вдоль улиц вместо традиционных лип стеной стояли белоствольные березы, а под ними, где полагалось расти декоративному кустарнику, топорщились кусты шиповника. На перекрестке вместо будки регулировщика высился маяк, глядел через дома на Амур своим горящим глазом. В парке над обрывом маршировали шеренги пионеров. Неподалеку возвышался старый обелиск, сооруженный еще в 1915 году в память Г. И. Невельского. В народе говорят: «Один след — след, два следа — тропинка, три — дорога». Первый след, проложенный Невельским 110 лет назад, долго оставался лишь следом, в крайнем случае — тропинкой. А. П. Чехов, добравшийся сюда через полвека после Невельского, писал с грустью: «Близость каторги и самый вид заброшенного города отнимают охоту любоваться пейзажем… Половина домов покинута своими хозяевами, полуразрушена, и темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа». А теперь, если продолжать сравнение, я прибыл в Николаевск по магистральному шоссе. Уютный городок, заводы и фабрики, зелень скверов, многоэтажные дома, серебряные резервуары нефтебазы, песни туристов на пристани, толчея судов на рейде… И люди, спокойные, не суетливые, влюбленные в свой окраинный город. Сотрудница краеведческого музея Галина Ивановна Андреева рассказала о будущем города и всего этого района. Николаевск становится крупным портом. А соседний порт Маго в ближайшие годы станет важнейшим экспортером леса на Дальнем Востоке. Вероятнее всего, именно здесь, на Нижнем Амуре, построят гигантские тепловые электростанции, энергия которых пойдет в советские дальневосточные города. Ходил по музею человек в телогрейке, с маленькими усиками на морщинистом лице, тянулся круглыми стариковскими очками к старым фотографиям, вздыхал. — Узнаете кого-нибудь? — А как же, вот он я. На фотографии бравый парнишка в солдатской шинели и подпись — «Родион Вагин». — Николаевск освобождали? — А как же! Я из Коль-Никольска, Недалеко тут, у Сахалинского залива, рыбачили с батькой, картошку сажали. В солдатах был, в восемнадцатом домой вернулся. Да ненадолго. Белые начали зверствовать, издевались над людьми. Ну народ и вздыбился весь. А как же!.. Неподалеку от музея я купил в киоске местную газету «Ленинское знамя». На первой полосе крупным шрифтом сообщалось о том, что колхоз «Ленинец» добыл четырех лососей. Я подумал вначале, что это опечатка. Оказалось — весьма важная новость. Ибо лососи эти были гонцами, представителями авангарда, который обычно идет впереди лососиных стай. Это была главная тема в газете, город жил ею. — Куда лосось подевался? — рассуждали в автобусах. — Об эту пору путина вовсю, а нынче только гонцы идут. — Лето было холодное. Еще наверстаем… «На заездке волны бьются о бедро и гаснут в способе. Сквозь щелистый пол на глаголи слышен плеск воды», — читал я в газете загадочные фразы. И мечтал добраться до этого рыбачьего «способа», взглянуть на таинственную «глаголь». Мне посоветовали съездить в Озерпах — рыбачий поселок, что стоит там, где Амур вливается в Амурский лиман. Для этого пришлось встать пораньше. В Москве еще только ужинали, когда здешний автобус отправился в свой первый утренний рейс. Пока тянулись городские окраины, я дремал, сидя у окна. Потом сразу забыл и о московском вечере, и о николаевском утре: автобус шел по склону сопки, а внизу ослепительно сверкало зеркало Амура, огороженное неровной рамкой синего горизонта. За деревней Каменкой автобус сбежал с сопки и помчался вдоль кромки берега. Я боялся мигнуть, глядел и не верил, что это далекий край Евразии, суровое место, где рабочим выплачивают «северные». Темные скалистые мысы лежали на зеркале реки длинными причалами. Белоствольные березки толпами сбегали с круч. Сосны висели на кромках скал, обхватив камни тугими корневищами. Дубы топорщили сухожилия ветвей, тянули их к узкой ленте дороги. — Дорогая это штука — заездок, — рассказывал мне сосед по автобусу. — Каждую весну ставим в море забор длиной в километр-полтора. Кольев в дно наколачиваем. Кета натыкается на забор, идет вдоль него и попадает в глаголь. Это конец забора, загнутый буквой «Г». А там «способ» — сеть такая. Можно рыбу ловить, не замочив рук. Если она, конечно, идет. — А если не идет? — Тогда — труба… Автобус все бежал вдоль берега, огибая камни, прыгал на ухабах. Показались сказочно разукрашенные домики — база воскресного отдыха рабочих Николаевского судостроительного завода. Последний раз сверкнуло гигантское зеркало Амура и погасло: автобус нырнул в лесную чащу, устланную брусничным ковром, украшенную огромными — с голубиное яйцо — ягодами шиповника. Сквозь бензиновый чад пробивались в автобус влажные лепные настои. Березняки сменялись ольшаниками, ольшаники — ельниками, такими густыми и дремучими, какие можно встретить разве что в иллюстрациях к русским сказкам. Долго ли, коротко ли скакали мы на своих сиденьях, только на каком-то километре сверкнула даль в прогалину и там по кромке горизонта зазмеилась тонкая полоска далекого берега. И я задохнулся от внезапной догадки: это же Сахалин! На вершине сопки автобус остановился, чтобы дать передохнуть пассажирам после полуторачасовой скачки по ухабам. Я отошел в сторону, взобрался на камень и залюбовался далями. Оттуда, из светлого простора, прилетал упругий ветер, принося запахи моря. Я долго смотрел на тонюсенький неровный штришок сахалинского берега. Он был для меня как образ, как та долгожданная черта, которая всегда подводится в конце каждого дела.Об авторе Рыбин Владимир Алексеевич родился в 1926 году в Костроме. Окончил факультет журналистики МГУ, член Союза журналистов СССР. Работал корреспондентом журнала «Советский Союз», много путешествовал по нашей стране. Автор выступает в различных жанрах — очерка и рассказа, фотоочерка и поэзии — во многих журналах, газетах, альманахах. Очерк «Путешествие «встречь солнца»» — результат поездки автора по Амуру, совершенной в 1969 году. В сборнике публикуется третий раз. Сейчас работает над Новой книгой очерков о своих путешествиях.
К очерку Владимира Рыбина «ПУТЕШЕСТВИЕ «ВСТРЕЧЬ СОЛНЦА»

На набережной Хабаровска раскинулся крупнейший на Дальнем Востоке спортивный комплекс


Промышленный Хабаровск
Известный исследователь Дальнего Востока ученый и писатель В. П. Сысоев

Студентки Хабаровского медицинского института в национальных костюмах

На самом берегу Амура лежит этот тысячепудовый камень, обозначивший место высадки первых строителей Комсомольска

Широк Амур у Комсомольска


В глубоком ущелье лежит поселок Горный — форпост наступления на тайгу
Вид на Амур с высот Николаевска

В устье Амура лежит на низкой косе небольшой рыбацкий поселок Чныррах
С. Варшавский
ГИБЕЛЬ «ЛЕОПОЛЬДА»

Рассказ Рис. Е. Скрынникова
Парусник и пароход
В апреле 1858 года у мыса Горн свирепствовал жесточайший шторм. Парусники, застигнутые им здесь, на краю света, в этом проклятом богом месте, оказались во власти беспощадной стихии. Несколько дней спустя к тихоокеанским портам Южной Америки стали добираться изувеченные суда. Вид у них был такой, словно им пришлось выдержать сражения с вражеской эскадрой: мачт как не бывало, палубные надстройки разрушены, команды значительно поредели. С помощью недавно проложенных телеграфных линий выяснилось, что парусник «Леопольд», заходивший в Буэнос-Айрес, не прибыл в порт назначения — Кальяо, а его предполагавшийся визит в Вальпараисо не зарегистрирован…Владельцу транспортной конторы Лонгвилю, располагавшему одним пароходом и несколькими тихоходными старомодными парусниками, не терпелось полностью перейти на паровой флот. Но дела, увы, шли не столь блестяще, чтобы это желание могло быстро осуществиться. Если бы хоть кто-нибудь соблазнился ветеранами-парусниками, с ними можно было расстаться без сожаления. Но ставить их на прикол и покупать в кредит пароходы Лонгвиль не находил выгодным. Раздумывая об этом уже в который раз, он позвонил клерку. Не успела умолкнуть серебряная трель колокольчика, на пороге кабинета с утренней почтой появился молодой человек, почтительно поклонившийся шефу. — Что-нибудь слышно о «Леопольде», Эмиль? — Да, мосье! Есть письмо от консула в Буэнос-Айресе! — Из Буэнос-Айреса? — удивился Лонгвиль. — Да! Просмотрите письмо, мосье, и вам все станет ясно, — сокрушенно ответил клерк. Лонгвиль недовольно подумал: «Пикар поторопился!». Он раздраженно выхватил письмо из рук клерка и, нервно пощипывая модные усики, пробежал его, беззвучно шевеля пухлыми губами. «Мда!.. Почему же на пути к Кальяо?.. Может быть, шторм, но Пикар искусный шкипер… А команда?.. Неужели все пошли на корм акулам?.. Впрочем, какое это имеет значение для меня?.. Правда, если погиб и Пикар, то с его стороны это довольно мило!» Лонгвиль обдумывал неожиданно сложившуюся ситуацию, а клерк, наблюдавший за ним, не смог обнаружить на его лице даже тени сожаления о случившемся. Лонгвиль, предвкушая грядущие барыши, отложил письмо консула и удовлетворенно сказал: — Ну и прекрасно! — Простите, мосье… Я не вижу ничего прекрасного! — Ах, Эмиль! Из вас никогда не выйдет делового человека, вы вечно руководствуетесь эмоциями, а они плохой советчик… Поймите, судно и груз застрахованы! Фирма получит солидную страховую премию за «Леопольда», и я смогу немедленно дать заказ на постройку парохода. Еще два-три подобных случая… конечно, желательно без жертв… и я избавлюсь от ветхозаветных парусников… Капитал не может лежать в дрейфе и ждать попутного ветра — он должен находиться в постоянном движении. Как говорили древние, перпетуум мобиле… — и Лонгвиль улыбнулся своему удачно подвернувшемуся сравнению. — Позвольте заметить, мосье… Вы так легко говорите об этом, а ведь на корабле были люди… — Да, да!.. Это чертовски неприятно! — невыразительно промямлил шеф. — Но если они не были дураками, то должны были застраховаться, и тогда их семьям кое-что перепадет… Лицо клерка залилось румянцем негодования. «— Это не спасло бы их от гибели, мосье… Вместо бездушного парусника можно приобрести бездушный железный пароход, но люди ведь не вещи… — Конечно, конечно… — уже скороговоркой продолжал Лоыгвиль, торопясь закончить этот неприятный для себя разговор. — Мне очень жаль, что они, видимо, не спаслись, но я не Христос, чтобы их воскресить… Во всяком деле есть свой риск, один рискует капиталом, другой — жизнью… Поверьте, без риска нет коммерции! Вообще без риска жизнь пресна и неинтересна. Пикар на этот раз сплоховал… Первый и последний промах! — Тут Лонгвиль прикусил язык, чтобы не сказать больше, чем нужно. Он едва мог скрыть свою радость. Столь кстати случившееся кораблекрушение! К тому же не придется делиться частью страховой премии с Пикаром — небольшая, но неожиданная прибыль! Контора сможет приобрести еще один современный пароход. Лонгвиль уже мысленно перебирал прославленные судостроительные фирмы Европы и известные ему новые типы судов. — Черт возьми! Сколько лет возятся с трансатлантическим кабелем, а все нет никаких результатов! Это так отражается на коммерции! — сказал Лонгвиль после длительной паузы, продолжая просмотр почты. Когда с этим было покончено, клерк собрал бумаги и молча вышел. Эмиль был потрясен — в каком неприглядном, омерзительном виде предстал перед ним сегодня его «уважаемый» шеф! Была суббота, а в этот день в контору всегда наведывалась милая девушка, дочь Гретри, моряка с «Леопольда», чтобы узнать, нет ли вестей от отца. Клерк с волнением думал об этом визите. Что он ответит ей? Сможет ли поведать трагическую правду? Ах, если бы это сделал кто-нибудь другой!
Груз был уложен в трюмы, необходимые приготовления к длительному рейсу сделаны, а «Леопольд» все еще стоял у пирса небольшого западноевропейского порта с неукомплектованной командой: опытные моряки не соглашались на условия найма, предлагаемые прижимистым Пикаром. А брать случайных людей он не хотел. В порту толклись юнцы с чуть пробивающимися усиками. Неокрепшим баском, пересыпая свою речь «солеными» словечками, как бывалые морские волки, они предлагали свои услуги. Юнцам не терпелось попасть на «Леопольд», потому что парусник шел в Америку! А там — индейцы, пампасы, вигвамы, томагавки, бизоны — романтика, впечатляюще описанная Фенимором Купером и Томасом Майн Ридом — властителями душ многих поколений подростков. Нанимались на фрегат и разорившиеся фермеры, и рабочие, уволенные с фабрик после того, как там установили высокопроизводительные машины. Пикар без долгих разговоров отмахивался от подобных предложений. Наконец поступило распоряжение из конторы — в ближайший понедельник сниматься с якоря. Пикар не мог быть слишком разборчивым. На борт корабля попало немало людей, знакомых с морем понаслышке — и юнцов, и степенных бородачей в потертых пиджаках и стоптанной обуви. Ведь там, за океаном, в бескрайних просторах — Америка, еще была земля нехоженая, непаханая, ничейная — божья! А земля — это хлеб! И он не будет столь горек, как здесь, в Европе, где лучшие угодья принадлежали дворянам и духовенству. В назначенный день, дождавшись попутного ветра, «Леопольд» вышел в море. На пирсе усердно сморкалась и помахивала платочками лишь жалкая кучка провожающих — большая часть команды была из дальних мест иди «без роду, без племени» — обычная портовая накипь. Парусник шел в Кальяо с грузом кровельного железа и сельскохозяйственных машин. Ему предстояло пересечь Атлантический океан по большой оси, с севера на юг, и пройти значительное расстояние уже в Тихом океане, вдоль западного побережья Южной Америки. Капитан полагал, что к тому времени, когда «Леопольд» из Балтики, где он ремонтировался и брал груз, подойдет к довольно коварному, беспокойному Ламаншу, «всякий сброд», как Пикар называл новичков, лгавших о своем матросском прошлом, уже овладеет нелегким матросским делом. Рискованно выходить в открытый океан на паруснике с плохо обученной командой! Когда «Леопольд» показался через несколько дней у маленького портового городка, где была контора фирмы, Лонгвиль смог убедиться, что корабль уже довольно послушен воле капитана. Судовладелец пробыл на борту недолго, В каюте капитана, при плотно прикрытых дверях, Лонгвиль о чем-то горячо спорил с Пикаром, а на прощание, уже на палубе сказал: — Итак, Пикар, не забудьте, что капитан парохода — звучит солидно, по-современному и соответственно вознаграждается. Правда, в этом титуле больше прозы, чем поэзии, но таково уж наше деловое, прозаическое время… А парусник — это все равно что «Легенда об Уленшпигеле» — романтические, но давно прошедшие времена… Попутного вам ветра, дорогой. Лонгвиль и Пикар обменялись крепким рукопожатием. Оба хитро улыбались, оставшись довольными своей противозаконной сделкой.
По пути Магеллана
Миновав Бискайский залив, не показавший на этот раз своего буйного характера, парусник оставил позади Мадейру и подошел к Канарским островам, вступив на путь Магеллана. Свежий попутный ветер подхватил его и понес к берегам далекой Америки. Разрезаемые форштевнем корабля, пенились зеленоватые воды океана. Где-то слева остались последние клочки суши — острова Зеленого Мыса. Теперь бескрайнюю пустыню океана не будет оживлять ни один островок. Жара… Безветрие… Взлетают над водой хвостатые летучие рыбки. Немощно повисли паруса. При штиле жара становится невыносимой, а новоявленные моряки совершенно обессилены чертовым пеклом. Наконец зной сменяется освежающим ветерком, переходящим в не столь уж внушительную, но вполне достаточную для экзамена бурю. Экипаж с нею справился удовлетворительно. Потом снова наступила нестерпимая жара. Пикар не давал команде отдыха, почти ежедневно устраивал авралы и учения. Отличившиеся получали стакан плохонького рейнского вина. Вскоре весь экипаж был готов встретить настоящий шторм. Пикара не покидала уверенность, что рейс в Кальяо будет успешным. А обратный? Здесь все зависит от бога и… умения! Так думал Пикар, имевший на своем счету не одну своевременно потопленную «старую калошу». Это пикантное дело было его второй, но самой доходной профессией. Такие профессиональные губители парусников появились в годы ожесточенной, бескомпромиссной схватки парусного и парового флота. В Буэнос-Айресе «Леопольд» простоял недолго, запасаясь пресной водой и свежей провизией. Но, несмотря на принятые меры, один из юнцов — искатель приключений, сумел сбежать с корабля. — Бестия! — прошипел Пикар штурману. — Воспользовался даровым проездом, щенок, и даже махнул рукой на жалованье, которое мы выплатим только в Кальяо! Надо быть настороже в Вальпараисо. — Вот увидите, капитан, когда пойдем в обратный путь он будет слезно молить в Айресе, чтоб отвезли его обратно к папе и маме, — усмехнулся штурман. — Я уже вижу лохмотья этого блудного сына и грязные подтеки от слез на мордашке! В глазах Пикара мелькнул хитрый огонек, но он ничего не ответил. Оба еще не знали, что парнишке достался счастливый жребий. От самого Буэнос-Айреса Атлантический океан трепал «Леопольда» непрерывными бурями, словно в отместку за относительно спокойную первую часть плавания. Экипаж был измотан не учебными, а всамделишными авралами. А бывалые моряки стращали новичков мысом Горн. При постоянных сильнейших западных ветрах это самое труднопроходимое место в мире, а при частых штормах — хуже Дантова ада! Уж кого-нибудь и чего-нибудь недосчитаемся! Наступил апрель, весенний месяц в северном полушарии, а здесь были длинные ночи, холодные ветры — осень! Незнакомые созвездия, загадочные, как египетские иероглифы, проглядывали сквозь случайные окошки в сплошной пелене туч. Однако мыс Горн, несмотря на карканье бывалых моряков, обогнули удачно при порывистых, но умеренных западных ветрах, затрудняющих проход из одного океана в другой. «Леопольд» уже бороздил Тихий океан — вот он плещется своими огромными серыми волнами! И у новичков отлегло от сердца: мыс Горн уже за спиной. Но ветер был свежим, а белые барашки волн и срывающиеся с их верхушек мириады жемчужных брызг, по мнению Пикара, ничего хорошего не сулили. Южнее, у мыса Горн, начиналось очередное светопреставление. Пройдет немного времени, «театр военных действий» охватит акваторию, где плыл «Леопольд»…Корабль исчез. Судам, шедшим из Атлантики в Тихий океан и в обратном направлении, а также совершающим каботажные плавания вдоль западного и восточного побережий Южноамериканского материка, давали указания искать пропавший парусник и его экипаж. Но большинство капитанов не хотело терять драгоценного времени — у них груз, дела, коммерция… И они шли своим курсом, не слишком отклоняясь от него, лишь безрезультатно шаря по горизонту биноклями для успокоения совести. Гибель «Леопольда», небольшого корабля, водоизмещением всего в 1200 тонн, так и промелькнула бы только в газетах в виде краткого сообщения в несколько строк петитом, если бы вскоре в печати не появился рассказ единственного спасшегося с этого корабля моряка. Описание кораблекрушения и короткая робинзонада Луи Тусена стали новостью номер один.
В плену урагана
Казалось бы, что нового, интересного мог рассказать счастливец Луи Тусен? В пучинах морей и океанов погибло столько парусников, что, если бы их выстроить в кильватерную колонну, она, пожалуй, опоясала бы шар земной! Но каждое кораблекрушение — особая, неповторимая трагедия. До изобретения радио большинство судов гибло безмолвно — пропадало без вести, как часто случается на войне. Здесь дело было иначе: об обстоятельствах гибели «Леопольда» поведал единственный оставшийся в живых пощаженный стихией моряк, ставший одним из Робинзонов XIX века. 11 апреля 1858 года при свежем попутном ветре и большом волнении «Леопольд» быстро бежал под всеми парусами на север. Тихий океан был суров. Над волнами нависало серо-черное мрачное небо. Тучи проносились с такой быстротой, что от их стремительного бега у новичков кружилась голова. По временам лил холодный дождь, густой косой сеткой обволакивающий окрестность, так что за пять кабельтовых ничего нельзя было различить. Капитан и штурман неотлучно находились на посту. Наступившая ночь, ненамного темнее, чем минувший день, не принесла облегчения. Свободные от вахты матросы пытались уснуть, но лишь немногим это удалось. Ветер настолько усилился, что пришлось убрать все паруса и лечь в дрейф. Это была уже первостатейная буря, как мрачно шутил Пикар: «Спектакль в сто актов, но без антрактов!» Уже несколько суток не представлялось возможным определиться. Но Пикар полагал, что корабль отнесен несколько на запад, в открытый океан, и поэтому не опасался, что он сядет на мель или его выбросит на берег. Такая необоснованная уверенность оказалась роковой. В пять утра, когда буря уже перешла в настоящий ураган, корабль внезапно резко вздрогнул и остановился, как олень, настигнутый пулей. Многие моряки не удержались на ногах. Раздался оглушительный, леденящий душу треск. Стало ясно, что судно наскочило на подводную скалу. С хрустом и стоном распарывался корпус «Леопольда». Корабль завалился на левый бок. Огромная волна снесла ют, а вместе с ним штурмана и юнгу, смышленого паренька из рыбачьего поселка, мечтавшего увидеть индейцев, охотиться на бизонов, объезжать неукротимых мустангов, а потом привезти своей младшей сестренке диковинные сувениры из далекой Америки. Темнота, густая, как кофейная гуща… Беснуется дьявольский ураган. Сорваны все шлюпки — как ореховые скорлупки они взметнулись на гребень волны и исчезли в пенящейся бездне. Плохо закрепленный в трюмах груз сполз в сторону крена, и правый борт «Леопольда» еще больше поднялся.
Трещит по швам утлая деревянная посудина. Корабль обречен. Судьба экипажа предрешена. А ведь все рассчитывали, что через два-три дня «Леопольд» будет в Вальпараисо — «райской долине». Вместо этого он прибыл прямым курсом в кромешный ад! И сейчас, в самый тяжелый момент, каждый думал только о себе, а это было гибельным для всех. Те, кого еще не смыли волны, взобрались на грот-мачту (и даже в «воронье гнездо»!) или судорожно уцепились за леера у правого борта. Судно с треском расползалось, как истлевшая ткань. Полтора часа, распарываемое скалой, оно противостояло урагану. Не один «девятый вал» обрушивал на него свою неукротимую мощь, но агонизирующий «Леопольд» не сдавался. Когда же еще один исполинский вал обрушился на судно, грот-мачту и всех, кто на ней искал спасения, смыло в море. Из тридцати человек команды осталось только двенадцать. Девять моряков собрались на утлегаре — продолжении бушприта. Только теперь они увидели, что еще трое — капитан Пикар, судовой плотник и матрос нашли убежище под марсом бизань-мачты. Кормовая часть судна оседала буквально на глазах — вот-вот корабль переломится пополам. Тогда искавшие спасение на утлегаре стали звать группу Пикара, пока не поздно, присоединиться к ним. Путь был смертельно опасным — им владело море! При переходе на нос судна матроса смыло за борт. Шкипер Пикар проклинал все на свете. Он, опытнейший капитан, специализировавшийся на потоплении «старых калош» для получения страховки, в этот рейс готовил подобную судьбу и «Леопольду», но после сдачи груза в Кальяо. Пикар мечтал о том, чтобы это плавание было последним его походом под парусами, чтобы, вернувшись на родину, он смог сдать испытания на звание капитана паровых кораблей. И вот «Леопольд» гибнет, но не по воле его, Пикара, а по прихоти урагана. Злая ирония судьбы! Божье наказание? Нет ни бога, ни черта! Жизнь — рулетка, и ему дьявольски не повезло на последней крупной ставке. А этот пройдоха Лонгвиль — вот кого следовало бы наказать справедливому боженьке — после гибели корабля получит весомую страховую премию, а вдове капитана (можно в этом не сомневаться!) не выплатит ни сантима из того, что было обещано за «устройство» гибели корабля. Пикара трясло от бессильного гнева. Трое суток, проведенных почти без сна, лишили его душевных сил и обычной трезвой уравновешенности. Пути к спасению он не видел. Пикар даже не знал точно, где они находятся, где-то у западных берегов Южной Америки. И это все!.. Но может быть, внезапно унесется в другие широты океана этот грозный ураган и придет спасение? Ах, если бы… Тогда он встретится с Лонгвилем и сможет сказать ему: — Шкипер Пикар, «могильщик кораблей», умер! Так выпьем же, мосье, доброго старого рейнского вина за здоровье и процветание капитана парохода Пикара! Мечты!.. Горько-соленый вкус океанской воды на губах Пикара возвратил его из царства грез к реальной действительности.
В последний час
Шкипер словно очнулся. Чувство обреченности и душевного оцепенения исчезло. Нет! Черт возьми! Надо бороться за жизнь, а не покорно ждать неотвратимого конца. Пикар пристально всматривался в первозданный хаос, окружавший обломки «Леопольда». Что это? Ему мерещится или в самом деле он видит нечто многообещающее? Да, да, в этом нет сомнений. Вот она — надежда! Пикар взглянул на сбившихся в кучу, вцепившихся в снасти матросов и, свирепея от ярости, прорычал: — Крысы и те уже покинули этот гроб, а вы, морячки, ждете, когда наконец наступит срок пустить пузыри… В наступившем затишье его услышали все. — Смотрите! — Пикар указал налево. Головы моряков повернулись в указанном направлении. Уже наступил рассвет, и, хотя низко нависающие над морем тучи сгущали мрак, все ясно увидели, что не более чем в пятидесяти ярдах находятся скалы. Скала, на которую напоролся «Леопольд», не была одинокой. На таком же расстоянии от скал под вспененнымиволнами угадывалась суша. А близость суши — это жизнь! Но близок локоть… — Крысы, поверьте, уже там… завтракают… — Пикар рассмеялся, разрядив истерическим смехом нервное напряжение последних дней. И хотя ураган еще не утих, он уже не был так страшен — в сердца вселилась надежда: недалеко земля! Путь к ней прегражден лабиринтом рифов и скал, вероятно, не все достигнут суши, но лучше погибнуть в борьбе, чем цепляться за обломки стонущего, истерзанного парусника, доживающего последние часы. Надежда звала к действию! Один из матросов, видимо, не раз смотревший в глаза смертельной опасности, связал обрывки снастей, один конец вручил остающимся на корабле, взял другой и, махнув на прощание, отдался на волю клокочущего вала, который тут же унес его к скалам. Бесстрашный моряк надеялся добраться до них и закрепить конец, чтобы, держась за канат, остальные могли с меньшей опасностью покинуть судно. А потом можно было перебраться и на сушу… Взоры всех обратились к смельчаку, словно гипнотизировали его — от успеха предприятия так много зависело. Корабельные Обломки, которыми жонглировали волны, вырвали конец у матроса и в то же мгновение — о, боже! — он скрылся в волнах, а обломки уже плясали там, где исчез несчастный… Стон вырвался из уст матросов на «Леопольде»! Но героический поступок моряка, пожертвовавшего жизнью ради спасения товарищей, послужил добрым примером. От группы отделился другой старый моряк — Гретри. Он обвел товарищей глазами и пошевелил губами, но ничего не сказал. А может быть, что-то произнес? Разве услышишь слова в дьявольском реве урагана? Гретри, держась за канат, бросился в воду, пытаясь добраться до скал. Но, когда прошумел очередной вал, Гретри уже не было видно на поверхности. Лишь волна швыряла конец, который секунду назад держал моряк. Если бы Пикар был моложе и не страдал нажитым на море ревматизмом, сковывающим движения, он бы… Но что поделаешь! К тому же он как капитан — дьявол побери! — должен оставить корабль последним! И Пикар, еще не теряя надежды на спасение, громко спросил: — Кто еще умеет хорошо плавать, матросики? Из восьми человек откликнулся только один. Вот когда сказалась прижимистость Пикара, оттолкнувшая опытных моряков, но не искателей приключений, мечтавших лишь добраться до Америки. Что мог сделать еще один пловец в этом лабиринте скал при неутихающем шторме? Пикар лихорадочно думал. Корма судна уже разрушена, скоро наступит черед и носовой части. Надо торопиться. Неужели нет никакого выхода? Ведь берег так близок, там, за скалами! Может быть, закрепить конец на еще не смытом волнами обломке фок-мачты, обрубить такелаж, связывающий его с кораблем… Волна смоет обломок, отнесет к скалам, он застрянет между ними, тогда, держась за трос, можно будет… Но эту идею осуществить не пришлось. Один за другим накатились три гигантских вала, которые и завершили разрушение «Леопольда». Носовая часть судна пошла ко дну, а вместе с ней и все девять человек — последние из экипажа. …Луи Тусен, волей провидения оставшийся в живых, рассказывал: «Когда волны хоронили «Леопольда», а ураган отпевал его бренные-останки, после множества чувствительных ударов о скалы мне показалось, что я нахожусь на дне. Вдоволь наглотавшись морской воды, я собрал последние силы и пытался всплыть на поверхность. В глазах мелькали огненные круги, мне необходим был хотя бы глоток воздуха, сердце замирало в груди, я чувствовал, что теряю сознание. И тут я энергично — ведь дело шло о моей жизни! — оттолкнулся от скалистого дна, который, оказалось, поднимался круто вверх. Шум в ушах, внутренности как будто раздирают острые когти, но я цепляюсь за выступы скалы и наконец вдыхаю глоток живительного воздуха, смешанного с солеными брызгами. Жив! Я очутился на скале, гладкой, словно отполированной, не за что уцепиться. Я скользил, сползал к воде. Последним отчаянным усилием я поспешил взобраться повыше, чтобы стать недосягаемым для волн. Вглядевшись в клокочущие волны, я увидел Пикара и некоторых других моряков, барахтающихся между скал. Держась за обломки, они, видимо, напрягали все силы, чтобы достичь берега. Многие уже были совсем близко — в пятнадцати — двадцати ярдах от меня. Я осторожно спустился вниз и ловко поймал прибитый волной конец, думая бросить его товарищам, но набегающий вал заставил меня вновь подняться на скалу как можно выше. Когда вал, рассыпая миллионы брызг, отпрянул, никого уже на волнах не было видно. Исчезли и остатки корабля. Море разметало и поглотило все, торопясь скорее замести следы своего очередного преступления!»Робинзонада
Луи Тусен долго смотрел на роковое место гибели «Леопольда», словно все еще не верил, что парусника больше не существует. Все пережитое за какие-нибудь сутки смешалось в его сознании в фантастический клубок, напоминающий кошмарные, неправдоподобные сновидения. Ему вспомнились бесконечные наивные разговоры в кубрике после вахт о чудесах и богатствах заокеанского мира, которые — только пожелай! — могут принадлежать каждому. И вот теперь этих мечтателей поглотил властный и негостеприимный Тихий океан. Словно в горячечном бреду ему показалось, что перед ним не ребра скал, торчащих из воды, а тела его погибших товарищей. Тусена затрясло как в лихорадке. Он подумал, что сходит с ума… Море становилось все более смирным, все менее высокие волны взлетали на скалистые берега острова, словно ураган решил прекратить свое неистовство, как только завершил уничтожение корабля. Вот уже волны набегают совсем лениво, обессиленно. Посветлели тучи, излив потоки влаги в бескрайний океан. И ветер угомонился, присмирел, вдосталь насытившись бесшабашным разгулом. Новоявленный Робинзон не мог знать, долго ли пробудет на этом клочке суши. Он даже не ведал, обитаем ли остров, но, как моряк, полагал, что из-за берегов, окаймленных торчащими из воды скалами и опасными подводными камнями, вряд ли кто рискнет поселиться на таком труднодоступном острове. С Тусена ручейками стекала вода. Сейчас он думал только о том, чтобы согреться и обсохнуть. Спички? Их не было, к тридцати годам он сумел уберечь себя от «дьявольского зелья» — табака. Ну, а если бы даже спички у него оказались? Разве можно было рассчитывать сразу же разжечь огонь с помощью размокших спичек? От усталости ныло тело. Тусен спотыкался на мокрых камнях. Не в силах идти в глубь острова Тусен неуклюже повалился на сравнительно ровную площадку, лязгая от холода зубами. Засыпая, он услышал чей-то богатырский храп и с величайшей радостью стал прислушиваться: значит, он не один? Храп прекратился, а Тусен рассмеялся, поняв, что это храпел он сам — ну кто другой, кроме него, единственного счастливца с «Леопольда», мог здесь храпеть? Это были те блаженные минуты, когда человек словно начинает терять способность к ощущениям, все заботы и невзгоды отодвигаются куда-то далеко и наступает забытье без сновидений. Сон был, продолжительным, а пробуждение тяжелым. Ныло тело, стучало в висках, голова была свинцовой и будто распухла, в сухом рту ощущался противный вкус, поташнивало. Впрочем, все это не было удивительным — Тусен не ел больше суток, да еще наглотался морской воды. Он поднялся, огляделся. Над ним в разрывах облаков просвечивало синее небо. Новый Робинзон прежде всего решил заняться розысками предметов, выброшенных морем, тут он, конечно, не был оригинален. Улов оказался весьма скромным. Помимо досок, пригодных для сооружения шалаша, ему удалось найти ящик с небольшим количеством сухарей, пропитавшихся морской водой и раскисших, но и такую находку Тусен посчитал большим счастьем! Небо постепенно очищалось, выглянуло солнце. Тусен приступил к трапезе — принялся за сухарь, но тотчас выплюнул: он был отвратительного горько-соленого вкуса. Тусен решил осмотреть остров, на который забросила его судьба. Сложив из камней и досок высокий и приметный ориентир, чтобы потом можно было легко найти свой лагерь, он отправился в рекогносцировку, держась вблизи берега. Кружилась голова, ноги подкашивались. Следов пребывания человека Тусен не нашел, но убедился, что остров, хозяином и пленником которого он неожиданно стал, был малопривлекательным — у настоящего Робинзона было несравненно более гостеприимное владение. За прибрежной каменистой полосой простирался пояс густой растительности — осока, папоротник, вереск. Еще далее, в глубь острова, тянулась чавкающая под ногами заболоченная губчатая почва торфяников, занимавших всю середину острова и наиболее сухих в центральной его части. Кое-где Тусен обнаружил довольно обширные густые заросли кустарников и чахлых, невысоких, искривленных деревьев. Не дойдя до северной оконечности, новый Робинзон повернул обратно и с трудом нашел свою стоянку: так однообразен был унылый ландшафт побережья! Ту* сена обрадовало, что остров оживлялся довольно значительными птичьими базарами, да еще небольшими цветистыми пятнами разнообразных ягодников с довольно вкусными плодами. Четыре дня Тусен питался только сухарями, употребляя их как отвратительное лекарство три раза в день — утром, в полдень и вечером по два на «прием», заедая ягодами. Только острое чувство голода могло заставить его жевать эти сухари. Сравнительно теплые дни сменялись холодными, росными ночами. Тусен обзавелся жильем — соорудил примитивный шалаш. Пресной воды хватало, хотя дожди прекратились. Она была невкусной и отдавала болотной гнилью. Море подарило Тусену единственный сосуд — жбан из-под деревянного масла, применявшегося на «Леопольде» для освещения. Океан неохотно расставался со своими трофеями, полезными для узника необитаемого острова.
Когда кончились сухари, Тусен несколько дней питался кисловатыми ягодами — на завтрак, обед и ужин он располагал только одним этим десертом. Потом ему удалось обнаружить растение, сходное с сельдереем по виду и вкусу, которое он вынужден был есть сырым. Итак, кроме десерта он обладал еще приправой… ну, хотя бы к бифштексу, но ведь не было самого бифштекса! Тусен еще не сумел овладеть огнем, которым располагали его далекие пещерные предки. Вспомнив о том, как аборигены Австралии добывают огонь трением дощечки о дощечку, Тусен в течение нескольких дней усердно, в поте лица трудился, чтобы добыть хотя бы одну золотистую искру. От слабости и перенапряжения в его глазах мелькали огоньки, но другого огня ему получить так и не удалось! Ягоды — диета для тучных, и в таком лечебном питании Тусен не нуждался — он был довольно тощ. Сельдерей же просто приправа, а не пища. Но чем-то надо было наполнять требовательный желудок. Тусена не устраивала вынужденная роль травоядного существа. Что поделаешь, если единственное оружие — суковатая палка? Он, хищно облизываясь, с вожделением взирал на стаи говорливых птиц, поднимавшихся в воздух, стоило лишь приблизиться к ним. Это исчезал вкусный, ароматный бульон и аппетитно пахнущая поджаренная дичь! Многократные попытки убить какую-либо из гнездившихся на острове птиц долго были безрезультатными, но однажды охота увенчалась успехом. Птица с перебитым крылом пыталась улететь, но Луи с диким воем погнался за ней, подпрыгнул на рекордную высоту, ухватил несчастную за изувеченное крыло, упал на каменистую почву со своей долгожданной добычей, смеясь от радости и плача от ушибов. Кое-как ощипав еще теплую тушку, он рвал зубами жесткое сырое мясо, слегка попахивающее рыбой. Нет! Так больше жить нельзя! Он должен овладеть рг-нем! Если добывать его могут даже нецивилизованные народы, неужели он, моряк, не добьется этого? Новый Робинзон однажды нашел металлическую скобу, но она проржавела и при ударах о камень искры не высекала. Он долго шлифовал и полировал свое примитивное огниво влажным песком, пока оно не засверкало на солнце. Это была неплохая немецкая сталь. Но камешки, которые Луи собирал во множестве, подходящих искр не давали — нужен был благородный кремень! Как-то его внимание привлек полупрозрачный камешек молочного цвета. Тусен вспомнил, что в детстве пользовался похожим камешком как кресалом. Теперь искры получались «первоклассные», но раздуть из искры огонь оказалось делом тоже нелегким — недаром древние создали прекрасный миф о Прометее! Самым счастливым днем в своей жизни Тусен стал считать тот, когда, раздувая затлевшее волокно, увидел неярко вспыхнувшее пламя. Вскоре весело запылал раздуваемый ветерком костер, а возле него восторженно отплясывал тощий оборванец, владыка необитаемого острова, его высочество Луи Тусен I, как он шутливо себя называл. С этого дня жизнь отшельника стала налаживаться. Но огонь надо было хранить постоянно — ведь не станешь каждодневно совершать столь тягостную и длительную процедуру. Моряк сложил на каменном грунте небольшую кучку из торфа и обложил ее со всех сторон большими камнями, чтобы ветер не особенно сильно раздувал тлеющий костер. Так Тусен стал обладателем «священного очага». Правда, владеть таким сокровищем было довольно хлопотно — несколько раз в день, да и ночью, когда просыпался, Луи подкладывал в огонь торф. Томительно тянулись дни. Многое передумал Луи за время своего вынужденного затворничества. Вспоминал, как в детстве, начитавшись приключенских романов, мечтал о дальних путешествиях, о манящей далекой Америке, но никогда не предполагал, что ему уготована участь Робинзона. Дефо снабдил своего героя остатками корабля — Луи же был лишен такого комфорта. Его преследовали и другие неудачи: птица не попадалась в его неумело сделанные силки. А пять птиц, которых он добыл за все время пребывания на острове, были убиты самым примитивным оружием — палкой! Из сотни попыток только одна приносила успех — труд явно непродуктивный. Он варил свою добычу с сельдереем и другими съедобными кореньями, находя, что изобретенное им новое блюдо — пища вполне подходящая. Тусен почти не питал надежд на спасение в близком будущем. Он старался не дразнить свое воображение бесплодным разглядыванием горизонта, но все же однажды воспылал напрасной надеждой, приняв тучки за дымок парохода. В один из бурных дней ему почудилось, что на западе дрейфует большой военный парусник, но он уверял себя, что это игра расстроенного воображения. В эти воды суда заходили, видимо, исключительно редко. Они шли в недосягаемое, благодатное Вальпараисо значительно мористее, избегая шхерного района с лабиринтом островов и скал, торчащих как зубы дракона. Чтобы не таскать торф на большое расстояние, Луи предпочел расположить свой «священный очаг» вблизи огромного торфяника, занимавшего всю внутреннюю часть острова. Здесь и были его «кухня» и «столовая». Шалаш, в котором Тусен проводил ночь и отдыхал после утомительных трудов, он решил оставить на прежнем месте: каменистое ложе, как он рассудил, будет всегда сухим. Оно, кстати, было неподалеку от места крушения «Леопольда», куда Тусен частенько наведывался в надежде, что океан еще подбросит ему что-либо полезное.
Пылающий остров
С английского военного судна, производившего промеры глубин у западных берегов Южной Америки, заметили на востоке огромные клубы дыма. Молодой офицер пристально наблюдал в бинокль удивительный феномен природы. Издали казалось, что на огромной площади горит само море и дым исходит прямо из морских пучин. Быстрый на выводы, как это часто свойственно молодым, офицер решил, что это подводное извержение вулкана, рождение новой огнедышащей горы. Он размышлял так. Огромный тихоокеанский пояс разломов и вулканических цепей немного далее к северу представлен в океане островами вулканического происхождения — Хуан-Фернандес, а к северо-западу, на самом восточном краю Полинезии, — островом Пасхи — Рапа-Нуи. Нет ничего удивительного, что здесь, в ближайшем соседстве с Чилийскими Кордильерами, со дна моря поднимается новый вулкан. О, людям очень редко удается созерцать, как могущественная природа вершит свои величественные дела! Лейтенант испытывал радость, сознавая, что принадлежит к немногим очевидцам таинства природы! Он так увлекся своими наблюдениями и размышлениями, что не заметил, как рядом с ним оказался пожилой, но молодцеватый капитан. — Итак, лейтенант, как вы полагаете, что там происходит? — спросил он с едва заметной улыбкой. Лейтенант, переполненный благоговейным преклонением перед чудодейственными силами природы, вздрогнул от неожиданности и нехотя опустил бинокль. — Полагаю, кэптен, что там свершается великое таинство природы, — напыщенно начал он, — рождается новый вулкан… Лейтенант резким движением протянул бинокль. — Смотрите!.. Мне кажется, я не ошибаюсь. Капитан с иронической улыбкой взял его, приставил к глазам, медленно обвел взглядом дымный горизонт и, повернувшись к своему собеседнику, все с той же улыбкой вернул бинокль: — Все ясно. Судя по лоции, здесь островок. Значит, горит лес или торф, что не столь примечательно, как возникновение нового вулкана. Но и в этом случае может подразумеваться некая романтика… Подумайте, как может загореться лес на необитаемом острове? — капитан подчеркнул два последних слова. — Такому загадочному обстоятельству может потребоваться романтическая разгадка. Одно из предположений: поджигателями могут быть пираты, устроившие здесь тайный притон. Хлебнув вест-индского рома, они оставили непогашенным костер, предоставив дальнейшее заботам свежего ветра — вот вам и пожар. Впрочем, случаются пожары и от гроз. Но в это время года гроз здесь не бывает. Иногда наблюдается и самовозгорание торфа… Итак, курс на остров, лейтенант!Шли двадцатые сутки пребывания Луи Тусена на необитаемом острове. Он сильно ослаб, пал духом. Надежд на скорое спасение не было. Ни разу не удалось увидеть на горизонте дымка парохода или парусов шхуны. С каждым днем становилось холоднее. Зима южного полушария неотвратимо шагала от Антарктиды все дальше на север. Дули пронизывающие южные ветры, а благодатный северный ветерок баловал редко. У Тусена не было сил смастерить плот, связав обрывками снастей несколько досок, да и пуститься на нем в рискованное плавание он бы не решился. Куда понесут его своевольные ветры и течения? Может быть, еще дальше от материка, в беспредельный океан? А если прибьет к ближайшей суше, будет ли там лучше? Все окружающие островки, видимо, тоже необитаемы. Здесь по крайней мере он уже обжился, знал, где можно найти пресную воду, ягоды, поохотиться на птиц; здесь было в изобилии хорошее топливо — торф. Шалаш стал уютнее, и Тусен подумывал о том, как соорудить к зиме очаг. Большим счастьем было то, что ему не докучали крысы, хотя он не сомневался, что эти внештатные члены экипажа «Леопольда» нашли убежище на островке.

Наш Робинзон большую часть времени проводил в шалаше, мастеря что-либо «по хозяйству», а сейчас все свои усилия сосредоточил на изготовлении лука и стрел, так как проблемой номер один для него оставалось добывание животной пищи. Тусен голодал. Он часто поднимался на самую высокую скалу, футов на 30 возвышающуюся над поверхностью острова, и долго разглядывал горизонт, не оживляемый ничем. Мертвыми казались острова, безжизненным; было холодное, неуютное море. Он не верил, что его подберет какой-нибудь корабль, а надвигавшаяся зима не могла сулить ничего утешительного. Ему казалось, что птицы уже начали покидать остров и тянутся к северу, а с их отлетом реальной становилась угроза смерти от истощения. В минуты душевной слабости — они приходили все чаще! — Луи даже завидовал своим товарищам, нашедшим вечный покой в волнах океана. Участились бури, пронзительнее стали ветры. Когда-нибудь он выйдет из шалаша и увидит пелену ослепительно белого снега!.. По зарубкам на своей палке Тусен знал, что сегодня второе мая. День выдался хмурым, сильный южный ветер поднимал над островом тучи пыли. Першило в горле. Сельдерей, приправленный морской водой, уже настолько осточертел, что Тусен часто предпочитал оставаться голодным. Сегодня он был особенно голоден и настойчиво преследовал птиц. Но те уклонялись от ударов его палки и, улетая, издевательски хохотали над ним: так по крайней мере он расценивал их крики. Согреваясь у костра, Тусен пришел к твердому решению несколько последующих дней целиком посвятить охоте на птиц. Ведь пока они не оставили остров, следовало сделать солидный запас солонины. Вместо соли он употреблял морскую воду. С этими мыслями он отправился спать в свой шалаш.
Сон его был беспокойным. Ему приснилось, что на «Леопольде» возник пожар и Пикар распорядился: — Все помпы в ход! Перекинуты за борт брезентовые рукава. Струи воды, отражающие пламя, словно огненные фонтаны, ударили в колыхающиеся султаны пожара. Они рухнули, рассыпались на множество рыжих локонов и искр и готовы были вот-вот погаснуть. Но тут на Луи напала неожиданная слабость — сердце забилось с перебоями, перехватило дыхание, руки словно парализовало. А Пикар надрывно причал: — Нажимай! Еще! Сильней! Тусен, мерзавец, чего стал? Его напарник тоже в изнеможении отдыхал. У Тусена уже не оставалось сил, чтобы толкнуть хотя бы раз эти тяжелые чертовы помпы. Со страшными ручательствами разъяренный Пикар подскочил к Тусену и ударил его в грудь… И тут Луи проснулся. Задыхаясь от дыма, наполнившего шалаш, он выскочил на воздух и остановился, пораженный необычайно красивым, но страшным зрелищем. Сзади была густая, черная, как деготь, ночь, а впереди, насколько хватал глаз, охватив почти половину горизонта, бушевал золотистыми огнями торфяник и кустарники. Этот золотой разлив, местами похожий на поток раскаленной лавы, увенчивали клубы густого дыма, устремляющегося к северу, но отдельные слабые порывы ветра по временам несли дым и гарь прямо на Тусена, и тогда он кашлял и задыхался. Если бы ветер был восточным, Тусен давно бы уже превратился в своем шалаше в обугленный труп. Огромные стаи встревоженных птиц, горланя, носились над ним. Как хорошо, что он не соорудил свой шалаш у торфяника, ведь однажды он и намеревался так поступить. Ему следовало расположить «священный очаг» вблизи дома, а торф подносить от торфяника. Это от его очага возник чудовищный пожар! Третьего мая весь день бушевал пожар, возникший по вине Тусена. Наш маленький Нерон наслаждался не столько зрелищем, сколько теплом, исходившим от огромного костра, охватившего почти все владение Луи Тусена I. Вдруг его осенила обнадеживающая мысль: «А не привлекут ли чье-нибудь внимание клубы дыма? Жгут же костры терпящие бедствие моряки с подобной целью, и часто эти сигналы спасительны». Но тут же Луи прогнал столь соблазнительную, но маловероятную возможность. Кому придет в голову, что это огромное пожарище — всего лишь сигнал бедствия? Кратковременная надежда исчезла, пришли другие мысли. Пожар мог обернуться для Тусена трагически: разве исключено, что птицы поспешат покинуть опустошенный остров? А это конец! И Тусен впал в уныние. К четвертому мая пожар присмирел, только клубы дыма все еще густо висели над дотлевающей сухой частью торфяника.
«Что вы здесь делаете?»
Корабль приближался к предполагаемому вулкану. И хотя вахта лейтенанта еще не наступила, он не мог усидеть в своей каюте и поднялся на палубу. Постепенно «вулкан» стал принимать очертания низменного острова, окруженного надводными скалами и пенистыми бурунами. Клубы дыма уменьшились, пламени не было видно. Даже на близком расстоянии не чувствовалось характерного для вулканического извержения запаха серы — пахло обычной гарью, на поверхности моря не плавала типичная ноздреватая пемза — это все, к великому сожалению лейтенанта, указывало на правоту капитана. Причина же пожара оставалась загадкой. Всю ночь корабль крейсировал в некотором отдалении От острова, а утром после обсервации капитан-решил высадить небольшой вооруженный десант, отложив работы по промерам на денек. При тщательном наблюдении с «вороньего гнезда» ничего подозрительного на острове не обнаружили. Если там и были пираты, они не оставили заметных следов. Однако дымная пелена скрывала значительную часть острова, и окончательные выводы делать было рано. Вблизи острова не было и пиратского корабля. Правда, его могли укрыть поодаль, за более возвышенными соседними островами. Многочисленные буруны препятствовали высадке. С трудом выбрали удобное место, чтобы подвести шлюпку к берегу. Десант был высажен. Часть людей осталась в шлюпке. Они должны были следовать вдоль берега за десантом и в случае необходимости оказать помощь. Семь военных моряков с ружьями наперевес продвигались вперед со всеми возможными предосторожностями, держась ближе к берегу и избегая все еще пышущего жаром торфяника. Следов пребывания человека никто не замечал. Но встреча с людьми была вероятной, так как у скопища скал виднелись следы недавнего кораблекрушения — обломки мачт, доски, бочки, части каких-то механизмов из груза погибшего, явно не пиратского корабля. Уже оставалось пройти совсем немного, чтобы завершить круговой обход острова. И вдруг английские моряки наткнулись на человека, сидевшего на корточках у очага палеолитической конструкции, над которым висела закопченная жестянка с каким-то клокочущим варевом. Обросший, со слежавшимися, давно не мытыми и не чесанными волосами, в изодранной одежде странный субъект совершенно не походил на преуспевающего пирата. А именно пиратов опасался капитан, снаряжая десант! Человек был так увлечен своим кулинарным занятием или упорными думами, что не услышал, как к нему почти вплотную подошли семь моряков. — Что вы здесь делаете? — раздался строгий окрик за спиной Тусена. Он обернулся, поднялся, долго моргал воспаленными глазами, переводя их с одного вооруженного незнакомца на другого, и не произносил ни слова. Вероятно, до его сознания не доходил тот простой факт, что перед ним стоят его спасители. Он с явным вожделением бросил взгляд на жестянку с кипящим, вкусно пахнущим обедом, словно сожалел, что нежданные гости помешали трапезе. Но вдруг его лицо озарилось радостной улыбкой, он всхлипнул по-детски жалобным голоском и упал навзничь как подкошенный, широко раскинув руки. Только солидная порция рома, влитого в рот, привела Луи Тусена в чувство. Но и после этого он продолжал молчать, взирая на людей с ружьями недоверчиво и отчужденно, как каторжник на своих конвоиров. Он не мог вспомнить ни одного английского слова, хотя много плавал в европейских водах и знал английский неплохо, а также ясно видел, что перед ним английские военные моряки. Наконец Тусен осознал все значение этой встречи. Он спасен! Он больше не будет есть сельдерей! Он будет сыт, сыт. И тогда, легко вспоминая забытые слова, Тусен поведал свою печальную историю. С большим трудом он добрался до шлюпки, а подняться по трапу на корабль самостоятельно не смог. Он был необычайно истощен и, сам того не ведая, находился уже на пороге смерти. Морякам было известно о гибели «Леопольда», и они заботливо отнеслись к сотоварищу, попавшему в беду. А когда корабль пришел в Вальпараисо, Тусена атаковали репортеры, и по телеграфным проводам заструился рассказ единственного моряка, спасшегося с погибшего парусника «Леопольда».Когда одиссея Луи Тусена стала известна в Европе, дочь Гретри прочла в местной газетке короткую историю гибели «Леопольда». Имени Тусена упомянуто не было. Со слабой надеждой, что единственный спасшийся — ее отец, она пришла в контору. Клерк Эмиль, всегда такой предупредительный и любезный, сегодня был мрачен и молчалив. Узнав, что отец погиб, она, не сдерживая слез, побрела в порт и там долго смотрела на волны, размеренно набегавшие на набережную. К пирсу, где стояла красавица яхта, подкатил сверкающий лаком кабриолет. Из него выпорхнул кругленький Лонгвиль, сопровождаемый клерком. Он отправлялся во Флиссинген, где собирался сделать заказ на постройку парохода для скоростных трансатлантических рейсов. Капитал не может лежать в дрейфе и ждать попутного ветра — он должен находиться в постоянном движении. Как говорили древние, перпетуум мобиле…
Об авторе Варшавский Самуил Романович родился в 1906 году в Екатеринославе (ныне Днепропетровск), географ, председатель отделения истории географических знаний и исторической географии Московского филиала Географического общества СССР. Автор свыше семидесяти научных и научно-популярных статей в научных изданиях, а также журналах «Вокруг света», «Техника — молодежи» и других. Тематика статей в основном относится к истории географических знаний и исторической географии. В нашем сборнике публикуется второй раз. В настоящее время работает над докладом (для XIII Международного конгресса по истории наук) и статьей под названием «Возможные свидетельства предшественников Магеллана», а также готовит материалы по таким темам: «О проникновении в Америку досапиентного человека», «Аппенинский полуостров и доколумбова Америка».
Владимир Бардин
ОСЕНЬ В ТАЙГЕ

Очерк Рис. Л. Кулагина
1
Сочится небо сквозь ресницы,
И синева — мой потолок,
А листья желты, как страницы,
Но это — только лишь пролог.
Но только-только синий август
Переломился на сентябрь…
Неожиданно в ночь ударили холода. Когда рано утром, выбравшись из спального мешка, вышел я на порог избы, кожа вскипела от резкого холода. Обхватив руками плечи и щурясь от яркого света, я удивленно осмотрелся. Высокая, некошеная трава вокруг домика за ночь стала совсем белой. В утреннем свете сверкал и четко рисовался каждый стебель. Я тронул траву, она тихо зазвенела. Обогнув дом, я остановился на обрыве. Внизу угадывалась река. Воды не было видно. Над ней, как над разлитым кипятком, стояла белая пелена. Побулькивала, словно разговаривала сама с собой, вода. И вдруг с неба послышался шелест. Казалось, быстро-быстро переворачивались страницы тысяч книг. Я поднял голову. Летели гуси. Вытянувшись неровным, надломленным клином, они летели сосредоточенно, без крика… Нас осталось трое: Виктор, Игорь и я. Остальные уплыли по реке в Якутск. А оттуда улетят в Москву. Нам предстоит закончить работу, упаковать образцы и отправить их в Москву. Наш дом — заброшенная изба бакенщика на Мамонтовой горе — на самом берегу Алдана, в трехстах километрах от его впадения в Лену. На десятки километров вокруг жилья больше нет. И бакенщик давно здесь не живет: на бакенах и на маяках установлены батареи с фотоэлементами. Темнеет — и сам собой загорается свет. Чем темнее ночь, тем ярче огонь. Высоки обрывы Алдана, чего только тут нет: древесина, семена, шишки и даже кости мамонта. Сколько десятков тысяч лет все это пролежало в песке? Иногда попадаются тяжелые, словно покрытые ржавчиной, железистые конкреции. Ударишь по ним молотком, а на изломе — отпечатки листьев. Настоящий природный музей. Разобраться в нем — значит проследить все основные изменения природы этих мест за новейший геологический период, за последний миллион лет. Но до результатов еще далеко. Пока мы сидим сшиваем мешки — подготавливаем тару для образцов и снаряжения… Последние несколько дней тайгу лихорадит. То тут, то там, словно пятна на щеках больного, вспыхивают желтые краски. Береза желтеет быстро и целиком, на иголках лиственниц появляется легкая оторочка желтизны. Понемногу в тайге становится просторнее. Она раздевается. В березняках в сухой день хруст под ногами. Опавшие листья покрывают залихватскими кепками головки грибов. В брусничниках на повышениях темно-красные ягоды, отваливаясь от стеблей, ложатся на землю. Сок в них начинает бродить, как в бочонках. И когда положишь та-: кую, почти черную ягоду в рот, ощутишь вкус удивительного приготовленного солнцем и временем вина. Голубика в болотах морщится, словно собираясь чихнуть, сохнет на кустах и опадает, устилая траву голубым. Но постепенно желтое в своих бесчисленных оттенках — от светлых, словно тихая ласка, до красных, безрассудных огней — завладевает всем, и, как объятая холодным пожаром, тайга стоит, пронизанная волнами света и свежести. Захватив лопаты, мы сразу после завтрака выходим в маршрут. Сначала идем по песчаной косе, пересекаем, стараясь не набрать воды в сапоги, неглубокие протоки и выходим к подножию песчаного обрыва, тянущегося вдоль русла почти на десять километров. Здесь идти трудно. Вода примыкает к основанию склона, покрытому осыпями. Мы карабкаемся по ним, стараясь не съезжать к воде, где вязко, и сапоги уходят в дрожащую, зыбкую массу. У намеченного для работы Места останавливаемся. Лопатами расчищаем часть склона, чтобы вскрыть ненарушенные, свежие пласты породы. Зарисовываем, записываем все наблюдения в полевой дневник. Метр за метром, снизу вверх от самых древних слоев к самым молодым. И через каждые полметра берем образец — в Москву, на сложные анализы: споропыльцевой, химический, минералогический. Песок, песок. Желтый, как спелый горох, серый, как дождь, рыжий, как кора сосен. Песок. Тонкий, как манная крупа, грубый и крупный с мелкими камешками. Плотный, отваливающийся кусками и рыхлый, растекающийся по ладони. Песок, может быть, таящий золото. Возвращаясь вечером домой, мы находим наши утренние следы частью засыпанными обвалами. Обвалы происходят сейчас постоянно. Промерзшие склоны оттаивают на солнце, влажный песок обрушивается, а быстрое течение уносит песчинки, чтобы отложить их где-то на новом месте. Только с наступлением зимних холодов обрывы сделаются твердыми, как камень. Но река, даже скованная льдом, будет нести свои воды, вершить великую работу.
Река стара, река мудра,
Столетья — для нее года,
Но вечно молода вода!
По берегам ее когда-то
Вечнозеленые леса
Стояли, мокли, как солдаты,
И погибали на часах.
Потом своими языками
Ее лизали ледники,
И мамонты трясли клыками
От холода и от тоски.
Река умерших хоронила,
Мороз их сковывал тела.
И вот в обрывах сохранилась
Поэма — как река жила.
И камни сжали отпечатки
В своих застывших кулаках.
И в них загадки и отгадки
Того, что кануло в веках…
2
Жизнь на реке без рыбной ловли немыслима. Хотя, надо признаться, мы горе-рыбаки. С утра, пока я готовил завтрак, Виктор с Игорем без устали забрасывали блесну в Алдан. Один раз вытащили ерша. Крючок зацепил его за бок. Но больше поймать не удалось. — Даже на уху не хватит, — сетовал Виктор. В маршрут вышли без снастей. Ребята отстали, я ушел метров на триста вперед. Пересекая осыпи, я смотрел вниз на реку. Было солнечно, и на легкой водной ряби плясали ослепительные зайчики. Внезапно в прозрачной воде я увидел большую рыбину, которая подошла вплотную к берегу и, казалось, тыкалась носом в песчаные откосы. Я стоял метрах в десяти над ней. Искушение было велико. Я снял ружье, огляделся. Ребят не видно, их скрывал поворот берега. Прицелился. Фонтанчиками вскинулись брызги от вонзившихся в воду дробинок. Рыба дернулась и перевернулась вверх брюхом. Я поспешил к воде. К счастью, место оказалось не топким, и мне удалось достать добычу. Окунь попался не такой уж большой, но все же весил около килограмма. Вынутый из воды, он пришел в себя и начал биться. Я сунул его в рюкзак. Сзади спешили ребята. — Что случилось? — запыхавшись, спросил Виктор. — Да так, вот подбил на ужин. — Заяц? Рябчик? — Там, в рюкзаке. Можешь посмотреть, а я пойду вперед. На ужин у нас была уха. Осенью в тайге всякого зверья тьма. Следы лосей, росомах и, как давно ожидаемая неожиданность, след медведя. Но увидеть его самого не удается. Нынешний год — ягодный. сытые медведи держатся осторожно. Зато зайцы осенью наглеют. Заполняют березовые перелески. Выскакивают буквально из-под ног. Чаще всего это случается во время маршрута — и нет ружья под руками. Когда продукты у нас были на исходе, мы часто выходили в близлежащий лесок поохотиться на зайцев. Отойдя от домика шагов на пятьсот, снимаешь с плеча двустволку, взводишь один курок и идешь, не хоронясь, по хрусткой земле. Обычно не проходило и пятнадцати минут, как из кустов выскакивал заяц и, сделав несколько прыжков, застывал на мгновение. Листва с кустов уже частью опала, и было видно его повернутую любопытную голову. Затем он словно взвивался в воздух и стремительно исчезал в чаще. Во время таких остановок зайцев обычно и стреляют. Темнеть стало рано. И работа раньше кончается. Мы ужинаем за длинным столом, сколоченным из досок и накрепко вкопанным около избы. Очагом нам служит оказавшаяся здесь железная бочка без дна. Коэффициент полезного действия крайне высок — пламя в стороны не раздувает. Были, правды, споры: Виктор настаивал на костре. Но здравый смысл взял верх. Теперь к бочке привыкли и споров не возникает. На первое — бульон из зайца. Когда пошли зайцы, интерес к рыбной ловле убавился. На второе — жареный заяц. Порой мы даже меняем зайцев на сахар у ребят с катера, проверяющего бакены. На третье — чай вприкуску. Но сахара уходит еще больше, чем внакладку, потому что чай горячий, обжигающий, пахнущий дымом.
Изредка по вечерам балует нас музыкой плывущий мимо пароходик. Заслышав его, торжественно выходим на откос, салютуем изо всех четырех стволов (на нашем вооружении две двустволки). Если капитан не гордый, ответит гудком. На заходе река становится зеркальной, и в ней отражаются обрывы Мамонтовой горы, деревья и облака.
…Лес опрокинут в воду,
И вода темна от леса, словно омут.
И эту воду страшно тронуть,
Как страшно получить в ответ
Не «да», а «нет».
3
Когда у нас кончился чай, папиросы и сахар, мы с Виктором на попутном пароходике поднялись на пятьдесят километров вверх по течению, до ближайшего поселка. Пароход вверх по течению идет туго, с трудом преодолевая многочисленные перекаты. Водить суда по Алдану — искусство. Прибытие парохода для всякого поселка событие и развлечение. Собственно, это единственное средство связи с внешним миром, не считая телеграфа и радио. Пароход всегда ждут и встречают. Поселок, куда мы прибыли, — изб сто вдоль берега. Здесь есть мясо-молочная ферма и даже свой небольшой маслозавод. Живут в поселке больше якуты, но также и русские из бывших золотоискателей. В сельмаге мы вскоре достали все необходимое, но так как пароход вниз по течению ожидался на следующий день, остановились на ночевку у старожила этих мест Петра Федореева. Нам о нем говорили на пароходике: «Русский, работает сторожем сельмага, а раньше был при почте, но уволили. Как жена померла, пить больно пристрастился, на работу перестал выходить. Дочь у него работящая, Вера, на ней все хозяйство держится. Да и сам, когда трезв, человек хороший, руки золотые». Федореев встретил нас не слишком приветливо, но вечером, когда перед ужином выпили, подобрел… — Ну, а чем он угощал вас? — спросил Игорь, когда мы, вернувшись, рассказали ему о Федорееве. — Свежего посола рыбкою, правда, не разберешь какой — мелкота все, но вкусно, — ответил Виктор. — Негусто. А ко мне вечером рыбнадзор наведался. Ночевали у меня. Стерлядкой полакомился. — Что, сами ловят ее? — Нет, зачем им ловить, у рыбаков отбирают…В спускающихся к реке овражках — заросли смородины. Красная смородина — сибирский виноград. Ягода крупная. Только сейчас уже частью сошла — лежит и преет под кустами. Но и оставшейся хватает. Язык с трудом поворачивается во рту. — Кончай трудиться — оскомину набьешь, — кричит Игорь Виктору. — Рот сначала оботри, а потом уж говори, — парирует Виктор. — Пошли за черной, в ней витаминов больше. Черная смородина растет отдельными кустами в глухих тенистых местах. Ягода тоже крупная, но не совсем еще зрелая. Сколько ягод в тайге! В поселке, где мы были с Виктором, ведрами несут, сдают в правление колхоза. Каждой ягоде своя цена. Черная смородина — самая дорогая. Все запасаются ягодой на зиму. Свежую засыпают сахаром, чтобы витамины не погибли. Зима здесь месяцев шесть, а то и больше. С октября холода пойдут. Хорошо если в марте отпустит. Без витаминов не проживешь — зубы потеряешь. Мы продираемся через глухой кустарник. Неожиданно вблизи раздается злое потявкиванье. — Стой. Смотри, собака! — Как же, держи карман шире. — Эх, идиоты, ружья на берегу оставили. — Возьми палку. — Смотри по сторонам, а то прыгнет росомаха сверху и прямо на шею. Момент — и шейных позвонков как не бывало. — Не пугай. Мы делаем несколько шагов вперед. Что это? На мятой, словно смородинным соком обрызганной траве лежит заяц. — Теплый еще. — Смотри, головы у него нет, — почему-то шепотом говорит Виктор. — Кровь всю выпила. — Присыпь его землей. — Все равно придет, откопает. Мы пробираемся сквозь заросли. Обходим красные, словно кровяные, кусты, полные гибнущей ягоды. Вглядываемся в ветки деревьев. Останавливаемся. Прислушиваемся… Тишина… Но кажется, что кто-то невидимый следит за каждым твоим шагом..»
Сегодня день рождения Виктора. Ему минуло девятнадцать. — Счастливый возраст, — сказал Игорь, похлопав его по плечу. Самому Игорю уже двадцать два, он оброс бородой и выглядит как настоящий мужчина. Из нас троих я самый старый, «дед», как называют меня ребята. Мне под тридцать. Под вечер выпита бутылка «Цинандали», которую везли от самой Москвы. Мы лежим в спальниках, разговариваем. — Я бы остался здесь зимовать, — растягивая слова, мечтательно говорит Виктор. — Не сладко бы тебе пришлось, — замечает Игорь. — А что? Заготовил бы дров. Окно забил. Печку перетащил в избу. Набил бы зайцев, а то и медвежатиной полакомился. — Может быть, наоборот. — Что наоборот? — Медведь бы тобой полакомился. — Мной не полакомишься. Действительно, Виктором не полакомишься — кожа да кости. — А вот в Якутске я бы не остался, — продолжает Виктор. — Я бы наоборот, чем здесь в глухомани. Там жить можно, — возражает Виктор. Я тоже думаю об Якутске. Из острога, поставленного на Лене еще в 1632 г. отрядом казаков с Енисея, вырос большой город. В городском краеведческом музее подробно рассказывается об освоении этого края. Есть там даже чучело тигра, который из любопытства или по недомыслию зашел сюда из Уссурийского края и был убит здешними охотниками. Якутск был известный ссыльный центр. Тайга вокруг на тысячи километров. Начиная с декабристов, перебывало здесь не по своей воле много людей из самых разных мест. Были и большевики — С. Орджоникидзе, Г. И. Петровский, Е. М. Ярославский и другие. Сохранилась в городе деревянная крепостная башня XVII века. Есть своя главная улица, вдоль которой расположены основные учреждения города, кинотеатр, театр, магазины и гостиница «Лена». На главную улицу по вечерам стекается молодежь. В хорошую погоду можно пойти также в парк — лесной массив вблизи города, там есть стадион, закусочная и по вечерам работает танцплощадка. Сейчас в Якутске живет около ста тысяч человек. Но летом много приезжих из районов на совещания, соревнования и прочие республиканские мероприятия. Строители, разнорабочие, геологи едут в это горячее время транзитом через город. А лето здесь и в прямом смысле горячее. В июле в Якутске температура днем поднимается выше 35 градусов. Люди млеют от жары, ходят купаться на Лену. В последние годы на центральных улицах города появились поливальные машины. Днем в жару сбивают пыль. Зимой же город, лежащий в низине, окутывается морозным туманом и температура падает до минус 60 градусов. Летом в гостиницу попасть простому смертному почти невозможно. Ничего не поделаешь, Якутск — столица, а в столицах с гостиницами, как известно, сложно. С самолета Якутск — это в беспорядке разбросанные по берегу Лены деревянные постройки с трех-, четырехэтажными каменными домами в центре. Но когда идешь по улицам, ощущаешь, что это современный город. Чувствуешь это прежде всего по людям, по их городской сосредоточенности, по модной одежде девушек. А под каблучками в одном-двух метрах — вечная мерзлота. В тех местах, где она оттаивает, почва коробится. Мерзлота в Якутии определяет многие особенности хозяйственной деятельности человека. Как вызов мерзлоте, стоят в Якутии большие каменные дома на тонких свайных ножках. Дома, поднятые над землей на сваях, не нарушают температурного режима почвы. Мерзлота под ними не оттаивает. Бедствие города — почти полное отсутствие зелени. На засоленных почвах гибнут лесопосадки. Но якутяне продолжают вести борьбу за озеленение. Несмотря на большую текучесть населения, в городе есть своя коренная интеллигенция — научные работники, врачи, преподаватели. Недавно построено новое каменное здание университета взамен старого, деревянного. Через искусственный спутник можно увидеть телепередачу из самой Москвы.
4
Якутия укутана в утренний туман,
И солнце на сопки вползает, как танк,
И только тайга, оленей рога,
Алдан — озорная река.
А спальный мешок застыл и промок,
И сырость вползла в сапоги,
И только костер да каши котел
Нас ставит на обе ноги.
Вокруг нас мошка, как пыль из мешка,
Как тяжкий, навязчивый бред.
И лишь бурундук глядит, словно друг,
И лапкою машет нам вслед.
Последний маршрут. Мы вышли к пляжу из крупной гальки. — Где-то здесь должна быть река Ырас-Кыра-Юрях, — сказал я, вглядываясь в сплошной массив тайги. В переводе с якутского «Ырас-Кыра-Юрях» означает «маленькая чистая речка». — Подождите, пойду посмотрю. — Я отстегнул ремень и сбросил рюкзак. Как монотонно хрустит галька под ногами. Серая, грязно-коричневая. Хруст-хруст. Ровная, словно облизанная, лишенная граней. И битая, с острыми углами. Как много битой гальки. Она принесена с гор быстрыми речками, дробящими ее на перекатах. Найдем ли мы тропу? Иначе, пожалуй, наш поход к Верхоянскому хребту придется отложить. Конечно, интересно подняться в горы, к снежникам, но ведь работа выполнена. Стоит ли еще искать приключений на свою шею? На карте здесь обозначена река. Почему же не видно воды? Или она провалилась под землю, ушла в этот галечник? Хруст-хруст. В стене леса сверкнул просвет. Река? Вымощенное валунами, покрытыми серой коркой глины, пересохшее русло концом кишки выглядывало из тайги, делало крутой изгиб и скрывалось под густыми зарослями кустарников. На глине в понижениях между валунами отпечатались следы больших копыт. Лось? — Спальники оставим здесь? — спрашивает Виктор. — Небо ясное, ночью заморозки будут. Померзнем, — говорит Игорь. — По руслу идти нетрудно. Можно до первой ночевки пронести. Там склад устроим. Дальше пойдем налегке, вкладышами обойдемся, — отвечаю я. За спинами покачиваются горбы рюкзаков, неудобно болтаются «колбасы» спальных мешков. Русло, поворачиваясь то влево, то вправо, уводит нас все дальше и дальше от Алдана. Мы погружаемся в тайгу. Вскоре на дне русла стали попадаться лужи, потом зажурчала вода. «Шлеп-шлеп» — звучали наши шаги. Какой красный кустарник! Такого цвета листьев я, пожалуй, не видел в жизни. Вода чистая, наверное, приятная на вкус. Как хорошо, что появилась вода. Как приятно идти по ней. Шлеп-шлеп. Хорошо, что мы отправились в это путешествие. И у ребят довольные лица. — Если река будет так вилять, мы далеко не уйдем. — Скоро по реке не пройдешь, будет глубоко. — Станем обходить. — Сегодня будем варить картошку! Картошку мы не видели два месяца и сейчас несем с собой на дне ведерка, сделанного из большой консервной банки, молодой картофель, подаренный нам вместе с тарой рыбаками. — Пора бы подумать о ночлеге, а то скоро темнеть начнет, — говорит Игорь. — Что ты, рано еще, — протестует Виктор. — Стой, здесь не пройти. Перед нами тихо стояла зеркальная заводь. — Попробуем напрямик. — Кустарник густой, не продеремся. — Осторожно, здесь яма. — Мой командир, осторожно отпускай ветки, а то побьешь глаза. Комары, комары. Серые и желтоватые. Голодные. К вечеру воздух наполняется их гудением. Ж-ж-ж-ж-ж… Неужели здесь нет тропы? Мы идем уже два часа, а прошли, пожалуй, не больше пяти километров. Со спальными мешками далеко не уйдешь, тяжело. — Когда же наконец кончатся эти кочки? — Попробуем обойти эту заводь слева. — Да нет, здесь лучше пройти. — Тропа! Тропа! Тропу нашел! — радостно закричал Виктор. — Это лосиная тропа, вот следы. — Не только. Смотри, как она прямо идет. Ее прорубали. Просто здесь давно не ходили. — Посмотри по компасу, куда она идет? — Точно на север, туда нам и надо. Гуськом мы зашагали по- тропе. — Только куда исчезла река? От воды нам далеко нельзя. — Она рядом. Лось не станет ходить далеко от воды. Вечерело. В тайге было тихо. Я прошел по тропе вперед. Прислушался. Мне показалось, что я слышу журчание воды, и свернул на звук. Пробрался сквозь глухой частокол горелого кустарника, вышел к изгибу речки. — Речка чистая. Дно каменистое. — Достань из рюкзака мыло. Мы умылись до пояса. — Место хорошее. Палатку будем ставить здесь. На следующее утро мы дошли до зимовья, низкого бревенчатого сруба, возвышающегося на метр над землей. Дверь была приперта колом. — От зверья, — пояснил Игорь. Дальше тропа кончалась. Еще два дня шли мы в комарином облаке напролом по болотистому кочкарнику, здесь говорят «по марям», на север. Днем было жарко, по лицу тек пот.
Мари — кошмары кочек,
Не помним, который день
Мы идем — три серые точки,
И падаем сохнуть в тень…
За чахлой, унылой равниной
Чернеет чахоточный лес,
Мы снова кладем на спины
Уже непокорный вес.
5
Тайга рыжа. Озноб и жар.
Тайга предчувствует кошмар.
Вертепы вьюг, и призрак пург,
И ночь как тягостный недуг.
И листьев дождь — бросает в дрожь,
Хруст под ногой зовет домой,
Туда, туда, где города,
Где стены, стекла, провода…

— Вечера уже совсем холодные, — кутаясь в ватник, говорит Игорь. — Пора бы ему уже и появиться, — нервничает Виктор. — У них здесь свое расписание, — успокаивает его Игорь. Быстро темнеет. Парохода все нет. Ярко горят огни маяков у нашего домика. Побулькивает в темноте вода. — Надо разложить костер на берегу, а то нас не заметят. Подготавливаем кучу хвороста из выброшенного на берег плавника. Как пойдет, подожжем. Парохода все нет. — Если не придет, что завтра есть будем? Патроны расстрелял, — недовольно бурчит Игорь на Виктора. — Куда ему деться, придет. А то на барже уплывем, — неуверенно отвечает Виктор. Мы дремлем, но засыпать нельзя — проспим пароход. «Курашов» появился в третьем часу. Сначала мы услышали его, потом из-за поворота выплыли огни. — Поджигай! Я полезу на маяк — сигналить. Костер уже пылал, когда пароход вышел курсом на наш маяк. Забравшись к фонарю, я начал сигналить: с равными промежутками прикрывать ладонью огонь. Не снижая скорости, пароход приближался к нам. «А почему, собственно, он должен остановиться? — подумал я. — Три часа ночи. Он идет по течению на большой скорости. Опаздывает. Терять еще полчаса на погрузку. К тому же рисковать сесть на мель. Да и кто мы такие, чтобы он по первому требованию остановился?» Внизу у воды Виктор и Игорь прыгают у костра, размахивают руками. Пароход уже совсем близко. На капитанском мостике вспыхнул прожектор, уперся в нас. Потом потух. Нос парохода стал уходить в сторону от нашего берега. Сигналить бесполезно. Я соскакиваю с маяка и бегу к костру. И вдруг пароход делает резкий поворот, становится сначала поперек течения, которое сносит его вниз, затем, уже борясь с ним, снизу подходит к нам. Заспанный матрос, ругаясь, кидает трап. Берег у Мамонтовой горы приглубый, и подойти можно почти вплотную. Через полчаса все кончено. Мы лежим на палубе, обессиленные погрузкой. Рядом ящики с образцами. Над нами небо, пасмурное небо, звезд не видно. Луны тоже нет.
Об авторе Бардин Владимир Игоревич. Родился в 1934 году в Москве. Окончил географический факультет МГУ. Участник четырех советских антарктических экспедиций, кандидат географических наук, занимается изучением рельефа и оледенения Антарктиды. В 1965–1966 годах изучал четвертичные отложения Якутии. Автор свыше шестидесяти научных статей и книг. Принимал участие в составлении первого в СССР Географического атласа Антарктики, участник ряда международных научных конференций, в том числе XI Тихоокеанского конгресса в Токио. Сейчас работает старшим научным редактором международных ежегодников «Наука и человечество» и «Будущее науки». Опубликовал стихи в журналах «Юность» и «Молодая гвардия» и очерки в журналах «Новый мир» и «Наука и жизнь» В сборнике выступает вторично. В настоящее время работает над книгой очерков об Антарктиде.
Бернгард Гржимек
КРОКОДИЛЫ КАК ОНИ ЕСТЬ

Очерк Авторизованный перевод с немецкого Е. Геевской. Заставка худ. С. Юкина
С каждым годом все больше туристов устремляется в Африку, чтобы там, в национальных парках, вдоволь налюбоваться разными диковинными животными и привезти домой кучу фото- и кинопленок. И каждый, конечно, мечтает увидеть знаменитых африканских крокодилов. Но теперь их тщетно искать по рекам и озерам. Только в одном месте такая встреча может состояться — это в Мерчисонском национальном парке. На песчаных косах Виктория-Нила, несколько ниже знаменитых Мерчисонских водопадов, крокодилы часами греются на солнце, не обращая внимания на моторные лодки с туристами, которые бесстрашно подплывают к гигантским пресмыкающимся совсем близко. Бесстрашия тут, собственно, никакого нет. Еще ни разу не было случая, чтобы крокодилы напали на моторную лодку. Да и для чего это им? Они сыты. Их так мало, что недостатка в пище они не испытывают. В других национальных парках Уганды крокодилов теперь не найдешь. В озере Эдуарда, где они водились в прежние времена, их уничтожили вулканические извержения, а из озера Киву, соединенного с ним Семлики-Нилом, животные так и не сумели сюда перебраться. Возможно, виной тому огромные водопады, которые рептилиям не удалось преодолеть, а может быть, ледяная вода, стекающая в Семлики со склонов ледников Рувензори, пришлась крокодилам не по вкусу… Но и в Виктория-Ниле крокодилов становится все меньше и меньше: по ночам за ними охотятся браконьеры, которых поймать с поличным не так-то легко. Крокодилов уничтожали испокон веков, потому что они нападали на домашний скот, а при случае — и на людей. Но пока на них охотились с копьями и стрелами, это почти не отражалось на их численности. С применением же современного огнестрельного оружия началось настоящее истребление крокодилов.
Ночью стреляют по светящимся глазам
Итак, огнестрельное оружие облегчило охоту на крокодилов, а мода на дамские туфли и сумочки из крокодиловой кожи сделала эту охоту особенно привлекательной: она сулила большие деньги. Вот и стали обшаривать даже самые отдаленные реки и болота в поисках дорогостоящих рептилий. А найти их ночью довольно просто: прожектором освещают прибрежный ил и стреляют прямо по отсвечивающим в темноте глазам… Браконьеры не брезгают даже малюсенькими, недавно народившимися крокодильчиками, из которых изготовляют чучела. Ими бойко торгуют по сходной цене. А недавно целую сенсацию в Гвинее вызвала сорокалетняя монахиня, которая азартно охотилась на крокодилов, чтобы на вырученные деньги построить небольшую миссионерскую церквушку. Истребление крокодилов за последние годы приняло, так сказать, глобальные масштабы. В Южной Америке, например, тоже приходится вести отчаянную борьбу с организованными бандами браконьеров-контрабандистов. Одной из таких банд руководит женщина, известная тем, что изобрела способ беспрепятственно выносить кожу убитых крокодилов за пределы заповедника: она обматывает свежеснятую кожу вокруг голого тела, а сверху натягивает широченное платье, имитируя беременность… Вот до чего доводит жажда наживы!Крокодилы с железнодорожный вагон
Знаменитых нильских крокодилов в самом Ниле теперь практически не найти. А между тем еще совсем недавно, в начале нашего столетия, на территории нынешней Танзании (Восточная Африка) их было видимо-невидимо. И, судя по сохранившимся костям, крокодилы тогда были огромными — до десяти метров в длину! Это размер железнодорожного вагона. Вот это крокодилы, не то что теперешняя мелочь! Водились они в реке в таком множестве, что за уничтожение крокодила выплачивалась премия — от одной до трех рупий. В 1910 году один торговец скотом отправился на озеро Руква и за два месяца заработал таким образом пять тысяч рупий. Еще в 1950 году в Танганьике было добыто 12 509 крокодиловых шкур, большей частью в реке Руква, озере Виктория и реке Руфу. А ведь нельзя забывать о том, что крокодилы — важное звено фауны африканских водоемов, которое играет заметную роль в поддержании биологического равновесия в природе. Еще неизвестно, как их исчезновение скажется через некоторое время на жизнедеятельности рыбьих стад. Недаром известный английский ихтиолог Хуг Б. Котт из Кембриджского университета, работая в Уганде и Замбии, посвятил пять лет (с 1956 по 1961 год) изучению этого вопроса.Как проводят свою жизнь крокодилы
Обычно ночью эти огромные ящерицы находятся в воде, а большую часть дня — на берегу, греясь на солнце. Только в полуденный зной они отползают куда-нибудь в тень или освежаются в воде. Но как только стемнеет, на берегу не найдешь уже ни одного крокодила. Никогда не встретишь крокодила в открытой воде далеко от берега. Даже в те времена, когда их было более чем достаточно, стоило на озере Виктория отплыть от берега на несколько километров, и можно было спокойно купаться, не боясь крокодилов. Хотя их причисляют к холоднокровным животным, тем не менее они ухитряются сохранять почти постоянную температуру тела в 25,6° с небольшими отклонениями. Когда им становится слишком жарко, они широко разевают пасть и так подолгу лежат вовсе не с целью напугать кого-то своими страшными зубами: просто у них нет потовых желез и они не в состоянии потеть, как мы с вами, регулируя таким образом температуру своего тела; они вынуждены испарять влагу через слизистую оболочку пасти.Крокодилы и птицы
На это разевание пасти еще в давние времена обратил внимание Геродот, который много веков назад описывал, как птицы трохилос бесстрашно запрыгивают в открытую крокодилью пасть, чтобы склевывать там пиявок. Об этом же в разных вариантах сообщают и более поздние античные писатели. Плиний утверждает, что птицы выклевывают остатки мяса, застрявшие в зубах крокодила, оказывая ему этим неоценимую услугу, поскольку у него нет языка, которым он мог бы это сделать. Это неверно. У крокодила есть язык, только короткий и прикрепленный таким образом, что животное не может его высунуть. Аристотель писал, что крокодил, прежде чем захлопнуть пасть, подает птице сигнал особым движением головы, чтобы она успела выпорхнуть наружу. А птица в свою очередь предупреждает крокодила об опасности специальным криком. Вот это верно. Например, шпорцевому чибису (Hipoplopterus spinosus) достаточно издать свой резкий свист, как все крокодилы, словно по команде, устремляются в воду. Этой птице дозволено бегать по крокодильим спинам и шнырять меж их голов. Пользуется такой привилегией и другая птица — кулик перевозчик (Actitis hypoleucos), гнездящийся в Европе и навещающий крокодилов только зимой. Он собирает паразитов с кожи этих огромных рептилий и даже бесстрашно бежит навстречу животным, когда они вылезают из воды. Но чтобы кулик залезал в крокодилью пасть, этого мне еще никогда не приходилось видеть. В новейшей зоологической литературе эти сообщения античных авторов тоже ставятся под сомнение, хотя Ж. Ж. Плейер пишет, что видел собственными глазами в Зулуленде, как кулик перевозчик клевал что-то в пасти крокодила, сидя на его нижней челюсти. Швейцарский биолог Гуггисберг наблюдал на Виктория-Ниле за марабу, который трижды клюнул в открытую пасть крокодила и при этом вытащил небольшую рыбешку. Эту сценку ему удалось даже заснять. Значит, с птицами, во всяком случае с некоторыми, крокодилы определенно в дружбе. Что касается кулика авдотки, то с этой птицей у крокодилов особенно дружеские отношения, потому что она, как правило, высиживает свои яйца в непосредственной близости от того места, где зарыта крокодилья кладка. Крокодилы старательно охраняют свою кладку, но кулика авдотку не трогают, так что он под такой надежной защитой явно чувствует себя в полной безопасности.Какая у них походка?
У крокодилов несколько способов передвижения. Они могут скользить на животе, торопясь в воду; однако большей частью слегка приподнимают тело над землей и на своих крепких лапах с как бы вывернутыми наружу «локтями» довольно ловко маневрируют по берегу. Иногда они даже способны перейти в галоп, но только молодые особи и то очень редко. В этот момент они, как ни странно, напоминают скачущих белок, потому что подобно тем убегают не по прямой, а зигзагами. В воде же они плавают точно так же, как рыбы — лапы в это время плотно прижаты к корпусу и животные движутся только благодаря волнообразным извивам тела и ударам хвоста. Чем моложе крокодил, тем чаще он вынужден появляться на поверхности за новой порцией воздуха. Небольшие крокодильчики, не достигшие и метра в длину, способны находиться под водой минут сорок, взрослые особи могут пролежать на дне больше часа. Много удивлялись странному факту, что в желудках убитых крокодилов обычно находят камни. Маловероятно, чтобы они служили для лучшего измельчения пищи, как у некоторых птиц. Ведь у крокодилов нет мышечного желудка, стенками которого они перемалывали бы пищу. Кроме того, вместе с такими камнями зачастую находили неповрежденных червей, раковины моллюсков и другую проглоченную крокодилом пищу. При этом замечено, что молодые крокодилы, не достигшие годовалого возраста, не заглатывают камней. Их, как правило, заглатывают взрослые особи, и притом в таком количестве, что они составляют один процент веса животного. Может быть, камни служат балластом при нырянии? К такому выводу пришел зоолог X. Котт. Ведь когда крокодил залезает в воду, он теряет до 92,5 процента своего веса. Таким образом, животное весом до 200 килограммов в воде весит лишь 15 килограммов. Поэтому предположение X. Котта можно признать вполне резонным.Убить крокодила
Эти огромные рептилии весьма живучи. Как-то знаменитый охотник Александр Блэк вырезал у раненного им крокодила сердце и, завернув в мокрую тряпку, положил на солнце. Сердце билось. Спустя полчаса оно все еще билось… Немецкий охотник Ганс Бессер, проведший до первой мировой войны четырнадцать лет в Африке, однажды смертельно ранил крокодила, который все же уполз в воду. Храбрый африканский помощник Бессера Мтума успел ухватить двухметровое животное за хвост и вытащил его обратно на берег. Но, прежде чем Мтума смог опомниться, раненый крокодил ударом хвоста заставил его совершить сальто в воздухе и шлепнуться в воду. Туда же полетел подоспевший на помощь со своим ружьем Бессер. Оправившись от испуга, оба охотника подбежали к своей жертве и пригвоздили ее копьем к земле. Однако животное и не думало сдаваться: разинув пасть, оно старалось ухватить за ногу кого-нибудь из своих преследователей. Тогда Мтума вонзил ему копье в самую пасть. Однако крокодил тут же захлопнул ее и настолько сильно зажал копье зубами, что оба охотника только ценой огромных усилий сумели выдернуть его обратно. Железное копье со скрежетом протискивалось меж не менее твердых зубов. Наконец Мтуме удалось пронзить насквозь позвоночник крокодила. «Поскольку я не дождался своего приятеля, с которым назначил встречу как раз на этом месте, — пишет далее Бессер, — я решил над ним подшутить и оставить ему весточку о своем дальнейшем пути, вложив записку в пасть мертвому крокодилу так, чтобы конец ее торчал наружу. Мы подтащили эту тяжелую махину к самой тропинке и положили поперек нее таким образом, чтобы мой приятель никак не мог пройти мимо, не заметив записки. После этого мы помыли руки в реке и только сели в тенечке, чтобы позавтракать, как вдруг мой помощник Мтума громко закричал: — Посмотри, господин, на своего крокодила! И каково же было мое удивление, когда я увидел, как «мертвый» крокодил с запиской в зубах бежит к реке и исчезает в ней. И все это несмотря на нанесенные ему раны, из которых каждая была смертельной».Крокодилье меню
Взрослые крокодилы питаются почти исключительно мясом млекопитающих, не брезгая и их трупами. Плывущую по реке тушу они могут преследовать километрами, причем к ним присоединяется все больше и больше сородичей, так что вода буквально кипит от копошащихся вокруг добычи крокодильих тел. На реках Африки часто можно увидеть плывущие туши: иногда это кафрские буйволы, утонувшие во время наводнения, иногда слоны или бегемоты, погибшие во время поединков, которые самцы устраивают между собой. Преследуя такой труп по реке, крокодилы поначалу держатся очень осторожно (особенно если видят, что за ними кто-нибудь наблюдает), но постепенно смелеют, а заметив, что к добыче подбираются крупные рыбы вунду (Heterobranchus longifilis) или грифы намереваются принять участие в пиршестве, они поспешно со всех сторон бросаются к ней. Возле мертвого бегемота однажды удалось насчитать 120 крокодилов. На расстоянии трех километров вверх и вниз по реке в это время нельзя было встретить ни одного крокодила — все были здесь. Однажды заметили, как крокодил подкрался к льву, пожиравшему кафрского буйвола в двадцати метрах от воды, и проворно утащил внутренности убитого животного. Крокодил никогда не откажется от свежего мяса, но оно ему не всегда «по зубам» в полном смысле этого слова, потому что у крокодилов нет клыков, приспособленных для разрывания добычи. Не в состоянии они и разжевывать то, что попало им в пасть. У только что убитого бегемота или кафрского буйвола крокодилам под силу откусить только уши и хвост, а вырвать из туши подходящий кусок мяса они не могут. Поэтому крокодилы часто довольствуются полуразложившейся падалью или предпочитают пожирать свою жертву в воде, где ее кожный покров размокает и его легче разорвать. Пожирают добычу крокодилы следующим образом. Подплыв к жертве, крокодил сначала маневрирует, чтобы очутиться головой против течения. Затем вцепляется в нее зубами и начинает, словно штопор, вертеться вокруг своей оси, как бы «откручивая» кусок мяса. Таких поворотов крокодил может совершать до двадцати подряд. При этом он бьет хврстом по воде, показывая свое светло-желтое брюхо. С трудом оторвав кусок, рептилия высовывает голову из воды и рывками, как бы давясь, проталкивает его дальше в глотку. Мы с лесничим Майлсом Тернером наблюдали однажды в Серенгети за такой трапезой. После каждого проглоченного куска крокодил, тяжело дыша, оставался несколько минут на поверхности, а затем снова нырял за следующей порцией. И хотя нам приходилось в реке Луангве видеть по 30–40 крокодилов, хлопочущих вокруг туши кафрского буйвола, мы ни разу не заметили, чтобы они подрались из-за добычи. Эти животные отлично ладят друг с другом. Однако молодняк никогда не участвует вместе со взрослыми в подобных пиршествах, а старается держаться подальше от своих сородичей (не ровен час по ошибке проглотят!). Зато большие рыбы, которые иногда сами становятся добычей крокодилов, безбоязненно толкутся вокруг туши, стараясь урвать кусочек от крокодильей трапезы. При резких поворотах, которые во время кормежки совершают эти огромные ящерицы, увесистые рыбины зачастую вылетают из воды и с шумом шлепаются обратно. Какой недюжинной силой обладают эти рептилии, можно проиллюстрировать на таких примерах. На песчаной отмели в Натале лежал четырехметровый крокодил возле убитой антилопы импала. Заметив, что за ним наблюдают, крокодил схватил зубами добычу, зашвырнул ее себе на спину (весит такая антилопа примерно 50 килограммов) и опрометью бросился в воду. В парке Крюгера лесничие наблюдали, как несколько львов пришли на водопой. Внезапно одного зазевавшегося львенка схватил за ногу высунувшийся из воды крокодил. Несмотря на отчаянное сопротивление зверя, крокодил затащил его в воду и утопил. В Мерчисонском парке группа слонов пришла на водопой к реке Виктория-Нил. Вдруг один из них отпрянул назад и вытащил из воды свой хобот вместе с вцепившимся в него полутораметровым крокодилом… Слон отшвырнул рептилию прочь, но и сам убежал, трубя от страха. Охотничье управление Уганды сообщало, что на Сем-лики-Ниле застрелен крокодил, в животе которого обнаружили пятиметрового питона. Несмотря на все это, крокодилов все же можно считать весьма умеренными едоками. Для их неподвижного, ленивого образа жизни много энергии не требуется. Биолог X. Котт исследовал желудки 263 крокодилов, достигающих в длину от двух до четырех с половиной метров. У 54 процентов животных желудок был пуст или содержал непереваренные остатки — шерсть, чешую, когти и т. д. И только бколо 7 процентов исследованных желудков оказались Наполненными пищей. В зоопарке взрослому крокодилу, для того чтобы съесть пищу, равную весу его тела, требуется 150 дней. Пеликан же, например, за один только раз поглощает порцию рыбы, равную трети его собственного веса. Так что поистине несправедливо считать крокодилов прожорливыми. Переваривание пищи у этих рептилий происходит крайне медленно. Может быть, этим объясняется их пристрастие затаскивать свою жертву в прибрежные норы, вырытые йод водой, или под береговые откосы и дожидаться несколько дней, пока труп не начнет разлагаться. Схватив неосторожную антилопу, зашедшую в воду напиться, крокодил, как правило, никогда сразу ее не пожирает — он сначала топит ее, прячет куда-нибудь и терпеливо ждет…Осторожно — с крокодилом не шутят!
А дальше начинаются страшные рассказы о людоедстве. Ведь большие крокодилы при случае отнюдь не отказываются от мяса двуногих существ… Не раз пропавших #юдей находили потом в подводных «кладовых». По сообщению Дж. Стефенсона-Гамильтона, лесничего Национального парка Крюгера, под береговым откосом был найден труп африканского мальчика, на теле которого почти не было никаких ран. А другой местный житель, которого крокодил в бессознательном состоянии приволок в свою нору под берегом, очнулся и, прорыв выход наверх, сумел спастись. Газета «Times of Swaziland» в ноябре 1952 года описывала жуткое происшествие, случившееся на небольшом островке посреди реки Узуту. Крокодил длиной более четырех метров схватил восьмилетнего мальчика и утащил под воду. Мужественный молодой человек, подбежавший на крик ребенка, пересек вброд реку, настиг рептилию и несколько раз ударил ее копьем. К сожалению, быстро наступившие сумерки помешали дальнейшему преследованию, и продолжить его пришлось только на следующее утро. На этот раз юноша привел с собой деда погибшего мальчика. Они выследили крокодила и, когда тот задремал на песчаной отмели, швырнули в него копьем. Копье застряло у крокодила меж лопаток. Но огромная ящерица сумела вместе с торчащим из спины копьем удрать в воду. Поскольку же древко торчало над водой, было легко проследить, куда направлялось животное. Двум преследователям удалось настигнуть крокодила на другом берегу и добить его копьями. Когда они вскрыли брюхо животного, то нашли там верхнюю половину тела мальчика. Дед зарыл останки внука, отсек крокодилу голову и поставил ее сверху на могилу вместо памятника. В пасть ему вставили распорку, чтобы она всегда оставалась раскрытой и служила предостережением неосторожным купальщикам… Широкую известность получил случай, происшедший в Хинголе на реке Кабуэ. Трое малолетних сыновей фермера Вильяма Кокса плавали недалеко от берега. Британский полицейский Джон Максвелл, который тоже купался поблизости, увидел четырехметрового крокодила, медленно подплывающего к детям. Он мгновенно поднырнул под них и одного за другим выбросил на огромный валун, торчащий из воды. Сам Джон Максвелл выбраться не успел и был схвачен крокодилом за ногу. Полицейский оказался хорошим спортсменом и сообразительным человеком. Он не растерялся в такой опасной ситуации: подтянув к себе крокодила, Максвелл выдавил ему оба глаза, после чего чудовище отпустило его ногу, и, ударив несколько раз хвостом по воде, скрылось. Однако за время борьбы с рептилией человек потерял столько крови, что не в силах был добраться до берега. На его крики о помощи прибежала молодая негритянка Маломи и, увидев истекающего кровью Максвелла, бесстрашно вошла в воду. Она взвалила тяжеленного парня к себе на спину и вытащила на берег. Африканцы в подобных случаях проявляют удивительную готовность прийти на помощь, показывая пример невероятного мужества и бесстрашия. Ногу Джону Максвеллу пришлось ампутировать. За спасение детей он был награжден орденом. Еще один трагический случай произошел в Цаво-парке, в Кении. Двое европейски» детей купались в прозрачной воде реки Мзима возле самого берега. Девочка заметила подплывшего к ним под водой крокодила и убежала. Мальчик же замешкался и был утащен. Убитые горем родители снарядили большую группу людей, которая, обшарив все окрестности, обнаружила обескровленный, но абсолютно целый труп мальчика, запрятанный в тростниковых зарослях. Известный торговец животными Герман Рухе потерял на Суматре в 1917 году некоего Крета, одного из лучших своих звероловов при весьма необычных обстоятельствах. Крет возвращался на лодке домой с компанией гостей после удачного сафари. Он был в приподнятом настроении, пел и болтал в такт босой ногой, свесив ее за борт. За эту ногу его и схватил крокодил, да так быстро утащил под воду, что никто не успел выстрелить. Только на третий день удалось обнаружить совершенно изуродованный труп…Крокодилы и религиозные верования
С крокодилами с давних времен были связаны всяческие легенды и верования. В Древнем Египте считалось, что речного бога можно умилостивить ежегодным жертвоприношением. Причем в жертву приносили непременно молоденькую красивую девушку. Устраивали специальное празднество, во время которого несчастную закланницу бросали в воду на съедение крокодилам. На островах Сесе, на озере Виктория, местные жители долгое время считали крокодилов священными наместниками божества, которому необходимо время от времени приносить жертвы. Вместе с моим сыном Михаэлем мы как-то посетили народность дан в Западной Африке. Доктор Химмельхебер сумел подружиться с одним из вождей племени и пригласил его к себе в Гейдельберг. Из бесед с ним ученому удалось выяснить много интересных подробностей быта и верований этой народности. В частности, выяснилось, что у племени дан желчный пузырь крокодила считается ядовитым. Если кто-либо из охотников убил крокодила, он обязан тут же сообщить об этом в свою деревню. Тогда приходит шаман, собственноручно вырезает желчный пузырь из брюха крокодила, вскрывает его и желчь выпускает в реку. Таким образом устраняется опасность, которую якобы может вызвать желчь крокодила.Крокодилий молодняк подает голос из яйца
В период размножения самцы, призывая самку, издают громкий протяжный рев, напоминающий барабанный бой. При этом они поднимают голову и широко разевают пасть. Спаривание происходит в воде. Яйцекладка приурочена в разных частях Африки к разным месяцам. На Виктория-Ниле она приходится на декабрь — январь, то есть на засушливый сезон, когда вода уходит от берега. В это время самка выкапывает передними лапами продолговатую, приблизительно полуметровой глубины яму в песке и кладет в нее от 25 до 95 яиц. В среднем их около 60. Затем она зарывает яму, так что заметен лишь небольшой бугорок. Такие кладки иногда находятся на расстоянии до тридцати метров от воды. Инкубационный период продолжается обычно 12–14 недель, и все это время самка охраняет свою кладку. Если почва сырая, яйца откладываются в неглубокой ямке (десять сантиметров). Самка почти все время лежит сверху, время от времени удаляясь, чтобы окунуться в воду. Когда она возвращается назад, стекающая с нее вода увлажняет почву вокруг гнезда. В Мерчисонском парке была измерена температура в десяти таких гнездах. Она оказалась равной 30° и в течение суток отклонялась от этого уровня не больше чем на 3 градуса. Оболочка крокодильих яиц в отличие от змеиных твердая, известковая. Когда жара становится нестерпимой, самка иногда отходит в тень близлежащего дерева, но и оттуда зорко наблюдает за своим гнездом. Во время «насиживания» крокодилы становятся очень вялыми и медлительными, что объясняется, по всей вероятности, большой потерей влаги в организме. Этим обстоятельством пользуются нильские вараны — полутораметровые сухопутные ящерицы, зарекомендовавшие себя ворами крокодильих яиц. Раскопав с быстротой молнии кладку крокодила, они хватают одно яйцо за другим и разбивают о камень или дерево, чтобы добраться до содержимого. Возможно, в прежние времена крокодилы собирались в гнездовые колонии, как это свойственно некоторым видам птиц. И сейчас еще в местах, где много крокодилов, кладки их расположены довольно близко друг от друга. В одном из африканских резерватов сейчас занимаются искусственным выращиванием крокодилов, чтобы снова заселить ими окружающие водоемы. Выяснилось, что яйца крокодилов отнюдь не скоропортящийся «продукт». В ящиках, устланных соломой, их перевозили по плохой дороге на расстояние в 250 километров, и это не причиняло им ни малейшего вреда. Для дальнейшей инкубации важно только помечать верхний и нижний конец у яиц, чтобы уложить их в таком же положении, в каком они находились в гнезде. При искусственной инкубации яйца держат не в песке, а в корзинах с сеном, которые время от времени обрызгивают водой, а в особенно жаркие дни переносят в тень. При таком способе инкубации на свет появляется гораздо больше крокодилов, чем в естественных условиях, потому что в последнем случае немало яиц уничтожают хищники. Наилучшим температурным режимом при выведении крокодильчиков считают 27–35°. Незадолго до выхода крокодильчиков из яиц начинает раздаваться нечто вроде кваканья. В природных условиях эти звуки хорошо различимы даже сквозь тридцатисантиметровую толщу почвы. Зоологи, занимающиеся искусственной инкубацией, заметили, что звуки раздаются в ответ на стук по ящику или тяжелые шаги поблизости от него. По всей вероятности, крокодилье потомство подает голос, заслышав поступь матери. Та же в свою очередь, уловив писк, начинает разгребать лапами почву, чтобы помочь своим детенышам выбраться на волю; без ее помощи они, конечно, не в состоянии это сделать. Во время выведения потомства самки становятся очень агрессивными. В это время они могут напасть даже на суше, чего при обычных обстоятельствах никогда не наблюдается. На зоолога Ганса Бессера в Танзании на довольно большом расстоянии от реки вдруг напал крокодил. Застрелив животное, Бессер осмотрел место, где оно рылось в момент появления непрошеного гостя. Ему показалось, что под землей кто-то стонет. Он раскопал землю и вытащил на светбожий нескольких маленьких крокодильчиков, которые тут же попытались цапнуть его за руку. В длину они достигали 25 сантиметров, и у них еще сохранился желточный мешок под рыльцем. Все они стремительно ползли к воде, хотя с того места, где их откопали, реки не было видно. Ганс Бессер разными способами старался преградить им дорогу и поворачивал мордой в другую сторону, но они безошибочно находили правильный путь. В общей сложности в яме оказалось 205 яиц. Трудно предположить, что кладка принадлежала одной самке. По всей вероятности, этой ямой воспользовалось несколько самок. Твердая скорлупа яиц к моменту выхода потомства наружу, по-видимому, размягчается, так как крокодильчики довольно легко ее разрывают. Ни одного тухлого яйца в кладке не оказалось, Ганс Бессер отобрал 30 крокодильчиков и поселил в специальном бочажке у себя в саду. Но сколько он их ни кормил мясным фаршем и рыбьей молодью, они за три года почти не подросли. Вся компания с неизменной жадностью набрасывалась на брошенный им корм, поглощая его только под водой.Крокодилы опекают свое потомство, как утки
Поскольку молодым крокодильчикам в первые дни жизни со всех сторон угрожают опасности, мать неотступно сопровождает свое потомство, как утка утят. Крокодильчики даже залезают матери на спину и катаются на ней, чувствуя себя там в полной безопасности. Новорожденные крокодильчики — лакомое блюдо для орлов, марабу и грифов; нильский варан преследует их до самой воды, а в воде за ними гоняются водяные черепахи; да и взрослые сородичи — крокодилы не прочь ими поживиться. Так что смотри в оба! В течение нескольких месяцев у молодняка сохраняется желточный мешок величиной с куриное яйцо, из которого они получают необходимое питание. В первое время весь выводок держится вместе и общается между собой при помощи звуков, напоминающих тявканье. Живут молодые крокодильчики в совсем иных местах, чем взрослые, — где-нибудь в заболоченной бухте, заросшей кустарником; окрашенные в защитные цвета, они практически скрыты от посторонних глаз. Вот почему мало кому приходилось в природных условиях видеть крокодилий молодняк. Питается он улитками, личинками стрекоз, кузнечиками, жуками, позже переходит на крабов, жаб, лягушек и птенцов. В дальнейшем молодняк начинает ловить рыб, охотиться за разными рептилиями и млекопитающими. Джой Адамсон, известная исследовательница Африки, нашла в небольшом бочажке недалеко от своей палатки семь «крокодильих бэби» (как она их назвала). Они были, почти неотличимы от окружающей среды: по серовато-коричневому фону расплывались большие черные пятна. У них были непропорционально большие но сравнению с туловищем головы, они свободно плавали, барахтаясь и отталкиваясь от воды всеми четырьмя конечностями, но охотнее всего взбирались на плывущий тростник и путешествовали на нем как на лодке. Глаза у них были выпуклые, желтые, величиной с горошину. Если подойти ближе чем на шесть-семь метров, они мгновенно ныряли. Однако разговоры или щелканье фотоаппаратом нисколько их не пугали. Предложенные им на конце палки кусочки мяса они оставляли без внимания, не заинтересовались также червями, стрекозами и мухами, брошенными им на съедение. Но когда муж исследовательницы попробовал имитировать звук, издаваемый крокодилами, — «ими, ими, ими», они сейчас же сбились в кучу и повернули головы в сторону этих звуков. Однако они не приблизились, а остались под надежным прикрытием тростниковых зарослей. Во всяком случае крокодильчики доказали этим, что отнюдь не глухи. Следовательно, они слышали и разговоры, и щелканье камеры, но просто не обратили на это никакого внимания, потому что звуки подобного рода ничего для них не означали.Как из надо содержать в неволе
Крокодильчики в первые семь лет растут довольно быстро, прибавляя в длину примерно по 26 сантиметров в год. Достигнув же 22-летнего возраста, крокодил начинает расти лишь на 3,6 сантиметра в год. При выращивании крокодилов в неволе, например в резервате Мкузи, особое значение придают наличию тепла и тени. Загон, где содержатся крокодильчики, должен быть обнесен металлической сеткой с ячейками не более 1,3 сантиметра в диаметре, иначе маленькие рептилии ухитряются протискиваться сквозь нее. Кроме того, металлическую сетку необходимо закапывать на полметра в землю и с внутренней стороны обкладывать шифером, чтобы они не устроили «подкоп» и не удрали. В высоту ограждение может не превышать 90 сантиметров, важно лишь, чтобы верх был загнут внутрь. Загон снаружи на некотором расстоянии от сетки обносят еще одним забором из деревянных кольев, оплетенных камышом, который служит для защиты от ветра и хищных животных. Искусственный водоем, находящийся на территории загона, делят пополам маленькой плотиной. В одну половину пускают холодную воду, во вторую во время похолодания — подогретую. Делается это для того, чтобы крокодилы во все сезоны не переставали принимать пищу и росли быстрее. Подвешенная над водой большая лампа служит ловушкой для насекомых, которые, опалив крылья, падают в воду и становятся добычей молодых рептилий. Если животных кормят мясом, им необходимо добавлять в рацион кальций. К концу первого года крокодильчики удваивают свой рост, достигая примерно 75 сантиметров в длину, а к концу второго года их уже выпускают в близлежащие реки.«Отцы и дети»
Между прочим, на воле крокодилов-подростков практически встретить невозможно. Недаром Питман с удивлением писал: «Создается- впечатление, что крокодилов между шестьюдесятью сантиметрами и полутора метрами вообще не существует в природе!» Прячась в самых отдаленных бочажках, болотцах и закрытых бухтах, эти подростки ждут, пока не вырастут, чтобы до поры до времени не попадаться на глаза своим взрослым сородичам, склонным к каннибализму… Самцы крокодилов становятся половозрелыми, достигну в в длину трех, а самки двух с половиной метров. Следовательно, лишь к восемнадцатилетнему возрасту. Крокодилу длиной свыше пяти с половиной метров наверняка больше ста лет! Такой крокодил мог собственными глазами видеть еще первых исследователей Африки — Стэнли и Ливингстона! Медленные темпы размножения даже при самой строгой охране крокодилов потребуют немало времени, чтобы какую-нибудь местность вновь заселить этими животными. Крокодилов — рекордсменов по росту теперь уже вообще не встретишь. Самого большого крокодила, достигавшего в длину пяти метров девяноста пяти сантиметров, зарегистрировало не так давно на Семлики-Ниле Охотничье управление Уганды, а ведь раньше здесь ловили и убивали восьмиметровых!На арене цирка
Известно, что эти страшилища издавна вызывали интерес и любопытство европейцев. В 58 году до н. э. некто М. Эмилиус Скаурус привез в Рим пять крокодилов, которых демонстрировал в специально вырытом для них водоеме. Во время празднества по случаю постройки храма Марса-мстителя (2 год до н. э.) римский император Август приказал напустить воды в цирк и устроил там представление, во время которого было убито 36 крокодилов. Подобные зрелища имели огромный успех у публики. Император Гелиогабал держал в своем дворце прирученного крокодила, пользовавшегося всеми привилегиями фаворита. Интерес к демонстрации этих рептилий в цирках не угас и в наши дни. Для этого придумывают специальные номера, «смертельно опасные трюки». Молодые красивые женщины купаются вместе с крокодилами в прозрачных бассейнах, установленных на арене цирка. Только рептилиям на всякий случай завязывают пасть нейлоновой леской. Таким же способом пользуются при перевозке крокодилов и в зоопарке, когда несколько этих животных сажают в общий бассейн. Завязанная пасть не позволяет им передраться между собой, а что касается приема пищи, то они могут подолгу голодать, так что, пока они не привыкнут друг к другу, их молено и не кормить. Если воспитывать крокодила с юного возраста, он может стать вполне ручным и позволяет носить себя по арене цирка на вытянутых руках, разевая при этом во всю ширь пасть и показывая публике свои устрашающие зубы. Однако для таких представлений обычно дрессируют американских аллигаторов, значительно более миролюбивых, которые и на воле никогда не нападают на людей.Об авторе Профессора Бернгарда Гржимека недаром называют Брэмом XX века. Этот прогрессивный западногерманский ученый всю свою жизнь посвятил делу охраны природы, спасению ценного животного мира нашей планеты от истребления. Будучи директором Франкфуртского зоопарка, профессор Гржимек не ограничивается, однако, плодотворной деятельностью в своей стране. Он курирует всю научную работу, проводящуюся в национальных парках Восточной Африки в деле охраны уникальной африканской фауны, равной которой нет на всем земном шаре. Книги и фильмы Б. Гржимека известны всему миру. Советский читатель знаком с его книгами «Они принадлежат всем» и «Серенгети не должен умереть», а также с одноименным фильмом, снятым по мотивам этой книги. Вскоре наше издательство выпустит в свет третью его книгу, посвященную на этот раз фауне Австралии. Много сил и труда вкладывает ученый сейчас в красочное многотомное издание «Жизнь животных» («Grzimek’s Tierleben»). С большим интересом и неизменным дружелюбием относится Б. Гржимек к нашей стране. Будучи неоднократным гостем Советского Союза, он в своих многочисленных выступлениях по телевидению благоприятно отзывался о постановке заповедного дела у нас в стране. Основанному в Танзании Международному институту охраны природы присвоено имя его сына — Михаэля Гржимека, трагически погибшего во время проведения авиаучета диких копытных в кратере Нгоронгоро.
К очерку Бернгарда Гржимека «КРОКОДИЛЫ КАК ОНИ ЕСТЬ»

Питаются крокодилы исключительно только в воде. На берегу же они греются на солнце и откладывают яйца

Когда крокодилу становится жарко, он широко разевает пасть и подолгу лежит, регулируя таким образом температуру своего тела. А некоторые думают, что он это делает для устрашения


Маленький крокодильчик. Едва вылупившись из яйца, он безошибочно определяет направление к спасительной воде
Крокодилы предпочитают мелководье. На большой глубине на него практически невозможно наткнуться. Достаточно отплыть на лодке подальше от берега, и уже можно спокойно купаться, не боясь очутиться в пасти крокодила
Андрей Никитин
В БЕРЕНДЕЕВОМ ЦАРСТВЕ

Очерк Рис. И. Шипулина
В детстве я любил сказки. Потом началась война. В нашем маленьком подмосковном городке разместились госпитали. Под городом в окрестных лесах солдаты рыли землянки. Укрытые ветками и маскировочными сетками на опушках стояли танки. На смену вымыслу пришли воздушные тревоги, очереди за хлебом. Мы играли в войну с настоящими автоматами и винтовками, подрывали тайком гранаты и зажигали в кострах разноцветные огни ракет. И все-таки сказки жили где-то рядом. Сказочная страна берендеев, Снегурочка, весенние хороводы в честь солнечного бога Ярилы оставались такой же реальностью, как недалекие бои и яркие вспышки победных салютов. Сказки учили мечтать. Они преображали леса, изрытые гусеницами танков и воронками от учебных стрельб. Тогда а не думал, что настоящее Берендеево царство находится так близко от меня — у Плещеева озера и древнего русского города Переславля-Залесского.
…Переславль похож на живой музей. И озеро возле города — тоже музей. И леса вокруг, и поля, и деревни, и древние валы укреплений, и зеленые оспины разрытых курганов — все это тоже музей истории и природы. Земля в Переславле была жирной, черной, набитой стеклом, железом, кусочками сопревшей кожи, берестой, камнями и бревнами древних строений, черепьем, костями и прочими свидетельствами старины. Шумели сосны. Из-за леса с озера доносились плаксивые крики чаек. Солнечные лучи вонзались в зеленый сумрак корабельного бора, и кора сосен вспыхивала и светилась. Возле небольшого прямоугольника раскопа желтели кучи выброшенного песка, за ними блестели два рельса узкоколейки, по которым игрушечный паровозик вывозил вагоны с торфом. «Кладовой солнца» называл эти места Пришвин — так много здесь торфяных болот, в которые превратились древние озера, оставшиеся после ледника. …Это было лет семь назад. Из года в год наша маленькая экспедиция выезжала летом на берега Плещеева озера, чтобы вести раскопки неолитических стоянок. Это была дорога к истокам «Берендеева царства», как называл этот край М. М. Пришвин. И двигались мы по ней просто и буднично, без особых приключений… В тот день раскопки тоже шли как обычно. Крупные черепки, о которые то и дело спотыкалась лопата Олега, были от одного сосуда. Пока Таня Одинцова, студентка исторического факультета и мой помощник, отмечала их на плане раскопа, я сидел над расстеленным листом бумаги и пытался сложить бок горшка. Олег не археолог, а студент-химик. На раскопки попал случайно: приехал в Переславль посмотреть на старину, пошел бродить вокруг Плещеева озера и наткнулся на нашу экспедицию. Расспросил обо всем, а потом уговорил меня оставить его до конца работ. Он невысок, белобрыс, с восторженными голубыми глазами и сильными руками. Но с лопатой ему приходится трудновато. Если бы просто землю кидать — на это сил хватит. А вот так, осторожно да медленно, снимая по сантиметру со всего квадрата, чтобы вовремя остановиться перед находкой, — на это нужна привычка. — Олег, отдыхайте! Успеете еще… — Я сейчас. Вот только дочищу… Его лопата опять обо что-то задевает. — Посмотрите, какой черепок! Как будто сетка на нем отпечаталась… — Где, где сетка? — сбегаются ребята. В самом деле, на внутренней поверхности черепка хорошо виден отпечаток мелкой рыболовной сетки. На глине отпечатались даже волокна и узелки. Это редкая находка. Вероятно, такие толстые и крупные сосуды делали на специальных болванках из моха и травы, обтянутых сетью или шкурой. Потом внутренность сосуда заглаживали, но иногда эти отпечатки оставались… Сеть — самое необходимое орудие лова. Люди неолита были рыболовами и охотниками. Их стоянки мы всегда находим на древних берегах озер и рек. Толя, самый старший из моих рабочих — он пошел уже в десятый класс — и самый серьезный на раскопках, повертев черепок, хмыкает: — Рыбнадзора у них не было! А то с такой ячеей враз бы порезали… Ребята хохочут. Все знают, что этой весной Толя с отцом ставил в озере сетки и попался рыбнадзору. В Плещеевом озере разрешается ловить рыбу только удочкой… — Чего смеетесь? Уклея здесь даже не пройдет, не только плотва! Сантиметр, не больше… — Андрей Леонидович, а как тогда ловили рыбу? Сетками? А крючки у них были? А из чего они делали крючки?.. — И сетками ловили, и заколы на реках устраивали, загородки. Ставили в ручьях и заводях верши, «морды». А крючки вырезали из кости. Здесь, в песке дюнных стоянок, к сожалению, ни кость, ни дерево не сохраняются, а то бы мы их нашли. Пожалуй, ни одна эпоха не задает археологу такого множества вопросов и загадок, как неолит. Неолитическая эпоха начинается в восьмом или седьмом тысячелетии до нашей эры на юге, а конец ее наступает во втором тысячелетии. Точные хронологические границы меняются на каждой территории по-своему. Например, североамериканских индейцев европейцы застали еще на стадии неолита. В неолите в конце прошлого века жили полинезийцы, и сейчас живут индейские племена в бассейне Амазонки. Неолит — это еще каменный век, когда человек не знал металлов. Если спросить археолога, что определяет неолит, он, не задумываясь, ответит: три вещи — лук со стрелами, обожженная глиняная посуда и каменный топор как самый необходимый в лесу инструмент. И уже потом добавит, что кроме охоты в неолите широко развивается рыболовство, человек приручил почти всех широко известных сейчас домашних животных, научился возделывать почву, сажать растения и собирать урожай, научился прясть, обрабатывать дерево и делать еще многое другое. В том числе резать, пилить, шлифовать и сверлить камень. Но может быть, самое главное — человек стал оседлым. Он прекратил свои скитания в поисках пищи и стал селиться на озерах и реках маленькими поселками, стоянками, кото* рые мы раскапываем. Плохо только, что в песке сохраняются лишь камень да черепки, остальное — дерево, кожа, кость, пряжа — все исчезает бесследно. Разве что можно встретить отпечаток ткани или сетки на черепке вроде того, что нашел Олег. Правда, выпадают еще на долю археолога такие фантастические удачи, как свайные и болотные поселения. Торф и вода сохраняют все. Они даже надежнее, чем абсолютная сухость. Только очень высокая влажность почвы сохранила для археологов древний деревянный Новгород. Торфяные болота сейчас расположены на месте древних озер. На мелководье, на островках, а то и прямо на торфе селились древние рыболовы, если сухой берег был слишком далеко от воды. Иногда так спасались от врагов — на воде можно раньше заметить нападающих. Свайные и болотные поселения были открыты на озерах в Швейцарии, на болотах Дании и Англии, в Эстонии и на Урале. Но их — единицы. Как правило, их находили не археологи. На Урале, в Шигирском и Горбуновском торфянике, свайные поселения нашли золотоискатели. Под слоем торфа лежали золотоносные пески, и, когда торф стали убирать, наткнулись на сваи и жилые настилы. В Историческом музее в Москве хранятся остатки лодок, лыжи, лук, стрелы, деревянные идолы, кусочки ткани, различные фигурки из дерева, весла, чашки, ложки, берестяные сосуды — все это сберег от разрушения торф. Но такая удача почти нереальна… — А у нас на Талицком болоте лося нашли, — говорит кто-то из ребят. — Рога — во! В болото провалился, одни кости остались… — Кости! Вон Морковников, директор, топор каменный нашел на Купанском, в музей сдал… А черепков-то там нет! Нет черепков, верно! Я каждый год расспрашиваю рабочих, обхожу торфяные поля, но, кроме этого кремневого топора, невесть как попавшего в торф, ничего не находится. А ведь должны тут быть болотные поселения! Или достаточно было сухих мест? Здесь, на берегах Плещеева озера, на Век-се, на озере Сомино, стоянки разных культур на каждом шагу. А в торфе — нет. Работа на стоянке продолжалась. Находок было немного. По-видимому, мы попали не на центр, а на край древнего стойбища. Попадались черепки, кремневые отщепы. Нашли каменное грузило от сетей — длинную гальку с оббитой вокруг бороздкой, чтобы веревка не соскользнула. Под вечер, уже перед концом работы, приехал Сережа Добровольский. Сергея здесь знали все. Маленький, чернявый, живой, с чуть припухшими темными глазами, он был научным сотрудником местного музея, водил экскурсии и читал лекции. Ребята при виде Сережи радостно загалдели. Он умел с ними возиться, легко находил общий язык, и поэтому школьники всегда просили, чтобы по музею их водил и рассказывал обязательно Сергей Иванович. Мы отошли под сосны. Сергей положил в заросли папоротника велосипед, на котором приехал, и вытер платком взмокший лоб. — Жарко! Я по делу к тебе. Скоро думаешь закончить этот раскоп? — Что, поехать куда-нибудь? Дня через два закончим. Сергей лукаво посмотрел на меня. — Плясать будешь? — А может, нам лучше Таня спляшет? — Ладно, не добьешься от тебя! Держи! Он сунул руку в карман и вытащил небольшой сверточек из грязной, протершейся на сгибах газеты. Сверточек был легким и тощим. Я развернул его… и, наверное, в эту минуту у меня был очень смешной вид, потому что Сергей расхохотался и с размаху хлопнул меня по плечу: — Бывает, старина! Не ты только копать умеешь… На газете лежало несколько наконечников неолитических стрел. Не кремневых, а костяных! Они были похожи друг на друга, и они были разными. Одни — тонкие и длинные, как иглы, только с черешком для насада. Другие — толстые, «биконические», с утолщением в середине, по которому проходила узкая бороздка нарезки. ^Третьи — просто четырехгранные брусочки, короткие, с плоским черешком и приостренным жалом. По цвету все они были одинаковые, потому что от времени кость стала равномерно черной, но сохранилась прежняя полировка, и теперь на солнце они сверкали черным блеском. Так сохраниться кость может только в торфе! Таня, подошедшая к нам, поняла это тоже с первого взгляда. Ребята толпились вокруг, побросав лопаты и заглядывая через плечи. — Но откуда это, Сережа? Кто их нашел? Где? Я с трудом подбирал слова от волнения. Все произошло до обидного просто. Накануне, в обычный будний день, когда в музее мало посетителей, Сергей сидел в научном отделе и проверял инвентарные книги. Уже перед закрытием музея тетя Паня, одна из смотрительниц, привела к Сергею парнишку лет двенадцати — тринадцати, который давно уже торчал у витрин археологического отдела, что-то записывал, а потом попросил отвести его к «самому главному археологу». Археологов в музее не было вообще, а из двух научных сотрудников был только Добровольский. Мальчик назвал себя Шуриком Коняевым. Он жил на втором участке Берендеевского торфопредприятия, на Волчьей горе, в двадцати пяти километрах от Переславля. Берендеевское считалось одним из самых крупных торфопред-приятий района. Затем, проговорив: «Если для науки надо, то возьмите», — Шурик выложил на стол этот пакет. Из расспросов Сергей узнал, что все это Шурик собрал на двенадцатом комплекте второго участка торфоразработок; там вообще много костей, черепков и каменных орудий, но он не уверен, нужно ли все это. Поэтому и приехал в музей посмотреть. Еще он сказал, что из торфа там бревна торчат… Таня тихо ахнула. — Бревна? Так ведь это свайное поселение! Первое свайное поселение!! — Поехали, скорей поехали! Сергей даже растерялся. — Куда, куда? Постой! Я уже позвонил в Берендеево, попросил, чтобы ничего не трогали на этом участке. Там с мая находки идут! Пришлось отругать, что не сообщили. А теперь они все равно хотят эти карты закрывать — торф кончается, идет сапропель. Так что все в порядке. — А точно, они не будут трогать? А если мальчишки начнут копать? — Да не волнуйся ты, все наше будет! Разговоры и толки не смолкали весь остаток дня. Сережа уехал, оставив мне эти пять наконечников, с которыми я не мог расстаться. Ну один… Бывают такие находки. Возле Берендеева болота на огородах нашли как-то костяную стрелу — не такую, как эти, граненую, более позднего времени. И — ничего больше! Как она там очутилась? Загадочна и таинственна страна берендеев! Каждый год я собирался поехать на это болото, и все что-то мешало. Неужели от стоянки ничего не осталось? Нет, все равно. Как бы ни была она разрушена, для археолога она останется мечтой и кладом, думал я, сжимая в кармане сверток с наконечниками… Вечером, после ужина, я отправился звонить в Москву. Дом, где была база экспедиции, стоял на-берегу маленькой речки Вексы, текущей из Плещеева озера в озеро Сомино. Почти всюду по берегам речушки на песчаных буграх встречались остатки неолитических стоянок. В обрывах над водой чернели полосы культурного слоя. То там, то здесь из него высовывались черепки и куски кремня. Когда я только начал заниматься археологией, я приехал в Переславль, и вот так, спускаясь по реке на лодке, открывал новые и новые стоянки. Я не мог пройти мимо даже самого маленького черепка. Каждая новая находка, каждый новый наконечник стрелы из желтого, красного или лилового кремня, каждый скребок рождали удивление и восторг. Через это проходит любой археолог. Путь в науку похож на длинную лестницу со множеством ступеней, через которые перепрыгивают только очень равнодушные люди. Один из первых шагов, приобщающих к будущей работе, к истории, это тот восторг, который поднимается в тебе, когда в твоей руке впервые оказывается такой вот кусочек давным-давно исчезнувшего мира. С годами это чувство притупляется, но никогда не проходит полностью. Оно особенно сильно в юности. Ты сам еще молод, тебе недавно исполнилось двадцать лет или даже не исполнилось, а на твоей ладони лежит кремневый нож или кусок сосуда, который сделал человек пять тысяч лет назад. Пять тысячелетий — и двадцать лет! От ощущения временной дистанции невольно кружится голова. И не один кусочек — их много. Ты вглядываешься в них до боли в глазах, хочешь понять, что скрывается за ними, хочешь, чтобы они рассказали тебе свою историю. Ио черепки молчат. Заговорят они потом, значительно позже. И сейчас важен тебе не сам предмет, а то время, которое в нем как бы заключено… Если это происходит, значит, всю жизнь тебя будет сопровождать романтика, без которой мертва даже самая жи-Бая наука. В спокойной зелени болот ты слышишь плеск волны умершего озера. На пустых буграх поднимаются перед тобой небольшие хижины и вигвамы рыболовов. Сквозь сизый вечерний туман ползет дым костров. И даже мелкие угли, которые собирают на раскопе рабочие, обжигают тебя горячим огнем прошлого. Ты научаешься видеть сквозь современный пейзаж тот, древний, угадываешь русла давно высохших и заросших ручьев и речек, слышишь плеск рыбы на конце костяной остроги и рассчитываешь судьбы этих людей и их потомков на протяжении тысячелетий. На первый взгляд — это фантазия. На самом деле — наука. Чтобы понимать закономерности истории и предугадывать их, понимать язык вещей, надо понимать и чувствовать тех людей, историей которых ты занимаешься. Так изнутри, как этнограф вживается в быт исследуемого им племени, я проникал в неолит, становясь попеременно то рыбаком, изучающим повадки рыб, то охотником, читающим на звериной тропе и у водопоя жизнь обитателей леса, то геологом, с которым прошлое земли говорит языком слоев ы напластований. Теперь, с открытием на Берендеевом болоте, я снова становился учеником. Чтобы правильно понять это открытие, чтобы войти в новый для меня мир болот, раскрыть их секреты, я звонил в Москву Никите Александровичу Хотинскому, научному сотруднику Института географии. Познакомились мы с ним недавно. Последние три года он тоже работал в Переславском районе, изучая здешние болота. Болота были не просто «кладовыми солнца» — это была одна из самых точных и подробных летописей климата. О климате мы привыкли говорить как о чем-то установившемся. Мы живем в полосе умеренного климата. Есть климат пустынь, климат субтропиков и тропиков, есть горные луга и степи. На географических картах пунктирной линией отмечена зона вечной мерзлоты. С точностью до нескольких дней обрушиваются на Индию муссоны, принося о собой дожди.

Климат — это определенные колебания температуры в течение года, приход и расход лучистой энергии, количество осадков, преобладающие ветры, влажность. Но с другой стороны, определенному климату соответствует и определенная растительность. Климатолог и географ, зная климатические условия данного места, точно определит, что в этом месте растет. И наоборот. По составу растительности может определить климат. После окончания ледникового периода климат несколько раз менялся. От холодного и влажного он перешел в холодный и сухой, потом стал влажным и теплым, затем теплым и сухим, наконец, снова началось похолодание и повышение влажности. Вместе с климатом менялась растительность. Тундру сменили еловые леса, потом ель потеснили береза и лиственные породы. Когда началось потепление, сократилось количество и березы, и ели, зато увеличилась доля сосновых лесов. В теплый и сухой период далеко на север распространились такие теплолюбивые широколиственные породы деревьев, как дуб, клен, бук, липа. В это время дубы росли даже на берегу Белого моря. Теперь их редко встретишь севернее Вологодской области. Но при чем здесь археология? Человек жил в лесу и зависел от леса. Изменялся климат — изменялись породы деревьев, изменялся животный мир. Там, где раньше шумели леса, теперь расстилались степи или пустыни. Людям приходилось сниматься с места и искать себе новых охотничьих угодий. И даже не это было главным. Палеоклиматология позволила довольно точно определить время жизни поселения. Еще в школе на уроках ботаники нам показывали цветочную пыльцу под — микроскопом. Почти невидимые простым глазом зернышки оказывались при увеличении очень сложными и разными. Пыльца ели не похожа на пыльцу сосны, а пыльца березы — на пыльцу осины. Специалисты-палинологи по зернам пыльцы определяют виды деревьев и растений. На дне озер ежегодно откладывается тонкий слой ила со всей пыльцой, принесенной ветром за лето. Когда озеро превращается в болото, каждый год нарастает примерно один миллиметр торфа с заключенной в нем за этот год пыльцой. Если сделать разрез торфяной залежи до самого дна и, как это делают палеоклиматологи, взять образцы торфа через каждые десять сантиметров от песка до самого верха, то потом, обработав каждый образец и собрав заключенные в него пыльцевые зерна, определив их и подсчитав, можно получить пыльцевую диаграмму. Она покажет, как изменялся здесь растительный мир за прошедшие тысячелетия! Количество пыльцевых зерен разных видов растений примерно соответствует реальному соотношению этих видов в определенный период времени… Хотинский занимался изучением болот вокруг Переслав-ля. Он работал и на Берендеевом болоте. Его знания и опыт должны были помочь нам не только определить время свайного поселения, но и узнать более точно о природе, которая окружала человека в то время. В Берендеевском свайном поселении был ключ ко всей древнейшей истории этого края!..
Мутное солнце висело в ржавых вихрях над Берендеевым болотом. Казалось, пожар, тлеющий до поры до времени в этой громадной котловине, рассеченной зарослями кустов по заброшенным карьерам, вот-вот вспыхнет с полной силой, взовьется и испепелит все вокруг — и холмы, на которых сгрудились деревеньки с белыми церковками, и леса, и дальние уходящие на юг поля… Весь август стояла великая сушь. Ветер здесь, на Волчьей горе, довольно умеренный, поднимал торфяную пыль, сдувал ее с караванов[4], и над черными фрезерными полями стлался коричневый дым. Едкий запах торфа сушил горло и нос. А внизу, в рыжей мгле, двигались вереницы странных фантастических машин, засасывая в бункера высохшую крошку и взрыхляя поле. — Да как же там работают? — с испугом выдохнула Таня. На ее полном и загорелом лице промелькнул ужас. — Что вы, Таня! Это же обычный день на торфоразработках. Если бы действительно был сильный ветер, машины ушли бы с поля, да и то, чтобы не было пожара. Это вам не археология! Хотинский стоял возле машины, разложив на капоте схему Берендеевских торфоразработок. В резиновых сапогах, в штормовке, натянутой поверх серой клетчатой куртки, в финской кепочке, возвышавшейся над его большим и тяжелым лицом, он был похож на геолога, выступающего в трудный и долгий маршрут. Сергей и Олег отправились разыскивать Шурика. Волчья гора была настоящей горой, поднимающейся не только над болотом, но и над всеми соседними холмами и лесами. На вершине и на северных ее склонах толпились домики, высокие плетни огородов, а с востока и юга под крутыми обрывами начиналось болото. Над обрывами торчали островерхие крыши погребов, напоминавшие маленькие жилища-полуземлянки древних славян. Возле сараев желтели высокие поленницы, где просыхали выкорчеванные на болоте пни. На востоке, километрах в пяти-шести за болотом, белели новые здания центрального поселка. — Вот посмотри, что получается, — подозвал меня Никита к развернутому плану и ткнул карандашом в то место, где были отмечены сороковые карты двенадцатого комплекта. — Я вчера сверялся с отметками резервов по комплектам и нанес приблизительные изобаты торфа. Если стоянка здесь, — он постучал карандашом по заштрихованным полоскам, — тогда поселение должно было существовать или на открытой воде, или на торфе, когда уже было здесь болото. На плане Берендеево болото представлялось огромной амебой, распустившей в разные стороны множество отростков — заливов. Кое-где красной краской отмечены были суходолы — песчаные острова. На юге между суходолами петляла речка, до сих пор собирающая воду из древнего озера. Берендеи, берендеи… Почему это болото получило имя небольшого степного народа, воевавшего когда-то с Киевской Русью? Те берендеи жили далеко на юге, оставив о себе память в имени города — Бердичев. Раньше он назывался «Берендичев», берендеев город. Как они попали сюда? А может быть, попал только один берендей, поселился, захватил себе эти земли? Рядом с центральным поселком торфопредприятия есть маленькая деревня — Милославка. В XI–XII веках там был небольшой городок — сохранился культурный слой, в котором встречается много славянских черепков, оружия и стеклянных браслетов того времени. На сельских поселениях обломки таких браслетов редки. Может быть, был не городок, а княжеская или боярская усадьба? Не Милослава, а Мирослава? Мирославов известно несколько. Один из них, Мирослав Нажир, был боярином при Владимире Мономахе. Другой киевский боярин, Мирослав Андреевич, выполнял дипломатические поручения Всеволода Большое Гнездо. А вот Мирослав, боярин Галицкий, неоднократно появляется в истории Владимирской и Суздальской земли… А берендеи осели как раз в Галицком княжестве и служили в дружине князя! Но почему обязательно берендеи? Может быть, не от них пошло это название. Всегда болота тревожат, «бередят» душу человека, к ним не привыкшего. В наши леса славяне пришли с юга, из лесостепи. Там нет таких болот. Пришли земледельцы, пахари, которым надо было воевать здесь не со степняками, а с лесом, освобождать землю для полей и деревень. А рядом — болото, топь. Ни лес, ни луг, ни пашня, ни озеро. Одно слово — болото. Загадочный и никчемный кусок. И лес не вырос, и вода погибла. Бродят над болотами туманы, свиваются, скрывают их от человеческого взгляда. По ночам вспыхивают и плывут над кустами огоньки. А что там? Что скрывается? Какие тайны? Вот и населило людское воображение болота всякой нежитью, враждебной человеку, — лешими, кикиморами, привидениями. Только длинноногий лось прорвется с треском сквозь кусты, разбрызгивая топь. Да по осенним ночам на суходолах воют на луну волчьи выводки, собираясь в набеги. Ка глухой, укрытой лесом горе воют — на Волчьей горе… — Что они так долго? — нервничает Хотинский, которому хочется скорее попасть на болото. — Я же предлагал прямо к дому подъехать… Тане тоже скучно в машине. Один только наш шофер, пожилой и флегматичный Виктор Михайлович, привыкший к экспедициям, спокойно дремлет, откинувшись в кабине на спинку сиденья. — Таня, вам не видно: идут наши мальчики? Она высунулась из-под тента и осмотрелась. — Нет, не видно их. Андрей, а правда, что на Берендеевом болоте погиб Евпатий Коловрат? — Это какой Евпатий? О котором Ян писал в «Батые»? — спрашивает Никита. — Ну да… — А он на самом деле был? Я слышал что-то, когда здесь работал, — припоминает Хотинский. — Конечно, был! О нем же рассказывается в «Повести о разорении Батыем Рязани»… С точки зрения археолога — совсем недавно: всего лет шестьсот назад… Поздней осенью, когда в степях собирают табуны нагулявшихся на приволье коней, когда снят с полей урожай, двинулись на Русь орды Батыя. Штурмом брали татары высокие городские стены. Запылали села и города. К рождеству, под новый 1238 год, пала Рязань — один из первых русских городов, центр сильного и богатого княжества. Не пришли на помощь рязанцам другие князья, надеясь отсидеться за валами и высокими стенами. А следом за Рязанью запылал Владимир, Суздаль, и покатилась татарская лавина дальше в Ополье, к Юрьев-Польскому, к Переславлю, к Ростову… Крепок мороз в январе. Снега глубоки. То там, то здесь треснет от мороза дерево, и пойдет дробиться по лесу звук, заставляя оглядываться волков, вышедших на запах гари. А на полях снега истоптаны и сдуты — прошла татарва. Но слышен в ночи топот копыт по морозной земле. Блестят шишаки и кольчуги, звякают удила о мечи, красные, как кровь, щиты тускло светятся под луной. Спешит полк, собранный по лесам рязанским боярином Евпатием Коловратом. Спешат оставшиеся в живых рязанцы отомстить татарам за родной город, за убитых отцов, детей и матерей. Стучит у каждого не меч — боль в сердце за родную землю. За помощью в Киев и Чернигов ездил Евпатий, когда татары осадили Рязань. Равнодушны князья к чужой беде — вот и вернулся боярин уже на пепелище. Собрал из оставшихся в живых полк. Знают все, что несметны татаро-монгольские полчища. Что никому из рязанцев уже не вернуться домой. От этого только суше глаза, и рот пересох у каждого в ожидании последнего боя. Отомстить, отомстить! — звенит сталь и булат. Не были никогда русские воины боязливы! Не попрекнут их в этом сыновья и внуки!.. А татары спят. Мелькают в далеком Ополье огоньки костров. Ржут в ночи кони, ревут от холода верблюды. Догорает стольный город Владимир. Волки бродят на развалинах Суздаля. Отпировали на победе татары, легли спать — даже постов не выставили. Пусто все позади, мертвой лежит земля под снегом… И ударили рязанцы на татарский лагерь. Без пощады рубили они длинными прямыми мечами косоглазые скуластые Головы под меховыми башлыками. Снова и снова проносились Из конца в конец, подрубая веревки шатров, выпустив верблюдов из загона, истекая кровью в седлах. Только под утро оттеснили их в поле подоспевшие силы врага. «Не мертвые ли это восстали, чтобы отомстить нам? — перешептывались татары, приходя в себя после ночного боя. — Не люди это, а духи!» Только нескольких воинов, умирающих от ран, нашли в живых татары среди побоища. «Нет, мы не духи!» — гордо отвечали они, когда принесли их к Батыю. — «Витязи мы великого князя Ингваря Ннгваревича Рязанского, а полку Евпатия Коловрата. Пришли мы тебя, царя, почествовать, честь воздать да с честью проводить. Только чаш не успеем наливать на всю твою силу татарскую…» В погоню за Евпатием Батый послал своего шурина Хостоврула. С боем отходили рязанцы на север, в леса, от татар. Все меньше и меньше становилось вокруг Евпатия воинов — каждый сдержал свою клятву и лег под татарскими саблями за Русскую землю. И когда Евпатий увидел, что совсем мало осталось его бойцов, решил дать последний бой. Предание говорит, что он с умыслом выбрал Берендеево болото — завел татарскую конницу в топь, чтобы проваливались и вязли в трясине их кони, чтобы трудно было им пробиваться через кустарник и бурелом по сугробам. Раз за разом отбивала горсточка храбрецов штурм. И лишь когда татары подвезли и протащили на руках огромные стенобитные машины, только тогда погибли герои. Камнями из этих машин разбивали татары стены русских крепостей. Теперь под их тяжестью пала Самая стойкая крепость — мужество рязанских богатырей. Где-то здесь, на Берендеевом болоте… — Верно, верно, молодые люди. Правильно все это, — раздался за нашими спинами чей-то голос. Мы обернулись. Во время разговора к нам незаметно подошел дед в ватнике, перехваченном ремешком, в замусоленной кепке на коротко стриженой голове, в старых широких штанах с заплатами. На ногах деда были обрезанные до щиколоток головки валенок с калошами. На коричневом морщинистом лице под седыми бровями в узких щелках век светились голубые старческие глаза, а подбородок и щеки покрывала густая седая щетина. — Здравия желаю! — приподнял он свой картуз. — Экспедиция какая, что ли? Чего искать-то на наше болото приехали? Мы ему объяснили. Геологов старик видел, а археологи были для него внове. — Это за костями да за черепками что ли? Вот там и бился Евпатий с татарвой, — охотно откликнулся старик на объяснения. — Своих-то всех крестьяне чином похоронили, а татар так и оставили, их это кости! — убежденно говорил дед. — Мне внучек и стрелки оттеля носил — нешто разумный человек стрелку из кости делать станет? Татарские это! Нехристями были, хуже немца… А Евпатий Коловрат никакой не рязанский — наш, берендеевский! Потому и — в болото их завел, что все тропки знал… — Дед, да ведь Евпатий шестьсот лет назад жил, а мы раскапывать приехали сюда древних людей, когда и болота то не было! Здесь же озеро было, озеро, понимаешь?! Старик был глуховат, и Никита прокричал это ему в самое ухо. — Во-во, озеро, это точно! — обрадовался тот. — Это тебе, милок, всякий у нас скажет, что озеро. Было озеро! А потом Матрена закляла его — вот оно и болотом стало… — Какая Матрена, дед? — А та, что камнем стала. Нешто не слышали? Ну вот меня, старика, теперь послушайте. Было это еще до Евпатия Коловрата. И татар никаких не было — православные жили. А вместо болота — озеро. Ха-арошее озеро, — произнес старик со смаком, — лучше, чем в Переславле. Бывали там? Ну вот, и хорошо, что бывали! А здесь, на Волчьей горе, вдова с сыном жила, Матреной ее звали;, а как сынка ее — не знаю. Что Матрена — так это точно. Парень ейный все рыбачил. Ну, мать, известно, женщина — все боялась, чтоб не утонул он. Известное дело, женское. А ему хоть бы что — все смехом… Вот уехал он как-то сети ставить, и гроза началась. Он возьми да и утони. А Матрена, как только сынок ее в озеро — сейчас на берег. И ходит, и смотрит, ждет, значит! Не вернулся он к вечеру, а она все ходит. Уговор у них был, чтобы к вечеру парнишка домой вертался! А потом и лодку к берегу прибило. Тогда и прокляла она это озеро — стало озеро болотом! А сама Матрена хотела утопиться, да с горя в камень обратилась. С тех пор и стоит на берегу у нас каменная баба. Руки на животе сложены, коса на спине платком покрыта. А как ненастье какое, гроза будет, так словно пот по ней проступает или слеза, ей-богу! Лучше чем прогноз было… — Андрей, может быть, это древний идол? — толкнула меня Таня. — Нет, девушка, не идол. Баба Матрена! — ответил с живостью старик. — Очень интересно, дедушка, а где эта баба? — спросил я у старика, заинтересованный легендой. Что, если этодействительно древний идол? Славянский? Или тех, исторических берендеев? — А вон там, под горой стояла, когда я еще мальчишкой был, — ответил дед. — Свалили ее потом. Да что-то с войны не видать! Увезли ее куда что ли? А только в войну у нас пленные работали, баню, бараки строили. Может, разбили нашу Матрену на камень, под фундамент на баню пошел… — Ну, баню не сломать, — равнодушно произнес Хотинский. — Так, значит, толком никто и не знает, куда Матрена делась? — Не знаю, сынок, не знаю! — Дед потряс головой и зачем-то снял картуз. — А была она — это точно. Это ты у всех стариков спроси — лучше прогноза действовала, Матрена-то наша!.. В это время к машине подошли Олег и Сергей в окружении ватаги мальчишек. — Ну, где этот краевед? — нетерпеливо прищурился Никита. Сергей развел руками. — Нет его. Говорят, на болото ушел. Да ребята знают, как туда проехать! — Мы покажем! Мы знаем, где Шурка черепки нашел! — загалдела ребятня и облепила машину. — Это за гаражом… — Тихо, армия! — весело произнес Сергей и поднял руку. — Кто у вас здесь главный? Ребята замолчали и начали переглядываться. — Нет главного? Тогда главным буду я. Всех не возьмем — только одного. И копать сегодня не будем. Так что смотреть вам нечего. А когда будут раскопки, тогда будете помогать. Договорились? Ну и ладно. Ты знаешь, где это место? — спросил он у самого старшего паренька, стоявшего с независимым видом чуть поодаль. Тот вытащил руки из карманов и подошел ближе. — Знаю. Это за гаражом, ближе к магистральному… — Ну и залезай в кабину… Кренясь и скрежеща тормозами, машина начала спускаться с Волчьей горы. Я успел записать легенду об окаменевшей Матрене и теперь, подставив пыли спину, пересказывал ее Сергею. Оказывается, Сергей ее знал и как-то даже начал розыски людей, которые видели эту каменную бабу и могли знать, где она находится. В том, что это правда, он не сомневался. Ему даже удалось найти человека, который служил в охране, и тот подтвердил, что, вероятно, статуя лежит под фундаментом бани. Теперь от бани остались одни стены, и Сергей ждал, когда их соберутся ломать на кирпич. Тогда можно будет и поискать Матрену. Меня же кроме поисков и догадок, что это могла быть за статуя, интересовала и сама легенда. «Когда-нибудь к этому надо будет вернуться», — думал я. Странно, что все это связано не с болотом, а именно с озером. Неужели так живучи предания? Если эта легенда родилась именно здесь, ей не меньше нескольких тысяч лет! Ведь озеро полностью заросло по крайней мере в конце второго — начале первого тысячелетия до нашей эры, как сказал мне однажды Хотинский…
Фрезерное поле — полоса в несколько километров длины и полкилометра ширины. Его ограничивают «валовые канавы» — глубокие, прокопанные через торф, сапропель и даже донный слой грунта. Они выводят воду с полей в магистральный канал. Само поле разделено поперечными канав-нами на «карты» — полкилометра в длину и пятьдесят метров в ширину. Стоянка находилась на одной из таких карт в конце поля. При переезде через очередную канаву шофер притормозил, и возле кабины я увидел невесть откуда взявшуюся тонкую мальчишескую фигурку. — Вот он, Коняев, — произнес наш проводник, высунувшись из кабины. — Эй, Шурка! Это к тебе приехали… археологи! Лезь сюда! Шурик стоял в нерешительности, но при слове «археологи» просиял, вспрыгнул на подножку и заглянул к нам под тент. Увидев Сергея, его чумазая физиономия осветилась улыбкой. — Здравствуйте, Сергей Иванович! — голос у мальчишки был ломок и немного плаксив. — Я ждал вас, ждал… Он оглядывал нас, стараясь угадать, кто же здесь главный. Глаза его задержались на Хотинском, но Сережа назвал меня, и Шурик, шмыгнув носом и потерев о штанину грязную руку, подал ее мне, представившись: — Коняев, Александр. Можете звать Шуриком… Я стоянку нашел первобытного человека, — проговорил он, словно отдавая рапорт. И, немного подумав, добавил: — Неолитической эпохи… — Ну, залезай, Шурик, — пригласил Никита. — Мы как раз на твою стоянку едем. — Тут близко, тут и пешком можно, — заторопился Шурик, поспешно переваливаясь через борт. — Я там только что был и вот еще собрал… Он запустил руку в отвисший карман штанов и выложил мне на плащ горсть костяных обломков и несколько кремней. — Это все вам, — добавил он, вытаскивая из другого кармана черепки. — Там много всего есть… Шурик вытаскивал из карманов пригоршню за пригоршней, и его большие карие глаза светились на замызганной и запорошенной пылью физиономии. Чувствовалось, что для него наступил настоящий праздник. Еще бы! Не каждому мальчишке удается найти стоянку, да еще такую, на которую сразу приезжают археологи из Москвы. Всю дорогу Шурик не закрывал рта. Его распирало от гордости. О находках на сорок третьей карте знали все. Еще в мае, когда начали разработку этого поля, рабочие приносили в поселок черепки, кости, наконечники стрел, долота. А потом находили даже целые горшки, только их разбивали… Таня охнула. Незаметно мы обогнули центр болота и теперь оказались ближе к противоположному берегу, на котором белела церковка и домики села, чем к Волчьей горе. Ветер дул оттуда, и пыль проходила за нами, в стороне. Можно было свободно дышать и расстегнуть куртки. Теперь стоянка была перед нашими глазами. Примерно на середине поля, метрах в двухстах от нас, через две «карты», наискосок шло прямоугольное черное всхолмление, резко выделяющееся на фоне торфа. Вокруг все пестрело от камней и черепков. Казалось, кто-то щедрой рукой рассыпал по поверхности торфа бесчисленные обломки неолитических горшков, мелкую речную гальку, разбитые кости, которые успели уже подсохнуть и посереть на воздухе, кремневые отщепы, куски разлохмаченного, растрескавшегося дерева. Я перевернул большую плиту песчаника, исцарапанную фрезерными зубьями. На другой ее стороне было широкое углубление вроде тарелки. На таком камне — недаром был выбран именно песчаник — затачивали и полировали каменные и костяные орудия. Ко мне подошел Олег. — Андрей, а это что за штука? Гарпун? Действительно в руке Олег держал почти целый костяной гарпун с боковыми зубьями. Ну и ну! Находок было много. Все это лежало на поверхности, и ветер, который мы так проклинали по дороге, словно готовил стоянку к нашему приезду. Он сдул торфяную пыль, весь торф, поднятый машинами, обнажив нетронутый слой и все, что лежало на поверхности. — А вот это подвеска, честное слово, костяная подвеска! Таня радовалась, как Шурик. Маленькая овальная пластинка с дырочкой у края. Ну разве найдешь такую в песке дюн?! — Вы будете сейчас копать? — суетился Шурик, подскакивая то к одному из нас, то к другому, хватая с земли черепки и кости. — А где вы будете копать? Вы привезли лопаты? А то я могу домой сбегать… Картовые канавы разрезали черный прямоугольник на три части. Перед нами были уже готовые разрезы слоев, их надо было чуть-чуть «освежить» лопатой. Я не ошибся: от культурного слоя осталась самая малость — сантиметров двенадцать — пятнадцать. Ниже лежал рыжий плотный торф из осоки и хвощей. Их стебли были сплюснуты, спрессованы, но сохранились хорошо. Слой не превышал пятидесяти сантиметров. Ниже начинались желто-голубые сапропели — озерный ил. Таким образом, поселение древних берендеев было не на открытой воде озера, а на болоте, по крайней мере спустя пятьсот лет после того, как озеро отсюда отступило. — Это ничего не значит, — сказал Никита, когда я выразил опасение, что к моменту возникновения поселения все озеро могло уже превратиться в болото. — Ты заметил разрез на валовой канаве? Там сапропели идут гораздо выше, чем здесь. Значит, открытая вода была совсем рядом. Когда озеро зарастает, сапропели перестают откладываться — откладывается торф. Если бы не было так много снято торфа сверху, мы могли бы отыскать и тогдашний берег озера, и мостки, которые вели туда от поселения. Он зачищает лопатой дальше и внезапно прямо в разрезе появляется длинная тонкая свая, уходящая нижним концом в сапропели. Свая чуть меньше метра длиной. Она совсем целая, и, если бы не мягкость дерева, можно подумать, что ее только недавно вбили. Пока я фотографирую слои и сваю, под лопатой Хотинского показалась еще одна, в полуметре от первой. — Ель. И эта тоже еловая, — говорит Хотинский, растирая в пальцах кусочки коры. — Ты посмотри, она даже затесана! — удивляется Олег, очищая дерево от прилипшей грязи. — Они все острые! Они все затесаны! Я знаю, я видел! — Шурик уже тут как тут, и Сергей цыкает на него, чтобы он поменьше прыгал и вмешивался в разговор. Сваи заточены, как карандаши. Узкие длинные затесы перебивают и накладываются друг на друга. Они не плоские, а желобком. Помедлив, Сергей идет к собранной им куче и возвращается с каменным брусочком в руке. — Похоже? Это тесло — топор с поперечным желобчатым лезвием. «Тесать» — работать теслом. Обычным топором дерево рубят и раскалывают, а обтесывали раньше всегда теслами. И ширина лезвия как раз подходит к желобкам. Может быть, этим самым теслом и затачивали наши сваи? Олег побежал к машине за полиэтиленовой пленкой. Сваи надо скорее завернуть, плотно, крепко, чтобы не разломались и не высохли. Потом, если их не держать в воде, дерево все равно рассохнется, растрескается, превратится в груду щепочек. Вряд ли даже реставраторы смогут его пропитать так, чтобы свая сохранила свою теперешнюю форму. В конце концов кроме фотографий можно сделать гипсовые муляжи. А эти сваи нам нужны для другого дела. Они позволят точно определить дату стоянки. — По радиоуглероду? — догадывается Таня. — Конечно! Давай только возьмем дерева побольше, — советует Никита. — Чтобы на два образца хватило… Радиоактивны не только минералы, но практически все, в том числе и живые организмы, и растения. Там, где нет искусственной радиоактивности и радиоактивных месторождений, виновником этого явления оказывается один из изотопов углерода — радиоактивный углерод с атомным весом 14. Атом этого углерода отличается от двух других, нерадиоактивных изотопов тем, что у него не шесть или семь нейтронов, а восемь. Образуется этот углерод в верхних слоях атмосферы из обычных атомов углерода под действием космических лучей. Затем он быстро окисляется, превращается в углекислоту, только радиоактивную, вместе с обычной углекислотой усваивается живыми организмами и накапливается в определенной пропорции до момента смерти животного или растения. Это очень важно, что со смертью организма прекращается накопление и начинается распад радиоактивного углерода, в то время как обычный углерод остается в той же пропорции, что и раньше. Зная скорость распада углерода с атомным весом 14, несложно подсчитать его количество в любом образце древесины, торфа или угля. И, сравнивая полученные данные с первоначальным его количеством в момент гибели организма, можно установить, сколько прошло времени от этого момента до времени анализа. Если это дерево — то как давно его срубили. Если торф или известняк — когда он начал откладываться. Если уголь — когда был сожжен. Пыльцевые диаграммы помогут установить период жизни поселения, климатические и природные условия. Радиоуглеродный анализ даст точную дату в абсолютных цифрах от наших дней… Сваи не случайно вбиты. Делая небольшие зачистки совком и лопатой, мы видим, как они выстраиваются в ряды. По-видимому, на сваях держался настил, на котором стояли дома обитателей стоянки. Это самое настоящее болотное поселение! Здесь много щепы. Люди строились, жили, работали, чинили хижины и настил, выдалбливали лодки, которые, вероятно, лежат где-то в сапропелях болота. Щепа разбрасывалась вокруг, попадала во влажный торф и сохранилась. Ее надо собрать. По щепкам, как по обломкам кремня, можно судить о рабочих приемах древних берендеев, о том, какими орудиями они пользовались. Попадаются кусочки тонких оструганных палочек. Может быть, это обломки древков стрел, а может быть, еще что-нибудь. Скорее их в полиэтиленовый мешочек! Час-два на солнце — и от них почти ничего не останется… В мешочек… завязать покрепче, чтобы сохранить влажность…

Издали кажется — просто черная земля. А когда приляжешь на нее, начнешь разбирать ножом и рассматривать, она преображается. Чернота распадается на щепочки, угольки, разноцветные камешки, черепки, кости. Здесь много рыбьей чешуи и рыбьих костей. Все, все в отдельные мешочки! Это работа уже для специалистов-ихтиологов. Они скажут, какие рыбы водились в древнем Берендеевом озере, когда их ловили. Определят виды, размеры, возраст по чешуйкам… А вот еловые шишки. Для костра? Но лежат не сами шишки, а только их стержни, как будто белки поработали. Нет, наверное, не для костра. Выбирали семена и размалывали их в муку. Вероятно, поэтому же так много встречается и скорлупок лесных орехов. Кое-где и сейчас в деревнях орехи заготавливают мешками на зиму… Странно, что здесь так много песка и мелкой речной гальки. Хотя, если подумать, ничего странного. Жили ведь на деревянных настилах, на торфе! Чтобы разложить огонь, устроить очаг и не зажечь дерево, надо было натаскать сюда много песка. И глины. Мягкие ее комочки почти везде встречаются в слое. Черепков, как всегда, много. Больше мелких, чем крупных. Крупные все наверху, на поверхности, Шурик говорит, что, по рассказам, здесь даже целые горшки находили. Эх, если бы раньше попасть! Самое замечательное, что все черепки, которые я видел, одинаковые: у них одинаковый узор, они сравнительно тонкие, сделаны сосуды без швов… Хм, а ведь это интересно! Во всех неолитических культурах, которые оставили свои следы в здешних краях, горшки лепили одним и тем же способом. Их как бы «свивали» из широких глиняных лент. Края лент заходили друг на друга, их сжимали, стискивали, и получался сосуд. Когда такой горшок разбивался, эти ленты и их скрепление в изломе всегда хорошо видны. А здесь — как будто все из одного куска глины. И изломы не косые, а прямые… Вывод один: горшки не «свивали», а выколачивали из одного куска глины! Так выковывают, вытягивают медные котелки и кувшинчики — без единого шва и спайки. Но тогда на поверхности горшка остаются слабо заметные плоскости от лопатки-наковаленки. Есть ли они здесь? Ну-ка, черепок побольше… Есть! Орнамент отличается от керамики остальных культур, техника выделки тоже отличается. Первый вывод: это не местные племена, а пришельцы. Откуда? Одна загадка привела к другой загадке. — Ну как? Что-нибудь интересное есть? Хотинский кончил собирать образцы из разреза и теперь перебрался к нам. Сейчас надо сделать вырезку из культурного слоя. В торфе сохраняется не только пыльца, но и семена. На стоянке их должно быть гораздо больше, чем рядом. Это не менее важно, чем пыльца. По семенам можно определить растения, которые росли вокруг человека. Может быть, среди них окажутся культурные злаки? Или лен? Или конопля? В диком виде они здесь не растут. Каждое такое зернышко уже позволяет предположить знакомство берендеев с земледелием. Мой университетский профессор Александр Яковлевич Брюсов на реке Модлоне в Вологодской области раскопал свайное поселение и на одной из свай нашел зерна культурного льна. Они пролежали в торфе четыре тысячи лет. Но когда их посеяли, семена дали ростки. Может быть, и у берендеев был лен?
Чтобы не возвращаться, мы захватили с собой еду и решили пообедать здесь же, за кустами у магистрального канала. Шурик, поначалу отнекивавшийся, с аппетитом уписывал бутерброд за бутербродом, которые подвигала ему Таня. Никита подал мне кружку с молоком. — …Вот я, к примеру, шофер, во многих экспедициях бывал, — продолжал начатый раньше разговор Виктор Михайлович. — Ну, что мне. эти черепки? Увидел бы раньше — и бросил! Теперь уже буду знать, что древние. А только непонятно мне, зачем их так много собирать? Конечно, интересно посмотреть, как раньше люди жили, что делали. Ну а потом-то что? К чему это все? Только для истории одной? Геологи камни собирают, полезные ископаемые ищут. А здесь? Виктору Михайловичу возражала Таня. — Конечно, археология — это история. Но вот вы подумайте, Виктор Михайлович. Вы были в Средней Азии? Были? И пустыни видели? Раньше так и считалось, что там всегда были пустыни, и ничего с ними сделать нельзя. А когда в пустынях начали работать археологи, оказалось, что в древности пустынь не было. Были леса, плодородные земли, города… — Так это же когда было! При царе Горохе?! — Не в том дело — когда, а почему так случилось! Оказывается, люди вырубили леса, потом стали распахивать землю — и стала исчезать вода. А потом, вместе с водой, исчезла и последняя растительность. Появилась пустыня. Археологи не просто нашли древние поселения. Они подсказали геологам, где искать под землей воду, как вернуть реки в их древние русла. И теперь наступление на пустыню идет по плану, который составляли не только мелиораторы и геологи, но и археологи… — Ну, в пустыне может быть, — неохотно соглашается Виктор Михайлович. — А здесь же не пустыня? Здесь все на виду! Таня не нашлась, что сказать, и посмотрела на меня. — Понимаете, Виктор Михайлович, вопрос этот действительно очень сложный, — вступил я в разговор. — Большинство людей считает как вы: если наука, то давайте сразу же результаты! Но наука в своем чистом виде тем и отличается от строительства, от сельского хозяйства, от промышленности, что занимается не частными проблемами, а общими законами. Каждое открытие — это проникновение человека в общие законы природы и общества… — Да вы меня не агитируйте за науку, Андрей Леонидович! — обиделся Виктор Михайлович. — Что такое наука, я хорошо понимаю, всего навидался и наслушался! Мне суть важна… — Я вот о сути и говорю. Практическое применение любого открытия всегда будет — рано или поздно. Кстати, о сельском хозяйстве, это будет и вам интересно, Таня! Во время первой мировой войны в Дании в одном из самых молочных округов начался падеж скота. Сначала предполагали, что пастбища отравлены. Но потом выяснилось, что в травах не хватает какого-то микроэлемента. Почему? Что случилось с почвой? Ответ на это смогли дать археологи. Оказывается, в железном веке, две с половиной тысячи лет назад, на этих лугах были поля. Археологи нашли четкие следы древней пахоты. И эти поля как бы «выкачали» необходимые микроэлементы из почвы. Как видите, польза археологии налицо… Подобные вещи случаются и у нас. Я думаю, если бы почвоведы работали в более тесном контакте с археологами, нам удалось бы во многих местах поднять плодородие истощенных земель быстрее, чем это делается сейчас… — Да, — покачал глубокомысленно головой Виктор Михайлович. — Что для Никиты Александровича ваша наука нужна, это я вижу. А так, все-таки черепочки… — Кстати, какое твое впечатление от стоянки? — спросил я Хотинского. — Приблизительная датировка? — Ну, знаешь, дату я хотел бы от тебя получить! — усмехнулся он. — Во всяком случае пока можно сказать только одно: поселение лежит в торфе над сапропелями и ниже второго сверху пограничного горизонта. Его здесь нет, а в разрезе на валовой канаве он хорошо прослеживается по остаткам пней… — У нас здесь много пней! — не удержался Шурик. — Мы ими печку топим… — Так вот, если учесть, что над стоянкой пограничный горизонт был снят или относился к самому слою стоянки, что маловероятно, тогда, по составу нижнего торфа, стоянка должна была существовать где-то в конце пятого — начале четвертого тысячелетия… — А Льяловская — конец третьего тысячелетия до нашей эры, — заметила Таня. — Как же так получается? — Причем здесь Льяловская? — переспросил Никита. — Льяловская стоянка, возле села Льялово, под Москвой, на Клязьме. Она считается самой древней неолитической стоянкой в этом районе. — Считалась, Таня! — поправил я ее. — Вы сами назвали дату, которую получил при передатировке Брюсов. Его заметка прошла как-то стороной. О древности Льяловской стоянки писал в двадцатых годах Жуков, относя ее чуть ли не к седьмому тысячелетию и утверждая, что все последующие неолитические культуры нашей полосы произошли от Льяловской. Если Никита Александрович прав в своих предположениях, то открытие Берендеева — это еще и сенсация… — Почему? — Видите ли, таких древних стоянок в Волго-Окском междуречье мы не знаем. А льяловская керамика… Как бы это сказать точнее? Она слишком совершенная! Всякое новшество, в том числе и глиняная посуда, появляется не в готовом виде, а в процессе развития от менее совершенного к более совершенному. Поэтому и искали предшественников льяловской керамики. Не нашли! И естественно, пришли к выводу, что идея обожженной глиняной посуды была заимствована льяловскими племенами в готовом виде откуда-то со стороны, от других, более развитых племен… Я рассказал о своих наблюдениях над берендеевской керамикой и показал на черепках следы выбивки. — Если дата хотя бы приблизительно верна, может статься, что в наших руках то самое недостающее звено. А качество берендеевской керамики значительно выше, чем льяловской, да и всех последующих культур!.. — Вы думаете, Андрей, что это особая берендеевская культура? А откуда могли появиться здесь эти берендеи? Таня с интересом разглядывала находки. — Я не думаю, я только предполагаю. Вот давайте-ка разберем сейчас все найденное и попробуем выяснить, что это были за люди и почему в отличие от всех прочих поселились на болоте, а не на коренном берегу… Разбирая и раскладывая находки, я продолжал размышлять. Вот кости. Гладкие, черные, легкие. В песке или в обычной почве от них ничего бы не осталось. Торф сохраняет все. Большие трубчатые кости ног, позвонки, бабки, большие челюсти со сверкающей эмалью зубов — это, безусловно, лось. Лоси для людей эпохи неолита были тем же самым, что для палеолитических охотников мамонты. Из жил лося делали нитки и тетиву для лука. Шкуры шли на одежду, одеяла, покрывала для легких летних чумов, на обувь. Из костей лося выделывались самые различные орудия: узкие долотца, проколки, наконечники стрел, рыболовные крючки, кинжалы, подвески и украшения, лощила для шкур, кочедыки для плетения. Всего этого и целого и в обломках мы собрали здесь столько, что становится даже немного обидно за Плещеевские стоянки. Ведь там было когда-то много разных предметов, только не сохранилось… Эти челюсти с клыками — медвежьи. А эти, маленькие — бобровые. Из резцов бобра мастерили тоже подвески и долотца. А это птичьи кости. На некоторых видны кольцевые надпилы — готовили бусинки для ожерелий… Вся эта масса костей, кроме орудий и поделок, отправится к зоологам для определения. Керамика однотипная. Косые узкие ямки расположены плотно друг к другу. В более поздние времена они редеют. Льяловская керамика украшена зональным орнаментом: на тулове сосуда перемежаются зоны ямок и отпечатков зубчатого штампа. Здесь зубчатого штампа нет и ямки совсем другие. Где же я видел такой же орнамент? На Оке? В Прибалтике? Может быть, на Урале? Нет… Днепро-донецкая культура! Не совсем так, но очень похоже. И время подходящее! Неужели эти «берендеи» пришли оттуда? Важность этой догадки понимает только Таня, но она относится к ней скептически. Днепро-донецкая культура… так далеко? Там — европейцы, здесь — угро-финны… Большинство археологов считают по традиции, что неолитические племена Волго-Окского междуречья были угро-финнами, древними предками летописной мери, мордвы, чуди, веси и мещеры. Я согласен, что какими-то отдаленными предками мери и веси они могли быть, но меря и весь совсем не финно-угорские племена! Иначе так просто не происходила бы в этих краях их колонизация славянами, которые уже, безусловно, индоевропейцы… Нет, нет! Родина угро-финнов за Уральским хребтом, и здесь они появились уже только в железном веке, да и то осели лишь по Оке… Иначе никак не объяснить сложный процесс развития и смешения различных археологических культур на этой территории. Материальная культура — это одно, народ — совсем другое. В эпоху Римской империи в Западной Европе жило множество самых различных племен, говоривших на разных языках, а археологически все они принадлежали к одной культуре — латенской[5]. Здесь было наоборот… — А ты, Шурик, плохо собирал, — замечает Олег, вынимая из общей кучи кремень и каменные орудия. — Мало кремня собрал! Я же тебе говорил, что все нужно — даже маленькие отщепы… — Я все собирал, все! — вспыхивает Шурик. — Спросите у Сергея Ивановича, мы все брали… — Правда, Олег, здесь кремня мало… В самом деле, почему так мало кремня на стоянке? Это мне бросилось в глаза сразу, но потом за делами как-то забыл. А сейчас, когда все находки на виду, когда все рассортировано, это особенно заметно. На обычных дюнных стоянках камня много — не только кремневые орудия, но и просто отщепы, необработанные куски, нуклеусы, от которых отделялись ножевидные пластинки, множество чешуек, осколочков и тому подобной мелочи. Отходы производства. Здесь же при разборке слоя я почти не встречал кремня. И была еще одна странность. Как правило, люди неолита старались пользоваться только свежим кремнем, добытым в месторождениях. Валунный кремень, который можно найти в ручьях и моренных отложениях, пролежавший долго на солнце и морозах, весь разбит трещинами. Он не пластичен, колется, из него нельзя ничего путного сделать. Свежий кремень мягок и пластичен. Из него получаются совершенные ювелирные вещи. Здесь, у берендеев, сплошь валунный кремень. И его очень мало. Маленькие, неуклюжие и толстые наконечники стрел очень плохой обработки, примитивные скребочки. Видно было: все, что только можно, старались делать из кости или из серого сланца, тоже валунного. Из сланца выпиливали и шлифовали тесла, долота, плоские рабочие топоры, обломки которых мы нашли. Чем все это объяснить? Так… Так… Давайте думать. Вряд ли это случайность, случайности тоже закономерны! Обитатели Плещеева озера, насколько можно судить по результатам наших раскопок, получали свой кремень или с Оки, с юга, — темно-желтый, непрозрачный, иногда черный, или с севера, с Верхней Волги, — лиловатый, просвечивающий. Там, на Верхней Волге, под Ржевом и Старицей, открыты и изучены в районе месторождений остатки огромных мастерских по обработке кремня. Кремневые желваки, которые находили в известняках, обкалывали и очищали от известковых корок на месте. Расходился оттуда кремень уже в заготовках, полуобработанный, чтобы не возить лишнего груза. Здесь кремень пестрый, валунный, в трещинках. Значит, почему-то берендеевцы не могли пользоваться месторождениями? Не знали? Но, если они действительно пришли с гага, они должны были знать месторождение на Оке или хотя бы на Дону. Что-то мешало им. Но что? — Может быть, они двигались другим путем, минуя месторождения? — подсказывает Хотинский. — Ну что вы, Никита Александрович! А связи с другими племенами? А торговля? — Может быть, берендеев не пропускали? — Минутку, Сережа. Кажется, я начинаю догадываться. Мы забываем, что места эти были заселены давно, задолго до прихода берендеев, если они действительно пришли с юга. А это значит, что все охотничьи угодья, леса, озера и реки были поделены между собой родами и племенами, охранявшими свои границы. Если берендеи вторглись сюда — зачем и почему, нам неизвестно, — они должны были попасть во враждебное окружение. Поселок был небольшим — людей мало. Где могла поселиться эта горсточка? Только на болоте. Озеро уже сильно заросло, и, вероятно, прежние жители передвинулись куда-то еще, на то же Плещеево озеро, где мы находим стоянку на стоянке. Пришельцы поселились на болоте, но они оказались в изоляции. Все пути — на север, на юг — были закрыты враждебными племенами. Вот почему у них нехватка кремня! Они могли достать только валунный, который собирали на ближних холмах, так дсе как и серый сланец. На стоянках, где много кремня, сланец встречается редко. Может быть, местные жители не умели его как следует обрабатывать? А берендеи, если судить по этим каменным и костяным орудиям, по остаткам сооружений, по керамике, были на голову выше окружавших их соседей!.. Если это так, если предположительная дата Никиты Александровича окажется верной, мы разрешаем и самый важный вопрос: откуда появилась в Волго-Окском междуречье у неолитических племен керамика… — От берендеев? — с сомнением протянула Таня. — Но ведь льяловская, вы же знаете, Андрей, она гораздо хуже и грубее! И форма сосудов проще, и орнамент другой, и техника… Разве может так быть? — Конечно, Таня! Берендеевская керамика когда-то прошла долгий путь развития. Перед нами черепки — как бы итог этого пути, результат высоких профессиональных навыков берендеевских гончаров. Эти навыки передавались из поколения в поколение, они совершенствовались… Теперь представьте, что вы познакомились с гончаром, который делает великолепные горшки и миски, кувшины, котелки… Вы будете сидеть рядом с ним, смотреть, учиться готовить глину, как ее копать, месить, делать тесто, лепить. Но у вас никогда не получится таких красивых и звонких горшков — обжигать их еще надо! — как у него. Здесь то же самое. Была взята не керамика — идея глиняной посуды. И естественно, что подражание вышло гораздо хуже, чем оригинал. Кстати, я совсем не уверен, что к местным племенам попали берендеевские гончары… — Как так?! — Мое предположение, что берендеевцы в конце концов смешались уместными племенами, только один из вариантов гипотезы. Точно мы этого никогда не установим, никакими находками и раскопками. Более вероятен менее счастливый конец. Доказательства его лежат сейчас у Никиты Александровича в полиэтилене… — А что такое? Я ничего не заметил. Сваи? — Да, сваи. У некоторых верхний конец обуглен… — Поселок погиб от пожара? — Совершенно верно! Следы огня есть не только на сваях, но и на некоторых костяных орудиях, например на наконечниках стрел, причем совершенно целых, не сломанных и выброшенных за ненадобностью, а целых. Не говоря уже о том, что в культурном слое масса угольков и местами торф тоже горелый. Если наши предположения справедливы, очень может быть, что постоянные военные стычки с окружающим населением привели берендеевцев к катастрофе. Однажды ночью произошло нападение на поселок и он погиб в огне. Берендеев было слишком мало, чтобы они могли уцелеть. Впрочем, пожар мог быть и случайным. — Вот видишь, Шурик, какую интересную штуку ты нашел? — Сергей потрепал мальчишку по вихрастой голове, и тот радостно засмеялся. — Значит, и копать теперь вам не надо здесь? Так что ли? — подвел итог разговору Виктор Михайлович, со вниманием прислушивавшийся к каждому слову. — Копать, Виктор Михайлович, обязательно нужно, именно потому, что здесь столько интересных проблем! То, о чем мы сейчас говорили, только гипотеза. Ее надо проверять. Копать надо следующим летом. Что мы можем сейчас? Заложить небольшой раскоп? А надо вскрывать сразу всю площадь поселения! И работы здесь хватит не только археологам — и палеоклиматологам, и геологам, и химикам… — Значит, так, — сказал Хотинский, снова разворачивая план болота. — Нам нужно собрать данные по всем валовым каналам этого комплекта, посмотреть анализы торфа… Виктор Михайлович встал и отправился к машине…
Всю зиму мы готовились к раскопкам на Берендеевом болоте. Перед отъездом мы побывали в управлении торфоразработок. Нам клятвенно обещали, что никаких работ на картах с поселением проводиться не будет. Директор показал нам даже план, где эти и соседние карты были уже закрыты штриховкой: торф снят, остался сапропель, добыча прекращена… Ребята на Волчьей горе тоже обещали ничего не трогать. Хотинский почти не ошибся в своей дате. Анализ радиоуглерода в лаборатории Геологичеркого института показал 5730 ± 190 лет от наших дней. Иначе говоря, культурный слой стоянки образовался где-то в самом начале четвертого тысячелетия до нашей эры, В этом он полностью совпал с пыльцевой диаграммой. Теперь уже официально Берендеево стало самой древней неолитической стоянкой о керамикой в Волго-Окском междуречье. Вместе с датами утвердилась гипотеза о происхождении «берендеев» с юга, из северных районов днепро-донецкой неолитической культуры. Можно было даже предположить, какие причины толкнули их на это переселение. Это было время начала так называемого климатического оптимума, повышение температуры и уменьшение влажности климата. Раньше всего это сказалось на юге* Там, где до этого была лесостепь с островами леса» господствующей стала степь. Люди двинулись на север за лесом и зверями… В конце мая, когда дороги просохли, мы с Хотинским решили съездить в Берендеево, чтобы еще раз осмотреть стоянку перед началом раскопок и подготовить все к приезду экспедиции. Вокруг дороги шумели одевающиеся леса. На холмах зеленели прямоугольники полей. Среднерусское лето обещало быть солнечным и жарким. Машина остановилась возле дома Коняевых. Нам Шурик почему-то совсем не обрадовался. Он подрос, стал сдержаннее в своих чувствах, но на его длинном лице отразилась не радость, а скорее непонятное изумление, что он нас видит. Когда мы сказали ему, что хотим посмотреть стоянку, чтобы подготовиться к раскопкам, и пригласили с собой, он удивился еще больше. — А что там копать-то теперь? Все и так перекопано! Археологи раскопали, а потом мальчишки… Теперь пришлось нам удивиться. — Постой, постой, что ты путаешь? Какие еще археологи? Ты разве нас не узнал? Ведь это мы в прошлом году приезжали… — Знаю, что приезжали. А после вас еще археологи приехали, тоже на машине! Высокий такой, худой, сердитый… — А как его зовут? — Лев Давыдович вроде… — Бревнов? — Ну да, Бревнов! Вы не стали копать, а он копал! Два дня они там были, у нас останавливались. Потом в школу заехали, все находки забрали, у ребят все взяли. Потом уехали. Они много там ям нарыли, всю стоянку перекопали… — А потом?! — А потом уже ребята. Мы археологов спрашивали: приедете еще? Нет, говорят, не приедем. Значит, все выкопали! Ну и всю осень наши ребята там копали. Череп человеческий нашли, копье с ним… Да туда не только наши со второго участка ходили, там и с центрального были, и из Черняева! Им близко! Видите, вон деревня за болотом?.. Мы стояли ошеломленные. Можно было предположить все, но только не такой нелепый исход Берендеева… Льва Давыдовича Бревнова я знал. Это был ярославский археолог, уже пожилой, неудачник, почему, видимо, и стал сварлив и брюзглив. Всех археологов он подозревал в желании подсидеть его и выхватить из-под носа стоянки. Непонятно было только, почему он стал шурфовать Берендеево? Все лежало на поверхности, и Шурик уверял, что рассказывал ему о нас. Да и занимался Бревнов не неолитом, а эпохой бронзы, причем только одной культурой — фатьяновской. На болота его вела странная, ничем не подтвержденная уверенность, что там должны находиться поселения этих загадочных людей, от которых остались только могильники на высоких холмах, вдалеке от рек и озер, да сверленые каменные топоры, которые иногда находят на пашнях… Ну, хорошо: приехал, посмотрел, собрал материал. Если бы была возможность, я бы всех археологов пригласил раскапывать Берендеево — больше разных мнений, больше гипотез, больше интересных соображений! Но зачем же шурфовать? Шурф приходится закладывать на поселении только в том случае, когда на поверхности ничего не видно, ничего сказать о памятнике толком нельзя и надо выяснить стратиграфию слоев, определить культурную принадлежность, время… Больше того. Шурф должен закладываться с таким расчетом, чтобы потом он вошел в систему раскопа. Я не решился начать раскопки, начать фактическое разрушение стоянки, чтобы после нашего отъезда у ребят не было соблазна там ковыряться. Шурик утверждал, что ребята честно выполнили свое обещание и ничего не трогали здесь до приезда Бревнова. Когда он уехал, оставив шурфы даже незасыпанными, начался разгром… …На стоянку мы приехали мрачные. Не хотелось разговаривать. Не хотелось смотреть. Берендеево кончилось. Рухнула мечта, с которой мы жили весь год. Все пространство черного прямоугольника, на котором видны были остатки настилов, теперь было перевернуто, перекопано ямами, засыпано черепками и костями еще больше, чем в прошлом году. Черепки ребятам были не нужны — они искали только хорошие орудия. Торчали растрескавшиеся и измочаленные сваи. Почему-то было очень много бересты. Хотинский предположил, что нижние бревна настилов были сложены из неошкуренной березы. Я мрачно возразил, что береста сама по себе могла использоваться для настила… Среди ям виднелись оплывшие квадратики шурфов — метр на метр, расположенные по всем правилам археологической науки: вдоль и поперек они пересекали стоянку. А вокруг них как будто трудились тысячи кротов или кабанов… Я смотрел на эти остатки, и в горле шевелился терпкий комок. Это было чудовищно. Мне хотелось плакать. Это было невероятно. Я мог сколько угодно корить себя, что не начал раскопки прошлой осенью на свой страх и риск; оправдывать себя, что действовал именно так, как должен действовать настоящий археолог, а не кладоискатель; снова корить и снова оправдывать. Но ни укоры, ни оправдания ни к чему не вели. Еще не начав работу, экспедиция прекращала свое существование. Оставалось опять вернуться на Плещеевские дюны. Вести там раскопки и хранить надежду, что на Берендеевом болоте было не одно это поселение. Но подсознательно я верил, что это одно-единственное. Все остальные, которые могут быть, другие… — Что ж ты в Москву нам не написал? — упрекнул Шурика Хотинский. — Я же тебе адрес оставлял… — Я хотел, да потом подумал, что вы и так все знаете, что так нужно! — оправдывался Шурик, на которого вся нелепость и трагичность этой истории тоже подействовала удручающе. — Ведь археологи же они!.. Чтобы отвлечься от горьких мыслей, я начал собирать все, что валялось на поверхности. Но делал я это скорее по привычке, механически. Не было ни одушевления, ни напряженности поиска, которые не оставляли меня в прошлый раз. Казалось, был нарушен сам смысл того, что я делаю. Хотинский приехал с определенной целью — он хотел выяснить кое-какие особенности здешней стратиграфии. Взяв лопату, он начал расчищать чистый торф возле юго-западного угла прежнего настила. Черный прямоугольник стоянки был перекопан почти полностью. Этот край был затронут покопами меньше, а торф без находок в общем цел. Шурик, сбегав к машине за лопатой, взялся ему помогать, чтобы хоть чем-то загладить свою оплошность. У меня не выходил из головы рассказ Шурика, что ребята нашли череп. Дважды, трижды неудача! Мы совершенно не знаем самих древних обитателей этого края. На стоянках погребения встречаются исключительно редко. Неолитические мо гильники здесь неизвестны. Есть могильники на юге, на Дону и на Днепре, известны могильники в Прибалтике и в Карелии, а также на севере. Мало того, что погибло поселение — погибло погребение древнего берендея! Черепа не валяются просто так. Тем более Шурик утверждал, что череп был завернут в бересту! Ни от черепа, ни от бересты ничего не осталось. Береста рассыпалась на кусочки. Череп торжественно несли на палке до поселка, а потом стали играть им вместо футбольного мяча… Тьфу!.. А что, если вся эта береста, что валяется вокруг, не от настила, а от таких же разрушенных погребений? Право, об этом лучше не думать!.. Когда я подошел к Хотинскому, они с Шуриком уже расчистили довольно большой участок чистого рыжего торфа. Сейчас Никита вырезал из него образцы на анализ. В прошлогодних образцах, взятых из слоя поселения, оказалось очень много пыльцы сорных трав, сопутствующих только человеку. На этот раз Хотинский решил проверить: не встречаются ли они и в более ранних слоях?

Торф за пределами поселения был чист. Поэтому меня заинтересовало темное пятно, выступавшее в углу расчищенного квадрата. В пятне торф был слежавшийся, плотный. Почти с краю пятна торчал небольшой черепок. Взяв лопату, и расчистив пошире, я увидел, чтр пятно небольшое и овальное, не больше метра с небольшим по длинной оси. Яма? Зачем она была выкопана? Настил лежал на сваях и на торфе значительно выше, сантиметров на десять — пятнадцать. На всякий случай зарисовав это пятно, я принялся его разбирать. Торф откалывался не пластами, как обычно, а крупными кусками. Среди них попалось несколько черепков, угольки и две разбитые косточки. Потом нож наткнулся на бересту. — Бревно, — решил я. — И без того погано! Ну и что? Расчищу бревно… Но береста продолжала идти вширь. Торф отделялся от нее легко, открывая широкую поверхность как бы большого цилиндра. А вдруг? — мелькнула мысль. Нет, так не бывает! Спокойнее, спокойнее… Береза упала в болото и сгнила. Под берестой будет труха. А это зачем? Почему из-под бересты высовываются оструганные палочки? И трава? Кость! Не просто кость — череп!! — Никита, Шурик! Погребение!! — Ты что, — шутишь?! — Да нет! Самое настоящее погребение!! Берендеево словно сжалилось над нами. Невероятно — и все-таки, вот оно! Как хорошо, что с собой взяты и нож, и кисти… По-видимому, древние берендеи хоронили своих покойников в бересте, точнее, в широкой берестяной трубке, цисте. Но она коротка. Следовательно, покойник был сложен втрое и связан. Скорченное погребение! А известные неолитические погребения? Большинство лежат вытянувшись, хотя есть и такие. «Скорченники» главным образом на юге, в степях. Еще один довод в пользу южного происхождения берендеев! Интересно, какой у него череп? Тоже южный — круглый, европеоидный? Осторожно идет расчистка. Снимаем ножами и совком торф вокруг. Очищаются стенки ямы, в которую была опущена циста. Кисточками расчищаем бересту. Теперь вся циста на виду. В длину — около восьмидесяти сантиметров, в ширину — почти пятьдесят. Она сдавлена под тяжестью торфа, и череп разбит. Это ничего! Антропологи его склеят и восстановят в первоначальном виде. А с другого конца из бересты высовываются кости пальцев ног. Значит, все верно: скелет скорченный! Шурик суетится. Он то откидывает в сторону торф, толожится на живот и сдувает пылинки с бересты. Как жаль, что у нас нет с собой консервирующего состава! Оставить погребение на месте — об этом нечего и думать. В ближайшем магазине можно достать ящик. Но что толку? Без гипса или консервации все равно не сделать вырезку торфа с погребением, не привезти в Москву целиком. Береста моментально сохнет и расслаивается на воздухе. Ничего! Она будет собрана вся до мельчайшего кусочка и сослужит свою службу. Хотя и так ясно, что погребение относится к стоянке, эта береста даст нам еще одну дату — самого погребения. И уточнит дату стоянки. Сейчас начинается самое главное. Еще осторожнее, чем раньше, я начинаю разрезать и разворачивать бересту. Теперь уже не только Шурик, но и Никита полулежат рядом, затаив дыхание. Разворачивать — не то слово. Приходится слои снимать по кусочку, по чешуйке. Под первым слоем бересты оказывается второй. Между ними проложена осока и несколько тонких струганых палочек, концы которых я заметил раньше. Ах, вот оно что! Такие палочки идут и под вторым слоем — это каркас цисты. — Они веревками перевязаны, — тяжело дыша говорит Никита. — Где? Да, веревки… Неолитические веревки! Веревки распадаются на отдельные клочки. Скорее мешочек из полиэтилена! В лаборатории реставраторы найдут способ их укрепить и выяснят, из чего они свиты. Кажется, лыковые… Циста оказалась сделанной из трех слоев бересты. Каждый слой обложен палочками, травой и перевязан — для прочности. Только когда мы все сняли, зарисовав и сфотографировав, перед нами открылся скелет. Колени и кисти рук его были сложены под подбородком, ноги плотно прижаты к телу. Наверное, пришлось покойнику подрезать сухожилия, чтобы придать ему эту позу… Медленно, шаг за шагом, фотографируя, обмеряя и зарисовывая, мы освобождали скелет от бересты и травы, в которую он был завернут. Работая кистью, я заметил на костях какой-то странный черный налет. Приглядевшись, я не смог сдержать радостный возглас — это были остатки ткани! Большая часть ее распалась, прикипела к костям, но все-таки нам удалось отделить несколько кусков величиной с ладонь. Ткань была темно-коричневой, редкой, похожей на грубую мешковину, и под лупой хорошо были видны поблескивающие волоски пряжи. Шерстяная одежда? Разбирая и упаковывая кости, я осмотрел череп. Швы черепной коробки были плотными, заросшими, зубы старыми и стертыми. Берендей этот был стар — во всяком случае по зубам ему было не меньше семидесяти — восьмидесяти лет. А под скелетом так ничего и не оказалось. Но и то, что мы нашли это погребение, что нашли в нем, было огромной, потрясающей по своей невероятности удачей! Когда все было расчищено и упаковано, мы могли встать, выпрямиться и отдышаться. Под цистой лежал рыжий, никем не потревоженный торф. Погребение оказалось не в слое стоянки, а рядом с настилом. Это спасло его от ребят и Бревнова. Я бы тоже никогда не догадался искать его в чистых слоях торфа. Выходит, берендеи хоронили своих покойников здесь же, рядом с домами. Почему? — спрашивал меня Никита. Почему? На это было много причин. Может быть, они боялись выносить на берег — так покойники попали бы в руки их врагов. В первобытном обществе умерший член рода был даже более дорог и важен, чем живой. После смерти он оставался в роду и считался его незримым охранителем. Ему следовало приносить жертвы и всячески его ублажать. Именно поэтому берендеи могли похоронить своего старого сородича рядом с домами. Тогда он становился стражем поселка… Увы! Этот старый берендей не смог сохранить стоянку от врагов ни тогда, в древности, когда запылал поселок на болоте, ни теперь, когда его разрушили сначала рабочие торфопредприятия, а потом мальчишки. Что винить мальчишек! Они честно держались, пока считали, что стоянку надо сохранить. Мальчишки — всегда мальчишки. А этот страж сохранил только себя. И на том ему спасибо!.. — Последний подарок берендеев! — пробормотал я, глядя на пустую яму. Шурик встрепенулся. — А вы знаете, ребята говорят, на шестом участке, где гараж раньше был, тоже черепки есть. Только там давно не работают… — Что же ты раньше молчал? — удивился Хотинский. — Забыл… Я сам еще туда не ходил, все собираюсь… Мы с Никитой переглянулись. — На шестой участок? — Конечно! Давай, Шурик, лопаты в машину… И по мягким торфяным полям мы отправились в плавание по Берендееву болоту…
…Нет, второй такой стоянки мы не нашли — ни тогда, ни позже. Берендеево-I, как называется теперь это поселение, осталось единственным в своем роде. И хотя на этом болоте нам удалось отыскать другие стоянки, уже обычные для этих мест, на суходолах, там жили уже другие берендеи. Может быть, те, что и сожгли это свайное поселение. Сейчас об этом еще точно сказать нельзя, надо копать. «Нашему» Берендееву-первому, всегда не везло. Его сначала сожгли, а потом разрушили и остатки его. Эх, берендеи, берендеи!..
Об авторе Никитин Андрей Леонидович. Родился в 1935 году в Калинине. Окончил исторический факультет МГУ, по специальности археолог. Работал над проблемами неолита и бронзы Восточной Европы. В настоящее время литератор, занимается популяризацией науки. Автор нескольких научных работ, многих очерков и научно-художественной книги «Голубые дороги веков». В нашем альманахе выступал в 1966 году. Сейчас работает над научно-художественной книгой об открытиях советских археологов.
Отто Зайлер-Джексон
ЛОВЛЯ БЕГЕМОТОВ НА РЕКЕ УЭЛЕ

Глава из книги Перевод с немецкого М. Чистяковой Рис. Г. Чижевского
Мысль о ловле крупных животных в том районе, где я находился, продолжала волновать меня. Вначале я подумывал о том, можно ли ловить слонов и продавать их торговцу животными. Однако выявившиеся трудности заставили отказаться от этого намерения. Тогда я стал размышлять о других видах. Бегемоты! Они ежедневно были перед моими глазами… Конечно, нечего было и пытаться ловить взрослых бегемотов, они как-никак обладали почтенным весом в две — две о половиной тонны! Речь могла идти только об их детенышах. Случай благоприятствовал моим намерениям. Недели за две до конца дождливого периода представители греческого торговца передали мне его заказ поймать трех бегемотов-детенышей. Вместе с другими предметами снаряжения он прислал пятьдесят пустых мешков, которым я очень обрадовался, так как они могли весьма пригодиться. В первый же год моего пребывания на Уэле я стал усердно изучать привычки и образ жизни этих животных. Моим друзьям-африканцам всегда бывало не по себе, когда я переносил свои наблюдения на ночное время. Особенно жутко становилось, когда вблизи от нас проходили на водопой львы и раздавалось их потрясающее рычание, от которого во всей округе умолкали голоса других животных. Но скоро я заметил, что и лев затихал, когда ему отвечало мощное утробное мычание бегемота. Оно доносилось как зов из подземного мира. Тотчас же откликались другие бегемоты, и шум усиливался фырканьем всплывающих чудовищ, а потом и голосами испуганных птиц и обезьян. Это было великолепным волшебством первобытного леса. Бегемот охотнее всего находится в воде или на теплых песчаных отмелях. На сушу он выбирается, когда в воде не находит достаточно пищи. Его прожорливость велика, но вред он наносит главным образом своими массивными короткими ногами, топча все, что попадается на пути. Если ему случается забраться на плантацию, он начисто все уничтожает. На людей бегемоты почти не нападают, разве что по пути к своим пастбищам или когда при них детеныши. В этом случае животные могут стать очень Агрессивными, а их четыре мощных клыка — опасное оружие. Конечно, опаснее всего эти животные в воде; в родной стихии они гораздо поворотливее, чем на суше. Сила бегемотов так велика, что эти великаны могут выбросить на сушу даже небольшое речное судно; на своих коротких ногах бегемоты поразительно быстро бегают. Когда накопилось достаточно наблюдений за образом жизни этих животных, чтобы рискнуть и сделать попытку отловить их, я начал приготовления. Это было не совсем просто в девственном лесу Центральной Африки. Пастбище бегемотов находилось вблизи от нас, но на другом берегу Уэле. Пришлось прорубать прямую просеку от нашего укрытия к пастбищу, куда ночью приходили бегемоты. Тропическая жара и духота первобытной чащи невероятно затрудняли работу, Почти каждый шаг давался с трудом. К тому же нам все время докучали мириады комаров, москитов и других насекомых, надо было постоянно опасаться и ядовитых змей. До наступления темноты мы всегда прекращали работу и уходили подальше от пастбища бегемотов, чтобы не пугать этих чутких животных. Через две недели наша просека была готова. И еще несколько недель мы по ней не ходили: бегемоты чрезвычайно осторожны. Все это время я наблюдал за их поведением в воде. В нашей гребной лодке я ежедневно предпринимал разведки в сопровождении двух динков. Они научились прекрасно грести и умели почти бесшумно подвести лодку к животному. Когда мы однажды с большой осторожностью обогнули островок, в мелкой воде у берега увидели стельную бегемотиху, не заметившую нашего приближения. Лодка беззвучно скользнула за укрывший нас кустарник в небольшой бухте острова. Отсюда мы могли хорошо наблюдать за животным. Оно тяжело дышало и пристально смотрело на воду. Через некоторое время бегемотиха опустилась глубже в воду и легла таким образом, что ее спина и голова образовали почти горизонтальную поверхность. Сильные схватки сотрясали ее тело. Это продолжалось около двух часов. Вдруг внезапный толчок подбросил животное. Тут же бегемотиха повернулась и нырнула в воду, а когда появилась вновь на поверхности, то уже толкала своей широкой мордой новорожденного детеныша, медленно плывшего впереди матери. Еще во время моего путешествия в Хартум мне случалось видеть на Ниле дорожки бегемотов, которыми эти великаны пользуются, когда выходят на сушу, чтобы отправиться на пастбище. На Уэле и его широких притоках я также находил подобные дорожки. Часто они так круто поднимались из воды, что казалось невероятным, чтобы бегемот при своей массивности мог взбираться по ним. На суше дорожки расширялись, образуя глубокие канавы, протоптанные тяжелыми ногами бегемотов, ежевечерне проходивших здесь. Такая тропа к заманчивым пастбищам нередко достигала в длину двух километров. А пастбища в свою очередь пересекались вдоль и поперек настоящими рвами в несколько метров глубиной. В начале своих наблюдений на берегу реки я не раз чувствовал в кустарнике острый запах, как от лошадиного навоза. Происхождение этого запаха было для меня загадочным. Лишь через несколько дней я догадался, в чем дело. Оказывается, бегемоты быстрыми движениями хвоста разбрасывают свой помет в разные стороны и таким образом оставляют «визитную карточку» подобно животным европейской фауны. У одного племени на Уэле есть даже забавная легенда, связанная с этим явлением. Когда бог создавал животных, он сотворил и чудовище — бегемота. Бегемот горько жаловался на то, что у него слишком короткие ноги и он не может соревноваться в беге с другими гигантами — слоном и носорогом. Поэтому бегемот просил, чтобы создатель разрешил ему жить в воде, и обещал никогда не есть рыбы. Создатель удовлетворил его просьбу. С тех пор бегемот разбрасывает помет на окружающие растения, чтобы создатель в любое время мог убедиться, что в нем не содержится ни рыбьих костей, ни чешуи и, следовательно, бегемот выполняет обещанное. Каждое стадо бегемотов защищает свое пастбище от вторжения чужаков, на которых самец-вожак тотчас же нападает. В стаде насчитывается до двадцати голов, предводительствует самый сильный самец. Выход стада на сушу всегда сопровождается большим шумом. Последними идут матери с детенышами. Однажды ночью я находился в конце проложенной нами просеки, у самого пастбища бегемотов, и убедился, что они, ничего не подозревая, продолжали спокойно пользоваться своей тропой. Значит, можно было начинать ловлю. На следующий день в моем лагере появилось десять любопытных мужчин из племени барумби. Днем я отправился с четырьмя динками к бегемотьим тропам. Барумби вызвались сопровождать нас. Когда мы подошли к главной дорожке бегемотов, каждому динку я дал в руки пять мешков. Двоих динков я оставил при себе, а двое других должны были отойти по главной тропе на двадцать метров. В некоторых местах мы положили у самой тропы наполненные землей мешки. Барумби принимали деятельное участие в этой работе. Я был вполне удовлетворен ею, не скупился на похвалы и обещал барумби много мяса к ужину. Поэтому все пришли в наилучшее расположение духа. Окончив работу, мы должны были удалиться, чтобы наш запах не возбудил подозрений бегемотов. На следующий день я до захода солнца отправился со своим помощником Абдуллой и четырьмя динками на тропу бегемотов. Я ознакомил каждого из спутников с моим планом и растолковал им, как они должны действовать у западни. Придя на место, я еще раз напомнил, чтобы все, несмотря на болезненные укусы москитов, вели себя тихо. Солнце уже зашло, когда громкое сопение, глухое хрюканье и всплески воды прервали тишину. Бегемоты выходили из реки, направляясь к пастбищу. Они уверенно пошли привычной дорогой. Теперь надо было не нервничать и действовать хладнокровно. На всякий случай я захватил винтовку. Вторая была в руках у Абдуллы. Он получил задание этой звездной ночью подкрасться к бегемотам с подветренной стороны и по моему сигналу два раза выстрелить. После того как бегемоты протопали мимо нас к своему пастбищу, мы побросали на дорогу один за другим пятнадцать наполненных землей мешков так, что образовалась баррикада. Она должна была преградить путь возвращающимся бегемотам. Остальные наполненные мешки я распорядился держать наготове у края дорожки. Потом Абдулла по моему свистку в тишине тропической ночи сделал два выстрела. Лев, который невдалеке во второй раз подал голос, ошеломленный, замолчал. Бегемоты обратились в бегство. Впереди мчался самец с быстротой, на какую я никогда не считал способным такое неуклюжее животное. За ним бежал детеныш с матерью. При виде преграды из мешков самец остановился. Тут и я выстрелил в воздух. Теперь бегемота уже ничто не могло удержать. Своими мощными клыками он отшвырнул в сторону несколько мешков и с поразительным проворством преодолел барьер. Детеныш был не в силах последовать за ним. Тщетно мать пыталась головой подтолкнуть его вперед. Когда я во второй раз выстрелил, а динки подняли адский шум, то и мать-бегемотиха решила больше не медлить. Она оттолкнула в сторону детеныша и ринулась в проделанный самцом проход, чтобы добраться до спасительной воды. За ней, отпихивая малыша-бегемотика, последовали остальные животные. Как только они скрылись, мы заделали приготовленными мешками брешь в поврежденном барьере. У бегемотика не было никакой возможности убежать. Тем не менее он упорно, неуклюжими прыжками пытался вырваться на свободу. Но все его старания оставались безуспешными, и он совершенно обессиленный стоял на тропе и глядел на препятствие из мешков. Этими минутами воспользовались динки, чтобы позади бегемотика, метрах в двадцати от первой преграды, из остальных мешков соорудить вторую и отрезать молодому животному все пути к отступлению. Ночью мы ничего больше не могли предпринять. Наш пленник мало-помалу успокаивался.
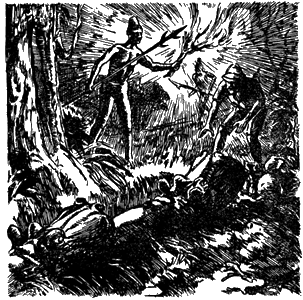
На рассвете Абдулла с двумя динками пошел в лагерь, чтобы взять ящик, приготовленный для переноски пленника. До того, как солнце поднимется высоко, бегемотик должен был находиться в лагере, в водном бассейне. Вскоре Абдулла вернулся с четырьмя нашими друзьями-динками, которые с большим шумом тащили ящик. Отодвинув в сторону несколько туго набитых мешков, мы поставили ящик прямо перед бегемотиком. Но он не мог войти туда, потому что дно ящика находилось слишком высоко. Тогда мы стали кидать под бегемотика землю, которая уплотнялась под его ногами до тех пор, пока поверхность не сровнялась с дном ящика. Ободряющими возгласами и легкими шлепками по упругим бедрам животного мы старались заставить его войти в ящик, дверца которого была поднята. Но это нам не удавалось. Тогда я велел поднять и другую заслонку ящика, так что перед пленником, казалось, открывался путь к свободе. Надо было только пройти сквозь ящик. Он это сообразил и осторожно шагнул в ловушку. Тут обе заслонки быстро опустились. Недалеко от нашего лагеря охотники-барумби разбили свою стоянку. Они слышали выстрелы. Когда начало светать, любопытство привело их в наш лагерь. Там они узнали, что мы на другом берегу Уэле подстерегаем бегемотов. Но где раздавались выстрелы, там, вероятно, была и убитая дичь, значит, и мясо. Барумби побежали к своим лодкам и переправились на другой берег. С изумлением они обнаружили, что мы трудились не над убитой дичью, а над большим ящиком. Они засыпали динков вопросами, желая узнать, что это за ящик, и были очень удивлены. Хотя они не получили ожидаемого мяса и были разочарованы, но не ушли, а стали дружно помогать нам. Объединенными усилиями, преодолевая многочисленные препятствия, мы доставили ящик с детенышем к берегу Уэле, на мою большую лодку. Бегемотик весом в четыре центнера стоял неподвижно, качаясь из стороны в сторону, С причала мы покатили ящик по заранее проложенным бревнам к лагерю, и все облегченно вздохнули, благополучно достигнув цели. Солнце поднималось. Надо было побыстрее перевезти ящик с бегемотиком в загон, чтобы ему не повредила усиливающаяся жара. Потом заслонки ящика были подняты, но бегемотик упрямо не хотел выйти оттуда, хотя Зигфрид, самый сильный из динков, изо всех сил упирался в него сзади. Тут у меня появилась удачная мысль. Я заранее приобрел двух коров и трех коз как источник молока для детеныша бегемота, которого надеялся поймать. И теперь они приветствовали нового гостя в нашем лагере глухим мычанием и веселым блеянием. Я распорядился быстро подоить корову и поднес миску с теплым молоком к широкому рту упрямца. К этому подношению он сначала оставался равнодушным. Тогда я наклонил миску так, что молоко потекло по его губам. Это не замедлило оказать свое действие. Упрямец облизнулся, опустил морду в миску и вошел во вкус. Когда миска опустела, ее снова наполнили. Я медленно стал отодвигаться с миской, а бегемотик шел за мной, потягивая молоко. Вскоре он уже вышел из ящика и стал осматриваться в новой обстановке. Загон, построенный несколько недель назад, представлял собой прямоугольник площадью восемь на десять метров. Он состоял из вбитых в землю бревен вышиной в полтора метра. С одной стороны находилась калитка. В середине загона мы сделали бассейн, в него вел наклонный мостик. Вода в бассейне все время обновлялась из ручья, протекавшего через лагерь. Каждый день с восхода до захода солнца мы приносили с реки порядочное количество водных растений, так как наш юный бегемот обладал прекрасным аппетитом. Он подрастал с каждым днем. Я окрестил нашего нового гостя Мозесом, несколько раз в день приносил миску молока и при этом спокойно разговаривал с ним. На третий день он уже знал, что означает миска в моих руках, и выходил из воды полакомиться молочком. На пятый день он уже неотступно следовал за мной повсюду, когда я держал перед ним миску. Сбежать от нас он едва ли мог, так как наш лагерь был со всех сторон окружен высоким и густым терновым плетнем, а вход всегда был закрыт и охранялся. Между тем бегемотик становился все доверчивее и привязчивее. Он скоро стал выходить на мой зов, так как знал, что в награду получит миску молока, если будет послушен. Мозес навещал меня в моей палатке. Со своей довольно уже большой головой и широким ртом он представлял забавную картину, когда стоял передо мной и выжидающе смотрел моргающими глазенками. Однажды, когда я был в лесу, Мозес почувствовал себя одиноким и стал меня искать. Он пришел к моей палатке, но, минуя вход, надвинулся на боковую стенку, которую продавил тяжестью своего тела, и палатка рухнула на него. Он так испугался, что быстро удрал в свой бассейн. В другой раз он вошел в палатку через вход, но не застал меня. Любопытствуя, он обследовал стол, стулья и ящик, опрокинул все это и удалился, оставив полнейший хаос. К сожалению, через шесть недель узы дружбы между Мозесом и мною были разорваны. Уполномоченный грека-торговца появился с отрядом носильщиков в сорок человек, чтобы забрать первого пойманного нами бегемота. Увидев значительно потяжелевшего Мозеса, носильщики возбужденно заговорили между собой. И они, и динки были того мнения, что совершенно невозможно перевезти этого бегемота живым. — О, господин, — сказал Хейни, один из динков, — лучше оставь бегемота в лагере. Я охотно буду каждый день доставлять ему молоко и корм, сколько понадобится! — Бегемот отправится вплавь, Хейни! — ответил я. Он удивленно посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, и я продолжал: — Но на лодке! Я оставил у себя шесть сильных мужчин из отряда торговца, а уполномоченного с остальными послал вверх по реке к тому месту, откуда должно было начаться сухопутное путешествие нашего Мозеса. В месте встречи нас должен был ожидать караван вьючных быков. Начальнику отряда я поручил поддерживать днем и ночью сильно дымящий костер, чтобы мы могли без труда найти это место. Бедного Мозеса пришлось опять заманить в ящик. Заслонки были подняты с обеих сторон, и я с миской молока влез в ящик. Потом позвали Мозеса. Он подошел к самому ящику и стал пить молоко, но, несмотря на все уговоры, и не подумал войти внутрь. Очевидно, воспоминания о нем были для животного еще очень свежи. Тогда я переменил тактику и на его глазах опять влез в ящик с молочной миской и вылез с другой стороны. Мозес упорно продолжал стоять перед ящиком. Я не терял терпения, опять дал ему полакомиться из миски и, держа ее перед Мозесом, влез в ящик и стал его звать. Из-за жары и утомительных движений пот лил с меня ручьями. Ящик все еще оставался в глазах Мозеса западней. По меньшей мере раз десять я давал ему отведать молока, манил его, пролезал через ящик, пока наконец, отбросив сомнения, Мозес последовал за мной. Я быстро выскочил из ящика, и дверцы захлопнулись. Ящик был устроен так, что в него беспрепятственно поступал воздух. Кроме того, через щели в крышке и стенках можно было обливать Мозеса водой, что имело очень важное значение для его здоровья. Итак, Мозес опять стал пленником. Надо было немедленно доставить ящик к реке и погрузить на мою большую лодку. Всего я хотел взять три лодки. Два ружья с боеприпасами, шерстяные одеяла, продовольствие, лекарства, керосин и керосиновую лампу Абдулла поместил в свою лодку. Динки взяли к себе посуду, кухонную утварь и шерстяные одеяла. Конечно, прежде всего надо было решить задачу, как доставить тяжелый ящик к реке. Один из носильщиков полагал, что лучше всего заставить бегемота дойти до реки самостоятельно, а там снова загнать его в ящик. Другой был еще находчивее и дал совет надеть бегемоту веревку на шею и повести его к реке, чтобы тот на привязи плыл за лодкой. Все, кроме меня, приветствовали эти предложения. Между тем Абдулла с двумя динками уже положил поперек транспортной лодки два толстых бревна, на которые надо было поставить ящик. С берега на борт перекинули два обструганных древесных ствола, чтобы по ним стащить ящик в лодку. Тем временем клетку прикатили к Уэле на двух круглых бревнах. Эта работа была не настолько трудной, как представлялось вначале. Затем шесть человек уперлись в другую стенку лодки, чтобы собственной тяжестью удержать ее в равновесии, когда с гладких, смоченных водой бревен ящик сдвинут на перекладины. Как только транспортировка была закончена, Мозеса облили водой. Можно было начать путешествие. Это плавание оказалось очень утомительным, так как мы плыли против течения. К тому же нам приходилось преодолевать бесчисленные препятствия. Часто путь преграждали упавшие в реку деревья-великаны, и больше десятка раз лодка садилась на мель в илистых местах, которых не разглядеть в мутной воде. Я правил, гребли четыре смышленых барумби, которые в течение недели находились в моем лагере. Когда лодка застревала, гребцам приходилось влезать в воду, чтобы сняться с мели. Это было довольно опасно из-за крокодилов, в изобилии населявших реку. Гребцы входили в воду лишь тогда, когда я стоял в лодке с ружьем наготове, чтобы застрелить крокодила в случае нападения. Конечно, это был самообман, так как в девяноста случаях из ста крокодил нападает под водой. Однажды мы столкнулись с необычайным препятствием. Течение несло на нашу лодку труп старого бегемота, его разлагающаяся туша невероятно вздулась от газов. С поднятыми над водой веслами встревоженные барумби ждали, что принесут нам ближайшие минуты. Они смотрели на меня глазами, полными страха, так как мы видели, что два больших крокодила вырывали куски мяса из туши. Недолго думая, я выстрелил в ближайшего крокодила. Он исчез в воде. Звук выстрела заставил и второго искать спасения в бегстве. Барумби взялись за весла и медленно повернули лодку носом к трупу бегемота. С большим трудом нам удалось оттолкнуть труп в сторону, и быстрое течение отнесло его. Нашего Мозеса в его ящике все эти волнения и неприятности мало беспокоили: мы по мере сил заботились о нем. На досуге я любовался картинами первобытного леса и воображал, что перенесся в сказочную страну, Таких чудесных ландшафтов я еще не видел, Баобабы необычайной величины и пальмы различнейших видов своей листвой создавали сумрак в девственном лесу. Отливающие яркими красками мотыльки порхали вокруг растений, многие из которых были покрыты великолепными цветами, Плети этих растений часто были в руку толщиной и превращали лес в непроходимую чащу. Они перекидывались висячими мостами в зеленом море, освещенном сиянием тропического солнца. Порой я воображал, что нахожусь в лесу своей родины, но тут же возвращался к действительности, когда над самой головой проносилась стая обезьян. Обычно производимый ими шум заглушался криками попугаев и тысячеголосым хором более мелких птиц.

Вечером мы приставали к берегу, чтобы развести костер и приготовить пищу, ночью спали в лодках. Однажды под вечер мы вдруг увидели маму-бегемотиху, шаловливо игравшую со своим детенышем. Они не заметили нас и продолжали резвиться. Чтобы полюбоваться этой идиллией, я велел перестать грести. Детеныш плавал взад и вперед перед широкой мордой матери и, казалось, дразнил ее. Потом он быстро исчез под водой. Мать тоже нырнула. Через секунду детеныш опять появился на поверхности, ожидая, что мать последует за ним. Эта забава продолжалась довольно долго. Через десять дней запах гари и голубой дым, поднимавшийся над верхушками деревьев, подсказали нам, что мы достигли условленного места встречи. Я сделал два выстрела, которые громовым эхом прокатились по лесу, и встревожили животных. Теперь в лагере было известно, что мы прибыли. Лодка с Мозесом причалила к берегу. Сначала его основательно облили водой, потом ящик вытащили на берег и подвесили к двум длинным крепким бревнам. Эту тяжелую кладь несли шестнадцать человек. Через каждые двадцать шагов они со стоном опускали ящик на землю. После длительной передышки снова брали на плечи свою ношу. Часто деревья и колючие кустарники преграждали путь. Поэтому я был чрезвычайно рад, когда Мозес благополучно прибыл в лагерь. Дальнейшая перевозка ящика с Мозесом до реки Эль-Газаль осуществлялась караваном вьючных волов. Это было большим путешествием, во время которого также приходилось преодолевать разные трудности. Караван состоял из двенадцати волов. Четыре вола несли ящик, четыре были наготове для смены и четыре несли бурдюки с водой, чтобы в пути обливать Мозеса. Волы были расставлены двумя парами, каждая с промежутком в два шага. Это приблизительно соответствовало ширине ящика. Метрах в четырех за первой парой волов стояла вторая пара. Оба ярма каждой пары соединялись между собой крепким бревном. На поперечные бревна были положены два толстых продольных, прикрепленных кожаными ремнями. Между этими бревнами была подвешена клетка. Пары волов сменялись каждые два часа. Чтобы Мозес не страдал от жажды, купили пять коров, молоком которых поили бегемота. Я дал начальнику транспорта молочную миску, хорошо знакомую Мозесу. Караван находился в пути только в утренние и предвечерние часы, чтобы бегемот не страдал от жары. Две недели понадобилось каравану, чтобы добраться до ближайшего притока реки Эль-Газаль. Долгое время я беспокоился, не зная, благополучно ли прибыл Мозес в Фашоду. Потом торговец-грек прислал мне радостную весть, что пере-' возка закончилась успешно, и Мозес продолжает путешествовать, так как его приобрел представитель Гагенбека. На обратном пути нам очень помогло течение, так что мы без особых происшествий через пять дней уже были в своем лагере. Там я сначала чувствовал себя одиноким, мне очень не хватало общества маленького бегемота. Конечно, не каждый день мы выходили на ловлю бегемотов и тем более на одно и то же место. Бегемоты долго помнят, что их потревожили. Лишь спустя несколько недель мы с Абдуллой и четырьмя динками стали искать новых возможностей для ловли и подыскивать подходящее для засады место. При этом мы объездили и различные притоки Уэле. Во время одной из поездок нам встретился одинокий огромный бегемот-самец. Это был один из тех старых бегемотов, которые со временем становятся сварливыми и невыносимыми в стаде. В конце концов возмутителя спокойствия изгоняют из стада. Мы не подозревали о его близости. Он появился внезапно перед носом лодки, широко разинул огромную пасть с устрашающими клыками и издал ужасный рев на высоких нотах, почти напоминавший лошадиное ржание. Эта встреча отнюдь не была приятной. Когда бегемот нырнул в воду, мы стали грести изо всех сил, чтобы побыстрее отплыть подальше. Однако, вынырнув, бегемот опять с ревом бросился на лодку. Двое гребцов так испугались, что потеряли голову и прыгнули в воду с другой стороны. Бегемот толкнул лодку, и она затрещала по всем швам. Абдулла перелетел через меня и ударился головой о борт, получив опасное ранение над глазом. Это испытание своей силы, вероятно, удовлетворило бегемота, он больше не интересовался нами и, фыркая, поплыл дальше. Мы поспешили к берегу, чтобы перевязать пострадавшего и починить лодку. Когда мы выскочили на берег, я увидел только одного динка, плывшего к нам. Куда девался второй? Я боялся за него, потому что динки неважные пловцы. У меня прямо камень свалился с сердца, когда он вынырнул из воды. Он кричал благим матом: его ранил крокодил. К счастью, это оказался маленький крокодил, робко сделавший попытку нападения. Всем нам запомнилась другая неприятная встреча с бегемотами. Была дождливая пора. Плывя в своей лодке, мы заблудились на обратном пути и попали в приток Уэле. Я заметил ошибку только тогда, когда увидел, что местность совершенно незнакомая. Мы повернули обратно. Уже приближался вечер. Черное грозовое небо нависло над землей. Все кругом было одето мраком. Разразилась неистовая тропическая гроза. Лес содрогался, вода вокруг нас бушевала. Молнии непрерывно сверкали яркими зигзагами. Великолепная и в то же время страшная картина. Не обращая ни на что внимания, Абдулла стал варить кофе для себя и меня. Чтобы ливень ему не мешал, он соорудил навес над керосинкой. Вдруг сильный толчок бросил на меня Абдуллу с кипящим кофе так, что меня ошпарило. Сверкнула молния, и мы увидели, что попали в стадо бегемотов, которые больше из любопытства, может быть, чем из агрессивных побуждений, копошились вблизи нашей лодки. Я схватил ружье. Два выстрела в воздух отогнали стадо. Вскоре гроза стихла, и над нами мирно засверкало прекраснейшее звездное небо. Лодка почти не получила повреждений, и мы благополучно достигли своего лагеря. Как свирепо бегемоты могут сражаться между собой, я видел во время другого плавания в бассейне реки Уэле. Это было во время засухи. В мелкой воде стояли друг против друга два сильных бегемота-самца. Казалось, каждый оценивает силу противника. Потом они яростно ринулись навстречу друг другу с широко раскрытой пастью. Клыки с треском пробивали кожу противника. Из ран текла кровь. Бойцы разошлись, чтобы перевести дух, но тут же снова кинулись друг на друга. У обоих толстая кожа свисала с тела клочьями. Борьба становилась все ожесточеннее. Наконец более мощный с силой толкнул противника В реку и бросился вслед, чтобы там окончательно расправиться с соперником. В течение трех лет мне удалось в районе Уэле поймать еще восемь детенышей-бегемотов. Они большей частью поступили в зоологические сады Европы.
Об авторе Отто Зайлер-Джексон родился в 1884 году в Германии (земля Баден). О 1903 года работал звероловом в Центральной Африке, Индии и на Цейлоне, наблюдал диких животных, изучая их повадки и психологию. С 1908 года до первой мировой войны и позже занимался «ручной» дрессировкой львов, тигров и слонов, Дрессировщик с мировым именем, он дважды был со своими зверями в Советском Союзе. В начале тридцатых годов Зайлер перешел на работу в Дрезденский зоологический сад, где до второй мировой войны занимал должность главного инспектора. После разрушения англо-американской авиацией Дрезденского зоосада Отто Зайлер не возвращался больше к работе с Животными. Конец войны и поражение германского фашизма застали Зайлера убежденным, а вскоре и воинствующим антимилитаристом. Он поставил себе задачей борьбу против фашистского угара и идей реваншизма в умах подрастающего поколения немцев. Сейчас проживает в ГДР. Публикуемый нами отрывок взят из книги Отто Зайлера-Джексона «Львы — мои лучшие друзья».
ЗВЕРИНЫМИ ТРОПАМИ ДЖУНГЛЕЙ Послесловие
Глава «Ловля бегемотов на Уэле» из книги Отто Зайлера-Джексона «Львы — мои лучшие друзья» возвращает читателя к началу нашего века. Место описываемых событий — Африка, государство Конго, северо-восточный приток реки Конго — полноводная Уэле, некогда заповедный край крупных зверей И бесчисленных птиц. Здесь, отрезанный от всех очагов культуры, в глубина величественных лесов, девятнадцатилетний Отто Зайлер-Джексон вместе со своими темнокожими спутниками и друзьями из племен динка (нилотская языковая группа) и барунди (языковая группа банту) провел немало времени, занимаясь отловом разных животных по заказам европейских зверинцев. Смелый, находчивый и предприимчивый зверолов проник в самый глухой и малоисследованный край огромного континента, в сердце Африки. В то время эта земля находилась еще под игом иноземных поработителей. Огромная свободолюбивая страна с 1884 года была скована цепями бельгийского империализма, хотя численность населения ее в то время более чем в четыре раза превышала численность населения метрополии и в 77 раз превосходила ее по площади территории. Национально-освободительная борьба конголезцев никогда не прекращалась но особенно она усилилась и приняла организованные формы в период второй мировой войны и последующие годы, когда на политическую арену выдвинулся молодой национальный рабочий класс. 30 июня 1960 года многострадальная страна силой вырвала у Бельгии независимость. Племена, о которых пишет Зайлер-Джексон, стали свободными. Но что оставили после более чем семидесятилетнего хозяйничанья свободному теперь народу бельгийские колонизаторы? Что стало, например, с его национальным достоянием — богатейшей и разнообразной фауной? Бассейн реки Конго можно сравнить с гигантским правильной формы блюдом, поперечник которого свыше тысячи километров. Почти вся эта огромная впадина в кольце возвышенностей, как губка, насыщена водой. Котловина занята одним из самых грандиозных в мире массивов дождевого тропического леса. Б периоды паводков он почти сплошь затопляется разливом рек, превращаясь в болото. Каждый день после полудня сырые джунгли орошают необычные по силе, хотя и кратковременные ливни с грозами. И даже здесь, в глуши малопроходимых для людей сумрачных дебрей, в местах, на сотни километров удаленных от больших человеческих поселений, в условиях жаркого, расслабляющего тепличного климата, особенно вредного для европейцев, животный мир в большей своей части истреблен. Охотничий сезон в экваториальных джунглях обычно начинается в периоды разлива рек, время наступления которых не одинаково для северных и южных притоков Конго, Несовпадение половодья зависит от частоты наиболее интенсивных дождей. Для Уэле этот период длится с марта по ноябрь. Спасаясь от наводнения, животные собираются на любых возвышенных, незатопленных местах и здесь становятся легкой добычей охотников, целые экспедиции которых принимают участие в жестоких массовых истреблениях зверей. Африканская экзотика привлекала многих богатых иностранных туристов, и ни один из них не уезжал отсюда без трофея. «Дичь» попадалась на каждом шагу, повсюду. В джунглях обитали во множестве обезьяны: мартышки, макаки, павианы-бабуины, дриллы, мандриллы, на лесистых склонах гор Вирунга — крупнейшие из обезьян — горные гориллы, в кронах деревьев скрывались древесные даманы и лемуры; в сырой чаще бродили бородавочники, полосатые окапи, лесные антилопы, буйволы, слоны, леопарды и мелкие хищники, в ветвях прятались удавы и ядовитые змеи, ящерицы; в реках и болотах кормились крокодилы и бегемоты. Джунгли давали приют и необыкновенно красочному миру птиц. На окраинах джунглей и особенно в парковых саваннах кочевали многотысячные стада зебр, жирафов, разных антилоп, слонов, буйволов, носорогов, страусов и те, кто за ними охотился — львы, леопарды, гиены и гиеновые собаки, шакалы; в воздухе парили орлы и грифы. Флора тропиков также исключительно разнообразна. Безбрежным океаном зелени предстают с самолета дождевые леса северной части Конго. В этих лесах много ценных в хозяйственном и техническом отношении древесных пород. Но усиленная выборочная «охота» за деревьями, дающими высококачественную строительную и поделочную древесины, такими, как терминалия, палисандровое, эбеновое, санталовое, красное, желтое, цинометра, в значительной мере обеднило видовой состав леса и сейчас грозит многим породам деревьев почти полным исчезновением. Между тем эти леса давали приют многочисленным и разнообразным животным и птицам. Но так было еще в недавнем прошлом, которое застал Зайлер-Джексон. С тех пор многое переменилось. В Конго, как и на всем Африканском континенте, хищническое уничтожение диких зверей даже в заповедниках и национальных парках может привести к вымиранию всех крупных животных и птиц. Безжалостно истребляются и бегемоты. Только энергичные меры по развитию экономики страны, ее хозяйства и национальной культуры поможет в дальнейшем приостановить общий процесс разрушения фауны и флоры Конго, ее национального и мирового хозяйственного, научного и культурного богатства и достояния. «Ловля бегемотов на Уэле» — яркий рассказ об особенностях жизни бегемотов и их лова — с интересом будет встречен читателями. Автор оставил нам живое и красочное повествование о джунглях и о времени, когда дикие звери вне заповедников все еще чувствовали себя повсюду дома. Они не успели тогда еще стать жертвой жестокости и безмерной алчности людей.
Герман Чижевский
Анатолий Онегов
ДНИ И НОЧИ ТАЕЖНОГО СЕВЕРА

Короткие зарисовки, сделанные на промысловой охоте в небольшой таежной деревушке Европейского Севера нашей страны Рис. В. Колтунова
Я не могу пообещать в небольшом отрывочном повествовании полной картины зимнего промысла белки и куницы хотя бы в одном таежном уголке нашего Европейского Севера. Для такой картины нужна подходящая рамка, что вместит в себя и удачливых охотников, и талантливых собак. А долгие тропы по густым кислым болотам, тропы, по которым доставляют в охотничью избушку крупу, сухари, сахар, керосин для коптилки, связки капканов, питание для приемника и многое другое, без чего нельзя человеку в зимнем лесу, в одиночестве? А ночные костры из сухих сосен, жарин, сложенных просто и мудро на всю метельную ночь знаменитой таежной нодьей?.. А пурга, слепящая глаза и напрочь забивающая след зверя, когда до куницы осталось совсем немного?.. Ночные звезды, пообещавшие назавтра солнце и тишину, треск мороза по еловым вершинам, пустые выстрелы, неожиданная потеря собаки и нудный голос метели, что третий день закрывает дорогу в лес, отнимая и без того короткие дни зимнего промысла… Нет, я не осмелюсь взять на себя труд и передать в деталях мир человека, с детства променявшего уют зимних вечеров у семейного самовара на остывшую копоть курной печи, что игластым черным инеем холодно осядет к утру на дверь и стены крошечного лесного жилища. Но сейчас мне очень захотелось вспомнить хотя бы отдельные короткие страницы большой книги о промысловой охоте, которая все еще ждет своего сокровенного автора.
Белка и овсяной сноп
Белка ушла от нас в январе. Вслед за санной дорогой она заглянула в светлые сосняки, и вспыхнули тогда над свежим снегом яркие хвостики белки-огневки. Но сосновой шишки оказалось маловато для орды грызунов, и голодные кочевники отправились куда-то дальше. Дедка Афоня потряс вслед неблагодарным гостям связкой только что добытых шкурок и обозвал нашего доморощенного* лешего самыми последними словами за то, что умудрился он, старый черт, задолжать соседней нечистой силе все стадо непоседливого зверька. Старый, подслеповатый охотник узнал еще от своего деда, как надо клясть «лешаев» за неразумные поступки, но сколько помнил напутствования своих предков, столько и убеждался, что никакая, даже самая святая крестная сила не поможет задержать бездомную тварь, успевшую уничтожить всю шишку в нашем лесу. С января по густым ельникам осталась только наша белка. Изредка ее короткий следок встречался около дороги — она больше ходила верхом, стригла елку, собирала смолистые почки, что давало тому же Афоне право утверждать, будто зверек, прописанный у нас, не опускается на землютолько потому, что боится его, Афониных, собак. И правда, с самых крещенских морозов собаки ни разу не подали голоса по белке. Молчали они и летом во время покоса. На покосе собаки забирались от жары в кусты и внимательно поглядывали оттуда, как бы хозяин без них не опорожнил увесистый узелок с обедом, и только изредка, разморенные и ленивые, они поднимались на ноги, чтобы так, для порядка, поворчать на медведя, шастающего по краю острова. К вечеру, переждав жару, собаки отправлялись поразмяться в тайгу, часто находили в ягодниках глухаря и по всем охотничьим законам от души облаивали его. По редким старательным голосам Пальмухи и Корсонушки дедка Афоня подсчитывал, сколько птиц в выводке на Кривоболоте, сколько таких же глухарей у Светлой ламбы, и, провожая своих собак, подавшихся в лес, с тайной надеждой ждал, что вот-вот заговорят они, расскажут о первом вертлявом госте, снова заглянувшем в наши места… Но собаки обрадовали старика только к ржаному снопу. Уже косили рожь, когда дедка вдруг забегал, забеспокоился, приволок из кладовки в избу старый тяжелый патронташ из сыромятины, вобравшей в себя с котел дегтя, И разложил на столе позеленевшие от времени латунные гильзы. Теперь только бы дождаться сентября, дождаться, когда выстоится овес, и если к овсяному снопу белка никуда не уйдет, то быть ей у нас по черной тропе, а к октябрьской, глядишь, и вывесит старик на стене первую сотню добротных шкурок. Ржаной и овсяной сноп были извечным правилом, имевшим силу закона в наших местах. Если белка появляется на ржаной сноп, это еще не все. Они, эти ранние белки, могут уйти и дальше. Могут подразнить, поманить богатой осенью, побегать даже По крышам домов, позлить собак и вдруг исчезнуть К первым морозам. А вот если появится она, побежит по вершинам вдоль скошенного овсяного клина — наша она тогда, останется, осядет на зиму — и все тут! На овсяной сноп белка осталась. Но зажировала не на болоте по соснам, а в высоченном чащобном ельнике. Появилась вроде бы надежда, но тут же и исчезла. Попробуй разгляди в момент среди нечесаных ветвей серый комочек на вековой елке. Попробуй достань его оттуда полузарядным выстрелом, что экономно пощелкивал по низкорослым сосенкам. Ну да леший с ней — есть она, и не будет пустого леса, когда за неделю-другую не услышишь в тайге разговора собачек. Неуютно человеку в пустом лесу. Хоть и немного поснимаешь с елок белки, да все веселее нынче ломать ноги по буреломам за куницей.Чужая тропа
Когда-то Афанасий Тимофеевич был главным по охоте на всю волость. Никому другому не выпадало принести с зимовья столько куницы, никто иной не отваживался уходить в тайгу в одиночку с октября по февраль, и только он умел молча и упрямо заставить лихого заготовителя выложить на край стола все, что причиталось и ему, и соседям за будущие воротники и шапки, идущие первым сортом. Слава и почтительное уважение ходили за суровым охотником. Но однажды старик вдруг сдал… Долго потом на вечерних беседах у самовара перебирал все детали события, долго еще удивлялись, как это мог он, Афанасий Тимофеевич, согласиться и отдать два десятка куниц по второму сорту. Заготовитель наезжал в деревню раза два за зиму, прихлебывая, пил чай и, чтобы не выдать своего удивления качеством и количеством добытого, искоса поглядывал на тугие мешки, принесенные из разных изб в дом Афанасия. Свой товар хозяин дома предъявлял последним. И в этот раз он так же безразлично к деньгам и квитанциям на муку, сахар, боеприпасы велел жене поднести к столу свой узел. Заготовитель, хорошо знавший и великую славу промысловика, и его отменный товар, сбоку пересчитал хвосты и помусолил пальцы, прежде чем взяться за бумажник… Но тут-то и произошло неожиданное. Афоня вдруг поднялся из-за стола, сгорбился по-стариковски и, покашляв махорочным дымком в подол рубахи, несмело выбрал из груды бархатных коричневых мехов штуку с золотистым отливом. Никогда раньше он не дотрагивался до пушнины, ставшей товаром. Это разрешалось лишь мальцам, чтобы еще раз здесь, у стола, посмотреть, как заканчивается мудрый лесной труд. Все сидевшие в избе испуганно замолчали. Да что он, спятил, что ли, выжил из ума — хвалиться собрался, когда и так все обхвалено еще с тех пор, как отец передал безусому сыну единственное в доме ружье — шомпольную винтовку? Нет, Афанасий Тимофеевич не собирался бахвалиться. Он положил на стол выбранную шкурку, медленно ушел за печку и оттуда, будто занятый каким делом, негромко и отрывисто сказал: «Руки тряслись… Три раза палил… По животу дырье решетом». Заготовитель провел ребром ладони по светлому ворсу брюшка, увидел несколько следов от дроби, отложил из приготовленной стопки денег какие-то рубли, снятые за брак, и успокоил старика: «Да будет тебе, отец. Иди-ка распишись». Старик успокоился, вышел, взял в руки перо, внимательно посмотрел на бумагу и крупно и старательно вывел на документе: «Получено сполна за все по второму сорту». Уговорить охотника, что все остальные куньи шкурки отличные, что все хороши, как и раньше, не удалось. Старик, кровью сердца выведя «все по второму сорту», заказал себе дорогу в лес за куницей. С тех пор Афанасий Тимофеевич стал просто дедкой Афоней, перестал растить для себя от Пальмухи щенков, щедро раздавал их каждому старательному соседу и больше никогда не принимал у себя заготовителя пушнины. Теперь он первым, собрав связки беличьих шкурок, одну-другую штуку выдры или хоря, шел в чужую избу, где вот-вот должен был начаться малый пушной аукцион. Но по-прежнему старик никогда не торопился к столу, дожидался, когда соберут у всех, ощупывал привычными глазами ворс и мездру, ревностно следил, чтобы кто-нибудь не подсунул человеку решета или худобы, взятой не в срок, вместо пушнины, и лишь потом гордо, но и немного смущенно вытаскивал из мешка связки серых и огненных белок.
С того случая Афоня не ходил на зиму в лес один. Еще с лета он набивался в напарники к кому-нибудь из мужиков, а если его соглашались взять, радовался, как дитя, и уговаривал напарника пойти на зимовье именно в его избушку, на его тропы. Личные владения в тайге навсегда остались за старым охотником — на них никто не посягал, сам Афоня никому не предлагал их — и вечный строгий закон, закон чужой охотничьей тропы, продолжал жить в нашей тайге. В свою избушку Афоня заглядывал только летом, после покоса. Он забирал в лес и Пальмуху, и Корсонушку, с вечера бережно укладывал котомку, а утром еще затемно уходил туда, где прошла его жизнь. Что делал старик на берегу озера: ловил ли рыбу, подправлял ли печь или чинил крышу, этого никто не знал. С каждым годом ноги становились тяжелее, дорога в избушку затягивалась, и дедка порой пропускал и второе лето. Когда ноги совсем подводили, Афоня оставался на зиму у деревни и лишь по черной тропе немного попугивал белку в сосняках да невысоких ельниках. Иногда о старике охотники вспоминали сами, приходили с уговорами, звали на зимовье, куда все уже занесено. Дедка долго ворчал, что опять его обошли, не оставили волочить по тропе сухари и пшено, но всегда быстро собирался и наотрез отказывался от любого дележа добычи. На зимовье он оставался в избушке, колол дрова, топил печь, варил вкусный кулеш и весело балагурил, вспоминая разные истории. Он окрашивал, обряжал жизнь напарника, был необходим и незаметен, а оставшись один под низенькой крышей, наверное, долго дышал знакомыми запахами еловых чураков, пряного сена на нарах и чуть сыроватым душком подсохшей мездры. И только однажды старик изменил своему зароку — не ходить за куницей… В чужую избушку Афоня исправно брал ружье и собак. Ружье порой весь сезон оставалось в углу, а собаки разве изредка покидали своего хозяина, чтобы с часок покружить по осиннику за зайцем. Но однажды дедка исчез, прихватив и ружье, и собак. В тот вечер напарника, как обычно, ждали в избушке суп из сухой рыбы и кулеш, на камеленке дымился котелок густого чая, но старика и след простыл. Его не было день, другой, третий, и лишь на пятые сутки Афоня появился у лесного жилища и молча выложил на нары четырех куниц. Куницы были добыты чисто, сняты и выправлены умелой рукой, Откуда они? Где добыты? Старик молчал, Не подавали голоса и собаки. Они только жались к печи и осторожно тянули носы к сухарям после пяти голодных ночевок у лесного костра. Тайна неожиданного похода открылась только к весне, когда охотники собрались в деревне и дождались заготовителя. В избу нанесли мешки с пушниной, все расселись по лавкам в стороне от стола, все, кроме Мишки Анюткина. Мишка тоже был в лесу, но скоро вернулся и, видимо, ничего не принес… Почему ушел, не дождавшись своей удачи, почему потерял зиму?., Завистливые языки плели еще с осени, что Мишка накупил полно клепей (капканов) и собирается теперь поохотиться всерьез перед скорой свадьбой. Но жених пробыл в лесу всего пару недель, Он вернулся домой злым и в сердцах швырнул за огород мешок с капканами. Мешок подобрала мать, зная, какого труда стоит охота с ними. Ловушки выставляются не один день. Еще с осени устраивают лоточек для капкана из двух еловых веток, сверху и внизу на метр счищают остальные ветки, чтобы куница не подошла к приманке сбоку, а обязательно ступила на лоточек. Потом добывают приманку. Как выпадет снег, капканы настораживают и обязательно обходят и в пургу, и в мороз, когда другие охотники, промышляющие с собаками, мирно отсиживаются по зимовьям. Капканы в тайгу Мишка унес еще в сентябре, и почти тут же по деревне пополз слух, будто Анюткин сын выставил клепи в чужом месте, а свое хозяйство оставил для охоты с собакой. Такие дела отдавали неуемной жадностью, совершившего их человека предавали всеобщему презрению. В ту осень Афоня особенно беспокоился, пораньше втащил в избу свой патронташ, вычистил ружье и долго забивал по вечерам заряды черного пороха в гильзы. Белки пока еще не было, и волнения старика казались пустыми. Старуха ворчала, отговаривала от леса, просила отступиться и не идти с больными ногами, Но Афоня подъезжал к охотникам и настойчиво предлагал себя в напарники. Наконец дедка ушел в тайгу, а вскоре исчез из охотничьей избушки, вернулся с добытыми куницами, а когда прибыл заготовитель и стал принимать у Мишкиного соседа по охоте небогатую на этот раз добычу, Афоня подошел к столу и выложил четыре искрящиеся шкурки. Все стало неожиданно ясным. Сердце старика не могло стерпеть, что в наш лес пришли жадность и обман. Дедка дождался, когда куница вышла, стала подходящим товаром, отправился к Мишкиным капканам и за пяток дней ловко и быстро выбил всех куниц, которых шкодливый охотник собирался отловить в чужих владениях. Мишка остался ни с чем, с горя собрал капканы, не дождался охоты у своего зимовья, ушел, а обиженный было человек получил из Афониных рук то, что полагалось добыть честным трудом.
Пустые ведра, выстрел полена и кот Рубль
У каждого охотника нашей деревушки есть свои тайны. Порой этих тайн набирается много, одни принадлежат всем, другие — сугубо личные, Но без этих скрытых или общедоступных секретов, наверное, еще никогда не происходило необычное таинство, которое мы называем охотой. Пожалуй, выбирать из добытого зверька помятую, уже поработавшую дробинку придумали еще старики, Они бережно хранили эту малую щепоть кривобоких свинцовых шариков до новой охоты, сосредоточенно делили ее на равные части и осторожно добавляли один-два старых катушка в каждый новый заряд. Наверное, этот обычай родился еще в те времена, когда заряд был редкой и дорогой принадлежностью охотника, когда сегодняшние расточительные двустволки казенного заряда только-только набирались опыта в руках богатого стрелка, а вместо них редко, но метко попыхивали по тайге кремневые шомполки. Дробь, собранная из добытого зверька, была тогда прежде всего подспорьем, еще одним зарядом, к тому же дармовым. Сейчас костяные рожки для пороха, что отмеряли толику заряда через дульный срез шомполки, и аккуратные холщовые мешочки для дорогой дроби забылись, но обычай хранить выковыренные из тушки свинцовые горошинки остался. Мы так же раскладываем их по гильзам, добавляем к полновесному заряду дроби, а может быть, еще и верим в глубине души, что эта верная дробина обязательно принесет счастье. Вместе со счастливой дробиной по привычке хранится и таинство снаряжения гильзы. Разве только пустой человек да случайный стрелок примется среди домашней сутолоки, возни готовить заряды. У таких людей и разрываются ружья, раздуваются гильзы и нередко случаются те самые опрометчивые осечки, что в некоторых местах создали славу сельскому охотнику как человеку неаккуратному и небрежному. Нет, снаряжать патроны положено в тишине, покое… С полки достается ящик, запертый даже для жены, негромко поцокивают друг о друга латунные гильзы, и, глухо ворча, пересыпается в мешочке дробь. Потом тяжелые от заряда гильзы выстраиваются в патронташе, их заворачивают опять в масляную тряпицу, берегут до следующего раза капсюли центрального боя, перевязывают тугой тесемкой оставшуюся дробь, и ящик опять возвращается на свое старое место. И кто посторонний видит, кто знает, какой заряд пороха, сколько дроби пришлось на один выстрел? Прославлять себя, хвалиться, что отыскал зверя не хуже, чем любая собака, не принято в наших местах. Вот и приходится порой объяснять свой успех то тайнами заряда, то безотказным ружьем. Тайны заряда? Да какие там тайны — старательное снаряжение патронов в угомонившейся избе. А вот безотказное ружье — это, пожалуй, уже что-то от искусства… Вряд ли кто-нибудь из наших охотников, приобретая ружье, прикидывал, удобно ли ложе, не косой ли срез ствола, — ружье доставляется Посылторгом, подбирается где-то на базе посторонним человеком, и первая оценка будущего оружия делается по стоимости двустволки. А потом, когда долгожданная посылка придет в деревню, начинается «обучение» ружья. «Обучить» ружье, пожалуй, сложнее, чем собаку. Собака обычно сама наталкивается на дичь еще малолетним щенком. — ведь без собак нет у нас дороги ни на озеро за рыбой, ни на пожни за сеном, ни к стаду на выпас. Тут проявляется та сила породы, которая перешла к щенку от матери и отца. С каждым разом кутенок все шире рыщет по тайге, все громче подает голос — и, глядишь, к снегу вдруг да увяжется по-настоящему за куницей. А если ходит щенок в лес с матерью, будьте спокойны — новый помощник вам готов. Так и ведется у нас — учат собаки друг друга, а от хозяина, приходят к Шарику или Зиме лишь забота, пища да строгое требование: понимать охотника- с полуслова. И не нужны для такой собаки ни удлиненные поводки, ни прочие премудрости дипломированного дрессировщика. Но вот для «обучения» ружья кое-какой арсенал необходим. Приобретенное ружье перво-наперво выносят стрелять за огороды. Стреляют из него старым, проверенным на прежнем оружии зарядом. Шагов с пятидесяти дробь третьего номера должна разнести в щепки спичечный коробок. Если первая наука усвоена хорошо, то наступает очередь проверки на пулю. К пятидесяти шагам прибавляется еще пятьдесят, а на двери старого амбара рядом с полинявшими пробитыми мишенями выводится углем еще один черный кружок величиной с донышко стакана. Пуля, приготовленная на лося или медведя, должна пробить кружок с первой попытки. Возможно, теория стрельбы из гладкоствольного оружия, а вместе с ней и родившая баллистику теория вероятностей возмутятся варварским обращением с академическими законами: как же так, разве можно по одному-двум выстрелам оценить эффект поражения цели? Для этого необходима длительная пристрелка на специальном стенде зарядами разных навесов. Но что делать, если не может допустить промысловик пустого выстрела. Такой выстрел может стать и позором, и последней неудачной попыткой победить в схватке с медведем, «пошедшим наверх», то есть бросившимся на человека. Пустой выстрел можно простить дрогнувшей руке, моргнувшему глазу, худому заряду, сырому пороху, лежалому капсюлю, но только не ружью. Ружье обязано стрелять, и если оно плохо показало себя в испытании со спичечным коробком и угольным кружком, то на помощь приходят обычная русская печь, а следом за ней и бархатный напильник. На печи новые стволы могут лежать долго, и старик — лекарь оружия, который, конечно, не знает ни технологии металлов, ни хитростей металлургических процессов, просто верит, что тепло «подлечит» ружье, как верит, что нет лучшего лекарства от простуд, усталости и других напастей, чем жаркая русская баня. Если печь плохо помогает, порой вмешивается и напильник. Им осторожно проходятся несколько раз по срезам стволов и нередко доводят оружие «до ума». В таком «лечении» ружья нет никакого шарлатанства. Косые срезы ствола портят выстрел, разносят дробь, и напильник умело исправляет заводские недоделки. А русская печь? Длительное ровное тепло, наверное, все-таки помогает снять кое-какие внутренние напряжения в металле, оставшиеся после тяжкого труда над стволами станков и инструмента, помогает стали обрести «лучшую форму»… Но об этом проще спросить мастеров-оружейников, ведь дедка Афоня никогда не рассматривал под микроскопом структуру оружейной стали. Начальное «обучение» ружья закончилось. Теперь ему положено приняться за работу, немного погреметь над еловыми вершинами, помокнуть на сырых болотах, померзнуть в холодном коридоре избы, набраться опыта, немного повзрослеть, а то и постареть — и только тогда уже неприглядные с виду стволы станут тем безотказным оружием, которое и дарует заслуженную славу охотнику, несмотря на пустые ведра и другие приметы. Ох, как не хочется встретить на пути в лес пустые ведра да еще в руках человека, знакомого с дурной славой. Может, поэтому и уходим мы в лес еще с ночи, в темноте, не оповещая никого из соседей о скорой дороге в тайгу. А там, у небольшой печи, сложенной из угластых камней, перед каждой новой тропой за зверем как хочется дождаться, чтобы еловое полено вдруг выстрелило в избушку громким горящим углем. Вслед за выстрелом полена пообещать удачную охоту может кружка, твоя кружка, обязательно оставленная на столе перед уходом в тайгу с хорошим глотком недопитого чая. Такая кружка, не опростанный от ухи котелок, ложка рядом с куском хлеба или сухаря будут ждать, звать к себе доброй памятью о тепле и уюте лесного жилища, и, очень может быть, такая память заставит собрать последние силы и хоть и ночью добрести до избушки через пургу и завывания зимнего леса. Кроме общеизвестных тайн и секретов каждый охотник уносит с собой на долгое зимовье и что-то свое личное. Мне нравится брать в избушку очень старый, сточенный нож-складник. Нож давно надо оставить дома на притолоке в избе, давно сменить на другой, что пока полеживает в заветном ящике рядом с дробью и капсюлями, но я просто не могу не видеть в руках потемневшую пластмассовую рукоять, тонкое, видевшее много брусков лезвие того самого ножа, с которым первый раз ушел в лес за белкой. Старый нож, лезвие которого может невзначай сложиться и поранить руку, — это еще полбеды. Хуже, когда приходится тащить с собой в тайгу всклокоченного вороватого кота. Кот достался Ваське Спицину по случаю. Не было во всей деревне более пакостной скотины. Прежний хозяин наконец изловил своего мучителя, завернул в мешковину и нанял соседских ребят за рубль отнести зверюгу подальше в лес. И надо же было такому случиться — дорога мальцов прошла как раз мимо Васькиного дома. Сердобольный владелец двух котов, трех кошек и вечной армии подрастающих котят и щенят перехватил мальчишек, заплатил им еще один рубль, велел никому ничего не рассказывать и, конечно, забрал «несчастное» животное себе.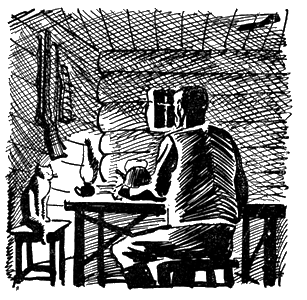
Все Васькины коты и кошки преотлично уживались со сворой доморощенных собак. Но наглое животное, которому добрый человек вернул за полновесный рубль прежнюю разбойную карьеру, признавать покладистых псов отказалось. В доме закипели страсти. Собаки пытались застать ворюгу на месте неприглядного промысла и примерно наказать, а кот, получивший вполне материальную кличку Рубль, каждодневно доказывал, что его прежний владелец, человек удивительно жадный, не зря раскошелился. Наказывать кота было пустым делом — он не признавал ни словесных запретов, ни длительных заключений в пустом сарае. Невозможно было и расстаться с ним, а после того, как денежные знаки изменили свою стоимость, и Рубль соответственно подорожал, Василий, видимо, был вынужден смириться с вредным характером кота и отступиться от несговорчивой твари. Но вот беда — кот сам не желал отступаться. Почувствовав слабину хозяина, Рубль надумал следовать за Васькой по пятам, и, когда настало время идти на зимовье, кот опередил охотника на тропе и, поуркивая на собак, доплелся до избушки. Относить кота домой не было времени, и он остался на все время промысла. Рубль все так же задирал собак, отгонял их от мисок и исправно исследовал все, что могло представлять хоть малую ценность для охотника. Добрался Рубль и до выправленных шкурок, и Василию во избежание искушения отнести кота в тайгу и оставить там кому-либо на съедение пришлось отложить охоту, взять в руки топор и прирубить к избушке чулан для пушнины. С тех пор каждый год и отправляется кот вместе с охотником на зимовье. Отправляется так же исправно, как мой старый нож, и, пожалуй, без этого Рубля Василий не представляет себе вечернего чая, метельных ночей и всего того таежного таинства, которое мы коротко называем охотой и которое, как и положено всякому любимому делу, обставляется у нас своими загадками, секретами, правилами и привязанностями…
Зима, Вьюга, Пальмуха и Корсонушка
Без собак нет и не может быть настоящей охоты. Правда, есть самоловные способы добычи и белки, и куницы, есть и клепи, и плашки, и жердки на рябчика, но как пойти одному по тропе, кто выручит тебя при встрече с опасным зверем, кто поговорит с тобой умными глазами у вечернего огня. А у кого еще есть такие мягкие, податливые уши, которые потрогаешь иногда рукой, и будто что-то растеплит, отогреет таежное жилье… Нет, без собаки в тайге нельзя. И наверное, поэтому снуют, вертятся под ногами, развалившись в тени, спят, сонно побрехивают на прохожего у каждой деревенской избы Добики, Дозоры, Шарики, Вьюги и Дамки. Эти собачьи имена живут вечно в каждой деревушке. Порой Шариков и Тобиков набирается так много, что непосвященному трудно понять, об одной или нескольких собаках идет речь. Но сами «однофамильцы» не путают друг друга и вряд ли подойдут к чужому человеку на вроде бы знакомый призыв: «Шарико-то! Иди! Что даваю!» Дозоры и Моряки появились попозже — эти имена при» несли с собой в деревню бывшие пограничники и флотские. Следом за современными именами появились и ультрановые, и теперь нередко слышишь, как будущий охотник призывает к себе будущего помощника: «Мухтар! Ко мне!» А вот Зима, Вьюга, Метель, Пурга — это совсем наше, рожденное здесь вместе с Бураном и Морозной. А попробуйте поищите вокруг Лето, Весну или хотя бы Осень — не берут у нас в руки ружье ни весной, ни летом, ни даже осенью — вот и достались собакам только зимние имена. Говорят, раньше собаки звались по старинке. И может быть, в память о прежних удачных тропах и нарек дедка Афоня своего последнего кобеля давнишним именем — Корсонушка. Корсонушка и Пальмуха — особенные собаки. Они вставали на ноги уже тогда, когда старик забывал ходкие тропы за куницей, когда медведь и лось на каждом шагу были для Афанасия Тимофеевича больше воспоминаниями, а сам великий охотник постепенно оборачивался добрым сказочником и неугомонным составителем невероятных таежных историй. Я боюсь категорически утверждать, что собаки и их владельцы сходятся подчас характерами до такой степени, что представляются чем-то единым, но многие примеры замечательных совпадений все-таки позволяют сравнивать ум, ласку, незаурядные способности Пальмухи и Корсонушки и даже их необычную для зверовых собак обидчивость с доброй благожелательностью талантливого человека, родившегося, выросшего и состарившегося в тихом и мудром лесу. Дом дедки Афони стоял на горе и был в прошлом верхней, главной, избой в деревне. Около крыльца вечно возлежали в гордой и независимой позе сытые, довольные жизнью остроухие псы. Они строгими взглядами провожали каждого прохожего, но почти никогда не поддерживали сварливый брех соседских собак. Все говорило о крепком и уверенном в себе человеке, занимавшем эту не слишком богатую, но достаточно видную и независимую избу. А вот с тех пор как оставил старик прежнее ремесло и лишь изредка тешился белкой около деревни, изба опустела. Афоня постепенно перебрался в небольшой, неприметный домик, прирубленный к избе со двора и остался там доживать век, добро и немного грустновато поглядывая из крошечного окошка на далекий теперь лес. Вместе с хозяином перебрались и собаки. Они будто тоже сразу постарели, поникли, потеряли былое положение в деревне и мирно полеживали у низкого порога. Оставлять и держать без дела ходких за любым зверем псов старый охотник не собирался. Уже на следующую осень он свел их в лес вместе с соседом, как мог, объяснил Паль-мухе и Корсонушке, что нужно привыкать к новому хозяину. Собаки что-то поняли и первый раз в жизни ушли от своего дома с чужим человеком. В лесу они, как и прежде, умно и споро работали по черной тропе, пошли и по снегу, но однажды сами вернулись из леса и отказались покинуть своего настоящего хозяина. Уходить из леса собаке не полагается — это предательство. Предательство строго наказывалось, но в тот раз дедка Афоня даже не сердился на своих псов. Вечером у самовара сосед подробно рассказал о происшедшем… Белка скатилась с еловой лапы и упала на снег. Ее оставалось только освежевать, убрать сырой мех в холщовую тряпицу, а тушку приберечь для капкана, настороженного на куницу. Но Корсонушка опередил охотника… Пальмуха была постарше, да она и со щенячьего возраста не позволяла себе мять добытого зверька. В крайнем случае понятливая собака легко прихватывала белку или куницу зубами и приносила хозяину совершенно чистую, не запачканную собачьей слюной тушку. Корсонушка в ранние годы порой баловался с добычей, ударял белку клыком, иногда слюнявил и мял, но очень скоро усвоил, что можно, а Чего нельзя, и взял за правило мгновенно останавливать раненого зверька и, не донося до ног охотника, укладывать его на снег. Когда кобель горячился и Пальмухе казалось, что ее великовозрастный сын не слишком деликатно обращается с добычей, она коротким рыком предотвращала неблаговидный поступок. Так и охотились вместе две собаки. Наверное, и в этот раз Пальмуха сама бы остановила Корсонушку. Но человек поторопился и громко прикрикнул на кобеля. Пес отошел в сторону, поджал хвост, виновато посмотрел на мать и недовольно покосился на обидчика. В этот день собаки честно ходили по лесу, но уже не так вязко держались за белкой и не так часто звенел над тайгой чистый уверенный лай. На другое утро псов будто подменили, Они все-таки пошли в лес, но отказались работать. До обеда не было добыто ни одного зверька, а, когда охотник поднялся с колоды, чтобы поделиться с Пальмухой и Корсонушкой остатками пищи, собак уже нигде не было…
За самоваром сосед извинялся, вновь и вновь перебирал подробности неудачной охоты, а дедка молчал, тяжело и обидчиво попыхивая махоркой. Когда сосед ушел, Афоня позвал собак в дом. Пальмуха доверчиво прижалась мордой к валеному сапогу, а Корсонушка лег с другой стороны и мирно положил голову на устало вытянутые лапы. Афоня выгреб из банки горсть крупных сахарных осколков, положил по снежной кучке перед каждой собакой, погладил своих приятелей и тихо, будто извиняясь перед ними за вчерашнее происшествие, добавил: «Нако-то, кушай, кушай, милые…» Корсонушка осторожно, деликатно, краешком языка подбирал с чистых половиц сладкие кусочки полоска за полоской. А Пальмуха еще долго смотрела в глаза человеку, будто все еще что-то объясняла старику, будто оправдывала и себя, и своего сына. На ночь собаки остались в избе. Это было нарушением лесного правила, лесного закона, который запрещает псам ночевать в доме. Но у старика были свои уставы — он умел видеть в собаках не только охотничьих псов. Пальмуха и Корсонушка с тех пор ни с кем уже не уходили в лес. Они незаметно и верно ждали своего хозяина у дверей магазина, за воротами почты, довольствовались только редкими небогатыми охотами, но зато каждый вечер могли подолгу лежать в избе у ног хозяина и говорить, говорить ему своими глубокими глазами обо всем, что не успели сказать раньше на торопливых охотничьих тропах. Может быть, эти собаки были по-своему благодарны дедке за его новую жизнь, за его мягкие, добрые руки на их ушах и за долгие теплые вечера, которые теперь они проводили вместе.
Сети и сказки
Счет дням в избушке обычно ведется по зарубкам на краю стола, на доске у печи или на батожке, которым ворошишь угли. Зарубки делаются каждый вечер после ужина, чая и недолгого разговора с собаками или напарником, если таковой живет под одной крышей. С напарником зимовать веселее, проще, тогда кто-то из двоих обязательно вспомнит об очередной щербинке на батожке, и ни один день не пропадет. А когда один, когда еле добредешь домой, не раздеваясь, не скинув шапки, прихлебнешь из остывшего котелка ухи, подашь собакам по куску и свалишься на постель, даже как следует не покурив, тогда, случается, и забудешь о немудреном лесном календаре. А потом, на другой вечер попробуй вспомни, оставил ли на краю стола зарубку о вчерашнем дне. Легче не потерять счет дням, забрав с собой на зимовье нитки для сетей. Каждый день проходишь челноком по паре рядов, последний ряд всегда виден, и, когда довяжешь конечный шестидесятый, считай — месяц пролетел. Можно начинать новую сеть, новые ряды и ожидать окончания еще одного месяца. Редко кто не приносит из лесу пару новых сетей. Правда, и тут не каждый день берешься за полку и челнок — и здесь можно ошибиться в календаре, но полка, челнок и тонкая нить помогают не зря пересидеть, переждать метель, не так часто вспоминать обратную дорогу и неудачные дни. Когда под крышей избушки собираются двое, то сети помогают и вечернему разговору — они будто сводят вместе истории двух людей, и вяжут их друг за другом в неторопливый, немногословный рассказ. Мы верим своим рассказам, верим хотя бы потому, что все они родились здесь, на тропах, и ни одна история не принесена в избушку посторонними. А если и случается услышать больно уж необычное — тоже верим, кто знает, может, завтрашнее утро приготовило тебе историю поудивительнее. А посторонний человек? Как он — верит или не верит?.. Да какое наше дело, ведь не каждому привелось добрый час носиться по озеру за огромной щукой, схватившей блесну, и все-таки расстаться и с заветной блесной, и с рыбиной, а потом вдруг снова случайно подцепить пудовое страшилище и найти в ее пасти потерянную было снасть. Не каждому выпадет неделю ходить впустую за куницей, злым вернуться домой и вдруг встретить того же самого зверька на крыше своей избушки. А кто так уж часто видел свой капкан закрытым, не находил приманки и все шел и шел по кругу от одной захлопнутой к лепи к другой и даже начинал верить, что так нагло мог подшутить только сам леший… Капканы приходилось снова настораживать, снова добывать приманку, снова терять дни. И снова вдруг исчезнут беличьи тушки, и пропадет долгая старательная работа. Ты уже догадываешься, кто балует в лесу, но метель мешает пока обнаружить рядом с клепью-косолапый след росомахи. Да, всякое может случиться в тайге… Да и в каждом другом деле вдруг да выйдет какая-нибудь история. А уж если покажется она больно занятной да перескажут ее другие раз-другой, глядишь, и вернулась она к тебе чуть-чуть переделанной. Вот поэтому и не слушаешь постороннего рассказчика, зная, что не о себе, а о другом человеке завел он сказку. Мне привелось по многу раз слушать каждую повесть дедки Афони. Слушаешь всегда внимательно, ждешь новую историю и лишь потому, что не утащил у другого Афоня свой рассказ — да и зачем ему ходить за чужой бывальщиной, когда лет пятьдесят отхожено у старика по тайге. Может, и не помнит он сейчас точно, сколько журавлей померзло тогда в лютую осень на полях, но было так: откуда-то рухнул мороз еще в октябре до покрова дня, за ночь вымостил льдом даже великие озера и погубил не одну стаю птиц. Собирал ли Афанасий Тимофеевич померзших птиц, брал ли с них мясо, перо — и это не важно. Важно, что в коротком рассказе до сих пор живет «такая Хлопонина», что на «осьмой версте от поля» встал дедкин конь… «Морозко-то пал сверху, да и на птиц. А те вроде как не поймут ничего. Стоят по полям, ногами по лужам перебирают от холода, а никуда не летят, будто гадают: уйдет морозко, повоюет и уйдет. А тот — на тебе — остался. Лужи-то смесились в лед, а ихние лапы и пооставались на месте. Еду на коне, слышу, будто кто ревет по-за полем. Я к тому месту, ружья-то не было, да, думаю, что выйдет, так обойдусь: ножичек-то при себе держал. Гоню коня, а конь и встань себе на осьмой версте от поля — боится, ушами попрядывает и не идет. А Хлопонина стоит по полю такая, что ни земли, ни леса за ней не видать. А улететь-то им теперича и некуда— примерзли лапами. Так все и поледенели. Много их тогда навалило по полю. Будь по тем временам трактор, так не одни тракторные сани вывез бы птиц-то этих. А то что — конь один, да и тот под седлом». Если вспомнить сейчас дедкин голос, его прищуренные глаза с хитринкой в каждом углу, самокрутку, торчащую красным угольком из усов и бороды, вернуть словам все восклицания и оханья, без которых не бывает Афониных рассказов, снова окажешься около коптилки, рядом с крошечным окном в притихшую на ночь тайгу, увидишь медленные языки спокойного пламени над сухой чуркой, и снова захочется почему-то услышать все-все и о «Хлопонине», и о «лужах, смешанных в лед», и, конечно, о «тракторных санях», которых в те времена — увы! — еще не было. А щука, схватившая за край одежонки?.. Есть у дедки знаменитый пиджак. Честно говоря, от первоначальной материи на этом пиджаке давно ничего не осталось — заплата закрыла другую заплату, вырванный медведем рукав заменен новым, но пиджак есть, дедка ни за какие деньги не расстанется с ним в лесу, и эта походная одежда старика хорошо помнит и когти медведя, что пошел на охотника, и лося, который хватил зубами за плечо, и, конечно, страшенную щуку, опрометчиво бросившуюся к лодке и вцепившуюся в полу одежды. Здесь надо пояснить, что лодки в наших местах небольшие и низко сидят в воде, так что распахнутому пиджаку или ватнику ничего не стоит окунуться краем в озеро и долго и незаметно для гребца полоскаться рядом с тонким осиновым бортом долбленой посудинки. А еще следует заметить, что даже сейчас есть по тайге такие озера, где щука нет-нет да схватит сгоряча чуть ли не кусок палки, брошенный в воду. В тот раз щука тоже недолго раздумывала. Она бросилась к лодке и схватила старика за свесившийся в воду угол форменной одежды. Может, все на этом и окончилось бы, но вот беда — увязла рыбина зубами в крепкой материи, да и дедка оказался строптивым. Старик рассказывает сейчас, как щука вытянула его из лодки, как порешил он не расставаться с неожиданной добычей даже в воде… Кто был свидетелем этой встречи?… Вся деревня основательно утверждает: пошел Афоня летом к озеру проведать лодку, не взял ни ружья, ни удочек, ни дорожек, а вернулся с той самой страшенной щукой, о которой сейчас рассказ. Рыбина действительно была огромной — дедка еле тянул ее за собой, перевесив страшило через плечо. Вот и вся история. Ну а медведь, к которому старик наведался в гости в берлогу?.. Здесь за все уже может поручиться и автор настоящего повествования. Надо же было случиться: старик решил срубить сосну над самым медведем и сослепу угодил лыжей в берлогу. Медведь выскочил, очумел от неожиданности, взревел, но успел только обломить у непрошеного гостя лыжину. Ружье старик еще не отложил в сторону, чтобы приняться за топор, и выстрел верной централки прозвучал в самое время. Афоня притащился из леса чуть живой и, еще не веря в добрый исход, тихо попросил соседа сходить к бригадиру за лошадью. В лес катили всей деревней, отыскали по следам развороченную берлогу, всё осмотрели, проверили, привезли на санях медведя и обломок Афониной лыжи и сами за дедку составили таежную «сказку». Старику коллективное творчество понравилось, он жива подправил шероховатость повествования, переставил до-своему кое-какие слова, уточнил детали, снял излишние восклицания и, конечно, добавил к истории тот самый пиджак, которого чуть было не лишился вместе с головой. И теперь, заглянув к кому-нибудь в гости, он каждый раз вспоминал сломанную лыжу, что все еще хранится в чулане, и квартиру медведя под вывороченным корнем. Сейчас дедка молчит, он давно уже не вяжет сетей, давно окончил сегодняшним вечером пересказ всех своих историй и, наверное, просто вспоминает те дни, когда так же, как сегодня его напарник, гонял по полке ячею за ячеей, гонял быстро и ровно, хоть с закрытыми глазами. До конца второй сетки мне осталось всего два десятка рядов — десяток вечеров, и можно будет собираться домой. Мы с дедкой обязательно дождемся тихого дня, с вечера высмотрим на небе все звезды, погадаем о завтрашней погоде и только тогда тронемся в обратный путь. Наверное, Пальмухе уж очень хочется домой. Она чутко настораживает уши и поглядывает на старика добрыми глазами… Мы скоро пойдем, Пальмуха, заберем с собой и Корсонушку, и моего шального Буяна. Я не обманываю тебя, замечательная собака, я просто хочу поблагодарить тебя за то, что принесла ко мне на зимовье вместе с дедкой мир, уют, теплые вечера и замечательные лесные истории.Об авторе Онегов (Агальцов) Анатолий Сергеевич. Родился в 1934 году в Москве. Окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе и два курса биолого-почвенного факультета МГУ. С 1965 года стал заниматься природоведением и литературным трудом. Много ездил по Северу, особенно в Прионежье, изучает повадки и психологию диких зверей. Член группкома литераторов при издательстве «Советский писатель». С 1966 года начал публиковаться в периодической печати. Его очерки и статьи напечатаны в журналах «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Знание — сила», «Юный натуралист», в ежегоднике «Земля и люди», «Лесной газете», выступает по Всесоюзному радио в передачах «Лицом к лицу с природой». В нашем сборнике публикуется впервые. В настоящее время работает над книгой о своих путешествиях по Онежскому краю.
Борис Сенькин
КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ «ТИТАНИКА»

Очерк Рис. Г. Чижевского
В конце 1969 года в английских газетах промелькнуло сообщение, возвратившее внимание публики к трагическому событию давно минувших дней. В одной из заметок говорилось: «Раз в месяц в небольшой комнате, что как раз над рыбным магазином в Харлсдене (Западный Лондон), собираются десять человек. Они обсуждают проект, который, как они надеются, сделает их миллионерами. Эти люди поставили перед собой задачу поднять со дна Атлантического океана лайнер «Титаник», затонувший у острова Ньюфаундленд в 1912 году. Возглавляет ««Титаник» сэлвидж компани» («Компанию по подъему «Титаника»») тридцатитрехлетний Дуглас Вулли. По его плану «Титаник» будет отбуксирован в Ливерпуль и превращен в музей. Перед этим из трюмов корабля будут извлечены драгоценности и золото, исчисляющиеся, по слухам, миллионами фунтов стерлингов. Вулли не специалист по подъему затонувших судов и вообще не моряк. Он красильщик с чулочной фабрики в Болдоке. Все свободное время и все сбережения Булли в течение 17 лет отдает своей мечте о подъеме «Титаника»… Между прочим, ««Титаник» сэлвидж компани» попыталась заручиться поддержкой английского правительства, но получила из канцелярии премьер-министра вежливое извещение о том, что правительство придерживается правила не сдавать в аренду и не продавать подводные лодки, в том числе и вышедшие из употребления…» Примерно в это же время обширная литература о «Титанике» пополнилась еще одним исследованием, содержащим небезынтересные подробности о первом — и последнем — плавании этого грандиозного для своего времени корабля, — книгой Джоффри Маркуса «Первый рейс», Советские читатели могли почерпнуть много дотоле не известных им сведений о катастрофе «Титаника» и работе экспедиции по его подъему из опубликованных в апрельском номере журнала «Техника — молодежи» (1970 год) материалов Л. Скрягина и инженер-контр-адмирала М. Рудницкого.
Вернемся на 59 лет назад, в английский порт Саутгемптон — океанские ворота Британии. Над портовыми сооружениями и судами, прижавшимися к причалам, вздымалась стальная туша нового четырехтрубного лайнера. «Титаник» готовился выйти в рейс к берегам Северной Америки. Был четверг 11 апреля 1912 года. Загипнотизированные размерами корабля пассажиры бродили по палубам и бесконечно длинным коридорам; поминутно заглядывали в путеводители, без которых невозможно было бы сориентироваться в хозяйстве «Титаника»; спускались по парадной лестнице в блещущий великолепием ресторан; охали, заглядывая в апартаменты, которые были по карману только миллионерам. Среди пассажиров прохаживался о видом хозяина, гордого своим домом, Брюс Немец — президент пароходной компании «Уайт стар», владелицы «Титаника», Это был его день. В дальнее путешествие отходил корабль-дворец, какого еще не видывали люди. «Титаник» по тем временам и впрямь казался, чудом инженерного искусства. На воду он был спущен 11 мая 1911 года. Его водоизмещение составляло 66 тысяч тонн, длина — 269 метров, ширина — 28,2 метра, осадка — 10,54 метра. Судно имело 11 палуб. Высота от киля до верха первой трубы составляла 53,5 метра. Руль весил 100 тонн, якорь — 15 тонн. Машинная установка могла развить мощность в 55 тысяч лошадиных сил. Проектная максимальная скорость «Титаника» составляла 25 узлов. Компания «Уайт стар» создала своему лайнеру широкую рекламу, объявив его «непотопляемым»:«Титаник» имел 16 поперечных переборок. Долгожданный день настал. «Титаник» должен был доказать, что он самый комфортабельный, самый быстроходный океанский лайнер, способный показать лучшее время на трансатлантической линии. Но погоня за рекордом, который поднял бы престиж и конкурентоспособность компании, оказалась роковой для «Титаника». «Реклама быстроходных лайнеров заверяла пассажиров, что, покинув Нью-Йорк в понедельник, они смогут пообедать в субботу в Лондоне, — пишет упомянутый выше Дж. Маркус. — И это слово редко когда нарушалось. Мало кто из капитанов решался сбавить скорость даже в условиях плохой видимости и непогоды. Неписаное правило пароходных компаний гласило: «Поторопись или распрощайся с работой!» Ценой жизни рыбаков — жертв столкновений, которых никто не подсчитывал, компании добились сокращения времени на трансатлантические рейсы. Судоводители упускали из виду важный фактор: по мере того как корабли становились крупнее и быстроходнее, росла и опасность столкновений. Им же казалось, что они и впредь могут рисковать безнаказанно».
Предвкушение триумфа
Но вернемся на борт «Титаника», вышедшего в открытое море. Глубоко внизу, в огнедышащем чреве лайнера, потные кочегары, не разгибая спины, несли свою тяжелую вахту. А в салонах уже вели неспешные беседы о политике и всякой всячине люди высшего общества. Их личные слуги тем временем распаковывали баулы и чемоданы, раскладывали вещи по просторным каютам. Наиболее именитых гостей развлекал у себя капитан «Титаника» Эдвард Смит — один из опытнейших судоводителей Англии, прослуживший в компании «Уайт стар» 38 лет. Его помощниками также были люди, отлично знавшие свое дело. Экипаж «Титаника» был подобран из лучших моряков. Утро 12 апреля застало корабль в открытом океане, День выдался погожий. К услугам пассажиров первого класса были спортивные залы, площадки для игры в мяч, плавательные бассейны. В одном из салонов собралась мужская компания. Всеобщим вниманием завладел популярный в те годы английский журналист-путешественник В. Т. Стэд. Он говорил о содержании иероглифического текста, высеченного на одном египетском саркофаге. — Того, кто перескажет эту историю, — закончил Стэд, — ожидает мучительная насильственная смерть. Таким предупреждением сопровождалась надпись на саркофаге. Чтобы доказать, что я не боюсь предрассудков, прошу вас, господа, обратить внимание на следующие факты: я начал этот рассказ в пятницу, а заканчиваю, судя по моим часам, уже тринадцатого числа… 13 апреля действительно ничего страшного не случилось ни с журналистом, посмеявшимся над суеверными людьми, ни с его слушателями, ни вообще с кем-либо из 2224 пассажиров и моряков. Айсберг-убийца поджидал лайнер лишь к исходу следующего дня. А «Титаник»… «Титаник» мчался к месту роковой встречи с ним на всех парах. С полудня 11 апреля до полудня 12-го он прошел 386 миль, за следующие сутки — 519, с полудня 13-го до полудня 14-го — 546 миль. Скорость достигла 22,5 узла. А действовали пока всего 24 из его 29 гигантских котлов. Плавучий дворец добросовестно выполнял все обещания, данные компанией своим клиентам. Особый штрих в его комфорт вносила новинка — беспроволочный телеграф. Деловые люди могли даже здесь — посреди океана! — заниматься бизнесом. В ежедневной газете «Титаника» публиковались свежие сообщения о курсах акций на нью-йоркской бирже. В воскресенье 14 апреля 1912 года на корабле царила атмосфера всеобщего благодушия и приподнятости. Даже обычный корабельный аврал был в этот день отменен. Еще дня два — и «Титаник» ожидает триумфальная встреча в нью-йоркском порту… В ресторане давал ужин миллионер Виденер. В числе его гостей был и капитан лайнера Эдвард Смит — седой, представительный, бывалый моряк. За соседним столом расположились президент «Уайт стар» Брюс Исмей и корабельный врач О’Лафлин. Исмей чувствовал себя именинником — похвалы «Титанику» расточались со всех сторон. Капитан Смит с наслаждением попыхивал сигарой. Скоро ему на мостик. Но пока можно не торопиться. Он любил выкурить после ужина хорошую сигару. В тот вечер он выкурил две. Огромные часы над парадной лестницей показывали 9 вечера. Пассажиры, не торопясь, расходились по каютам, включали электрические радиаторы — близость льдов давала себя знать, резко похолодало. Постепенно человеческий муравейник затих — только ровная дрожь и глухой шум машин сотрясали могучее тело корабля. «Черная команда», голая по пояс, подбрасывала уголь в жадные топки, а инженеры еще раз проверяли свое сложное хозяйство: наутро по требованию Исмея надо было прибавить скорость.«Айсберг, сэр…»
Тем временем в радиорубку одна за другой поступали тревожные сообщения о том, что ледяные поля и айсберги замечены намного южнее обычной границы. Одна такая радиограмма пролежала в кармане у Исмея шесть часов, прежде чем он ее прочел. В воскресенье «Титаник» получил семь предупреждений о близких льдах. Штурманы пришли к выводу, что пароход войдет в опасную зону между 10 и 12 часами ночи. В 20 часов вахту на мостике принял штурман Лайтоллер. Было холодно, на небе — ни облачка, на море — штиль. Но штурман был озабочен. Ему не нравилось, что нет ветра. «Титаник» достиг 49-го градуса западной долготы, где, судя по сообщениям, могли появиться льды. В 21 час на мостик поднялся капитан и приказал сбавить ход, если появится туман. — В случае малейших сомнений немедленно дайте мне знать, — добавил он, направляясь в свою каюту. Лайтоллер приказал впередсмотрящим на формарсе, матросам Флиту и Ли, не спускать глаз с воды в поисках льда. В 22 часа Лайтоллер доложил о приказе капитана своему сменщику — Мэрдоку. Тот велел погасить все огни перед мостиком, чтобы лучше видеть море. Ни Лайтоллер, отправившийся в теплую каюту, ни Мэрдок, до рези в глазах вглядывавшийся во тьму, ни капитан Смит, готовый по первому зову подняться на мостик, не знали о том, что в радиорубке, небрежно отодвинутая в сторону, под пресс-папье и ворохом бумаг, вот уже полчаса лежит тревожная радиограмма с борта парохода «Месаба»… В тот воскресный вечер радист Джек Филлипс чувствовал себя загнанной лошадью. Днем слышимость была отвратительной, и вот скопилась гора срочных телеграмм на берег. А пневматическая труба из телеграфной конторы выплевывала все новые и новые «молнии». Наконец Филлипсу удалось поймать маяк Кейп-Рейс, и работа закипела. Радист терпеливо принял сообщение с «Месабы», ответил «Принято. Спасибо» и отодвинул подальше отвлекавшую от дел радиограмму. Радист на «Месабе» тщетно ждал официального подтверждения от капитана «Титаника», положенного в таких случаях. «Сообщение о льдах. Между 42° и 41°25′ с. ш. и 49° и 50°30′ з. д. вижу тяжелые льды и большое количество айсбергов. Погода хорошая, небо чистое», — говорилось в этой радиограмме. «Титаник» мчался вперед, навстречу сплошной стене льдов. Ни одна из вечерних радиограмм так и не попала на мостик. Мэрдок, выполняя приказ, вел корабль строго по заданному курсу.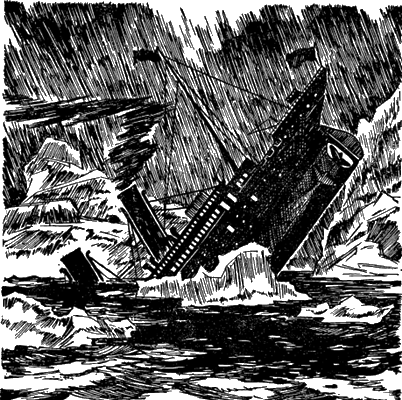
Сидя в «вороньем гнезде» на мачте, впередсмотрящие напряженно следили за морем. Видимость ухудшалась — набежал туман. Было 23 часа 40 минут, когда Флиту померещилось впереди какое-то темное пятно. Он вгляделся и тут же закричал: — Айсберг прямо по носу! Мэрдок немедленно скомандовал: — Лево на борт! Стоп машина! Полный назад! Поздно. «Титаник» вздрогнул от толчка. — Что случилось, Мэрдок? — на мостик взбежал капитан. — Айсберг, сэр… Это произошло в точке с координатами 41°46′ с. ш. и 50°14′ з. д., в 330 милях к юго-востоку от мыса Кейп-Рейс. Ударившись о подводную часть айсберга, «Титаник», словно гигантским ножом, был вспорот по правому борту от форпика до носового котельного отделения. В пробоину длиной почти 100 метров хлынула вода, заполняя носовую часть судна.
SOS!
Легкий толчок не потревожил спавших пассажиров. Только те, чьи каюты находились в носовой части корабля, скорее о любопытством, чем о тревогой, выглянули наружу. Палуба была усеяна ледяной крошкой. — Наверное, напоролись на айсберг. — Ничего удивительного, такая тьма. — Первый час ночи, надо спать. Спокойно переговариваясь и подбрасывая льдинки, люди потоптались на палубе, затем, ежась от холода, стали разбредаться по теплым каютам. В это время экипаж обследовал судно. Старший механик запустил мощные насосы, но вода неумолимо прибывала. И все же он и его подчиненные продолжали самоотверженно бороться с морской стихией. Они до конца не покинули своих постов и все, как один, погибли. Благодаря им «Титаник» продержался на плаву в течение 2 часов 40 минут. К капитану Смиту поступали доклады один тревожнее другого. В носовых отсеках вода поднялась до пяти метров. Специальный прибор, установленный в рулевой рубке, показывал крен в пять градусов на правый борт. Смит прошел в радиорубку, велел Филлипсу быть наготове, чтобы послать в эфир обычный сигнал бедствия по первому его указанию. Десять минут спустя фигура капитана снова выросла в дверях радиорубки. — Вызывайте помощь, — приказал капитан. Филлипс заработал ключом. Голос попавшего в беду лайнера был услышан на маяке Кейп-Рейс и на нескольких пароходах, Один из них, «Карпатия», радировал, что находится в 58 милях к юго-востоку от «Титаника» и идет на помощь. Тишину безлюдных коридоров нарушило приглушенное гудение гонга. Лестницы, переходы, холлы вдруг засияли всеми огнями. Стюарды стучались в каждую дверь, вполголоса говорили: — Пожалуйста, встаньте и оденьтесь. Пароход потерпел аварию. Никакой опасности нет, — и, не отвечая на вопросы заспанных пассажиров, шли дальше. Растерявшиеся было вначале люди, толпясь в ярко освещенных залах, быстро овладевали собой. В конце концов что может значить какая-то пробоина для такого гиганта, чуда XX века! Ведь «Титаник» непотопляем, это было известно каждому. Мужчины подтрунивали над женщинами, шутили: это даже здорово, черт побери! Какое ни есть, а приключение. Будет о чем порассказать на берегу. Не каждый день путешествуешь на величайшем корабле мира, который к тому же наскочил на айсберг! Но в половине первого ночи корабль облетел приказ капитана: женщин и детей сажать в спасательные вельботы и спускать на воду. Атмосфера напускного благодушия улетучилась, и наступила всеобщая паника. В этот момент в салоне первого класса грянула веселая музыка. Музыканты корабельного оркестра решили подбодрить людей. «Много мужественных поступков было совершено в ту ночь, — писал позднее некий журналист, — но ни один из них не сравнится с подвигом нескольких музыкантов, игравших без передышки, невзирая на то что корабль погружался все глубже и глубже…» Четвертый помощник Баксхолл стоял на мостике, когда услышал удары колокола. Впередсмотрящие что-то заметили! Он поднес бинокль к глазам и медленно обвел горизонт. Вот оно, спасение! Вдалеке маячили огоньки корабля. Доложив об этом капитану, Баксхолл получил приказание дать сигнал ракетами. Восемь ярких точек одна за другой взвились высоко в черное небо и рассыпались огненными букетами. — Они достаточно близко. Просигнальте, чтобы немедленно шли на помощь, Мы тонем! — сказал капитан. Баксхолл кинулся к прожектору, передал текст. Но ответа не последовало… От тонущего колосса отвалили первые спасательные вельботы. Рассчитанные на 60 человек каждый, они были заполнены лишь наполовину. Оркестранты, одев спасательные жилеты, выбрались из салона на палубу и продолжали играть. Пассажиры первого класса какое-то время сохраняли чинное спокойствие. Но «роскошный чудовищный плавучий Вавилон», как окрестил «Титаника» острый на язык журналист Стэд, доживал последние минуты своей короткой жизни. По мере того как становилось ясно, что вельботы — это единственный шанс на спасение, чопорная вежливость джентльменов все быстрее отступала перед принципом «каждый за себя». Как потом выяснилось, во многие шлюпки набилось больше мужчин, чем женщин и детей. Из недр парохода хлынули толпы тех, кому был запрещен доступ на палубы для привилегированной публики: истопники и кочегары, пожарные и повара, простой люд, отправившийся на «Титанике» искать лучшей доли в Новом Свете. Разломав тяжелые ворота, преграждавшие путь наверх, человеческий поток устремился к заветным шлюпкам. В 1.30, когда «Титаник» безмолвной, ярко освещенной горой еще, казалось, надежно покоился на черной глади океана, капитан прошел в радиорубку и, сказав, что корабль долго не продержится, велел послать сигнал «Спасите наши души!» — эту отчаянную мольбу о помощи, которая заставляет вздрогнуть каждого услышавшего ее моряка, где бы он ни находился в этот момент. Развязка приближалась. Оркестр отыграл веселый фокстрот и начал торжественную гордую мелодию гимна. На предпоследней шлюпке отплыл пассажир первого класса Брюс Исмей, в течение всего рейса подгонявший капитана. Ему нужен был рекорд скорости. «Титаник» поставил другой рекорд… На его борту, когда отчалила шлюпка Исмея, металось более полутора тысяч человек, у которых не оставалось ни единого шанса на спасение.Развязка
С 2.05 до 2.20 — с момента, когда отвалила последняя шлюпка, до финала трагедии — капитану Эдварду Смиту, стоявшему на мостике, оставалось только одно — размышлять над происходящим. «Горькие мысли должны были осаждать его в это время, — пишет Дж. Маркус в своей книге. — Он мог припомнить свои собственные слова, звучавшие теперь злой издевкой: «Я не могу себе представить ситуации, которая привела бы к гибели этого корабля…» В течение двадцати лет капитаны водили суда, свыкшись с необходимостью риска. И вот пришел час расплаты». Трагическая фигура капитана «Титаника» привлекла внимание не одного литератора. Вот как представлял себе его последние минуты выдающийся немецкий писатель Бернгард Келлерман в своем романе «Голубая лента», вышедшем в свет в 1938 году и опубликованном у нас на русском языке в 1968 году (Смит выведен в образе Терхузена, капитана океанского лайнера «Космос»): ««Мы слишком быстро шли, — подумал он, — нельзя этого отрицать. Не будь этого Хенрики (хозяина «Космоса». — Б. С.), я бы, вероятно, снизил скорость, скажем, до шестнадцати узлов. Тогда пробоина была бы не столь катастрофичной. Но ведь Хенрики во что бы то ни стало хотелось поставить рекорд!..» Он стоял, не двигаясь, и ему казалось, что его распяли, пригвоздив к черному, безжалостному небу. Он испытывал нечеловеческие муки, был близок к безумию. На «Космосе» — это и было причиной его страданий — находилось свыше трех тысяч человек, а спасательные шлюпки едва могли вместить половину…»
Второй штурман Лайтоллер спасся чудом. Он помог спустить на воду последнюю шлюпку и затем бросился вниз головой с мостика. Его тут же чуть было не засосало водоворотом, но внезапно струя горячего пара из котельной отбросила его в сторону. Лайтоллер оказался рядом со шлюпкой. Он только уцепился за нее, как вдруг умирающий корабль резко вздрогнул, и Лайтоллера отшвырнуло метров на пятьдесят в сторону. Оттуда штурман наблюдал последние секунды «Титаника». Сияя всеми огнями, плавучий дворец все быстрее погружался в океан. Внезапно свет погас — вода затопила котельные. В чреве стального колосса что-то загрохотало. Это сорвались со своих мест котлы, каждый размером с двухэтажный лондонский автобус, и покатились в сторону носа, который был уже под водой. Корма с мощными гребными винтами торчала в воздухе. Пронзительные крики сотен людей, оставшихся на борту, разносились над черной водой. Те, кто был в шлюпках, налегли на весла, стараясь как можно дальше уйти от «Титаника»: они боялись, что, затонув, пароход создаст сильный водоворот и засосет их за собой в пучину. Еще немного — и «чудо века», гордость судостроителей, грандиозный лайнер быстро пошел ко дну вместе с зимним садом и тысячами почтовых мешков, с сейфами, полными драгоценностей и золотыми слитками на миллионы долларов, с гоночными машинами и холеными собаками миллионеров и со скромными пожитками эмигрантов из Европы. 1513 человеческих жизней оборвала беспощадная стихия. Холодные, тусклые звезды едва подсвечивали жуткую сцену. Ее впоследствии воссоздавали по воспоминаниям очевидцев и литераторы, и живописцы, и кинематографисты. Люди, сидевшие в переполненных шлюпках, отворачивались и затыкали уши, чтобы не видеть своих бывших спутников, коченевших в воде, не слышать их отчаянных криков. Впрочем, в некоторых шлюпках было еще достаточно места, чтобы подобрать утопающих, но страх за собственную жизнь гнал их пассажиров все дальше от места катастрофы. Состоявшийся позднее в Лондоне суд даже рассматривал дело о двух пассажирах первого класса, пытавшихся с помощью взятки заставить матросов грести прочь, хотя можно было взять на борт еще человек 20–25. Разумеется, обвиняемые — леди Дафф-Гордон и ее супруг сэр Космо — все категорически отрицали…
Расследование
В ходе расследования, проводившегося одновременно в Вашингтоне и Лондоне, было установлено, что масштабы трагедии были бы значительно меньшими, если бы на зов «Титаника» откликнулся английский пароход «Калифорниан», который был ближе всех к месту гибели лайнера. История сохранила две противоречивые версии о том, как получилось, что один корабль не пришел на помощь другому, потерпевшему бедствие в открытом океане. Одна из них принадлежит офицерам «Калифорниана», другая — рядовому члену экипажа, рабочему при лебедке Эрнесту Джиллу. Если верить офицерам, события развивались следующим образом. Когда вечером 14 апреля прямо по курсу появились сплошные ледяные поля, «Калифорниан» отработал назад, остановил машины и лег в дрейф. Около 23 часов вахтенный, третий помощник Чарльз Гроувз, заметил на востоке судовые огни и доложил об этом капитану Стэнли Лорду. Затем он по приказу капитана безуспешно пытался связаться с неизвестным пароходом по световой азбуке Морзе. Выяснив у радиста Сирила Эванса — новичка, недавно окончившего курсы, — что в течение вечера он разговаривал с «Титаником», капитан приказал дать радиограмму с предупреждением о льдах. И в эфире состоялся такой диалог. «Калифорниан»: Послушай, старина. Вокруг нас лед. Мы остановились. «Титаник»: Отвяжись. Отвяжись. Я занят. Работаю с Кейп-Рейсом. Ты меня забиваешь. Эванс был обязан в этих обстоятельствах запросить у капитана Лорда разрешение дать официальную радиограмму за его подписью, с тем чтобы получить подтверждение о получении ее непосредственно от капитана «Титаника». Он не сделал этого. А в 23.35 он вообще выключил аппаратуру и улегся спать. Но Эванс был новичком на море, чего никак нельзя сказать о капитане Лорде. И все же этот многоопытный судоводитель не настоял на ответе от своего коллеги капитана Смита, ни разу на протяжении ночи не поинтересовался, что слышно в эфире. В 23.40 Гроувз вызвал на мостик капитана. Огни «Титаника» на какое-то время пропали. «По-видимому, уклонился вправо от айсберга», — предположил Гроувз. «Титаник» в это время находился, по свидетельству офицеров «Калифорниана», на расстоянии 20–30 миль от их парохода. В полночь на вахту заступил второй помощник Герберт Стоун. Он не спускал глаз с моря. Видел белые ракеты. Доложил о них капитану и получил приказ связаться с «Титаником» по световой сигнализации. Но тот не отвечал. — Не нравится мне что-то, как расположены его огни, — с беспокойством заметил Стоун, обращаясь к стоявшему рядом юнге Гибсону. Старшему помощнику, поднявшемуся на мостик в 4 часа утра, он сообщил, что видел ночью какой-то странный пароход, который долго стоял на месте, а потом «выпустил несколько белых ракет и ушел». Старший офицер бросился в радиорубку, растолкал Эванса. «Известно ли вам, что «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул?» — тут же раздалось из эфира… А вот показания Эрнеста Джилла, данные им под присягой специальной сенатской комиссии в Вашингтоне: «14 апреля я дежурил в машинном отделении с 8 часов вечера до полуночи. В 23.56 я вышел на палубу и увидел в десяти милях от нас огромный пароход. Я отчетливо видел его бортовые огни. Я прошел в каюту, рассказал об этом своему приятелю Вильяму Томасу. Мне не спалось, и примерно через полчаса я опять поднялся на палубу выкурить сигарету. Минут через десять я увидел белую ракету и принял ее за падающую звезду. Но через семь-восемь минут взлетела еще одна ракета. «Корабль терпит бедствие», — подумал я и ушел в каюту, считая, что это не мое дело: с мостика не могли не увидеть ракет и, значит, сделают все, что надо… Я совершенно уверен, что «Калифорниан» был не в двадцати милях от «Титаника», как это утверждают офицеры, а лишь в десяти. Иначе я не видел бы его так отчетливо». Эпилог трагедии начался в Вашингтоне и закончился в Лондоне. Главной фигурой процесса был, несомненно, Брюс Исмей, дававший показания в качестве свидетеля. О личной вине этого человека в гибели «Титаника» буржуазные историки спорят до сих пор. Любопытно, что и те, кто оправдывает Исмея, и те, кто считает его виновником происшедшего, не подвергают сомнению один факт: да, президент компании «Уайт стар» страстно желал «рекорда» и стоял за то, чтобы «Титаник» продолжал идти с повышенной скоростью даже в опасной зоне айсбергов. Но, говорят первые, куда же смотрел капитан Смит? Сейчас уже трудно, а пожалуй, и вообще невозможно выяснить, в какой форме излагал капитану свое желание хозяин «Титаника» — требования или просьбы. Но в любом случае спор по таким частным вопросам не приближает нас к истине, а, напротив, затушевывает ее. И это хорошо понял, хотя и весьма обтекаемо сформулировал, английский судья лорд Мерсей. Дадим ему слово: «Корни [существующей практики кораблевождения] следует искать, по-видимому, скорее в конкуренции и в стремлении сократить время перехода, нежели в поведении навигаторов. К сожалению, эту практику оправдывал предшествующий опыт. Учитывая существующую практику и прошлый опыт, нельзя сказать, что [в случае с «Титаником»] была допущена халатность; а за отсутствием халатности невозможно возложить вину на капитана Смита». Увы, это был единственный момент, когда английский суд приблизился к объективной точке зрения. Заключение лорда Мерсея было фактически перечеркнуто 30 июля 1912 года другим судьей, Бейлхечем, который вынес следующий вердикт: «Гибель вышеозначенного корабля произошла от столкновения с ледяной горой, вызванного чрезмерной скоростью, с которой вели корабль». Виновным в катастрофе был, таким образом, объявлен капитан Эдвард Смит. Компании же удалось замять дело. Эпопея с «Титаником» преподала мореплавателям суровый урок. В 1913 году в Лондоне была принята первая международная конвенция по охране человеческой жизни на море. Непреложным правилом стало иметь на борту столько спасательных шлюпок, чтобы места в них были обеспечены всем до единого членам экипажа и пассажирам. (На «Титанике» находилось 2224 человека, шлюпки же могли вместить только 1178 человек.) Была учреждена специальная международная служба по наблюдению за льдами в Северной Атлантике и своевременному предупреждению плавающих там судов.Итак, «Титанику», возможно, предстоит подняться на поверхность океана и начать новую жизнь. Суть метода, который должен быть применен, состоит в следующем: воду с помощью гидролиза разлагают на элементы; водород отводится в укрепленные на корпусе судна пластмассовые резервуары, которые, наполнившись этим легким газом, увлекают за собой на поверхность и корабль. Эту оригинальную идею разработали два венгерских изобретателя о будапештского завода «Ланг» — Ласло Саскё и Амбриуш Балаш. Они приглашены участвовать в работах по подъему «Титаника». Вокруг «Титаника» постепенно разгорается ажиотаж. Газетчики в Англии и Соединенных Штатах уже предсказывают, что в случае успеха операции подъема вспыхнет «борьба за богатое наследство». Страховые компании, выплатившие после гибели корабля почти 4 миллиона долларов, пишет манчестерская газета «Гардиан», пока ведут себя осторожно, но выражают «готовность изучить все позитивные предложения. По закону они могут предъявить права на «Титаник» как на свою собственность и не собираются отказываться от этого. А таких компаний десятки…» Родоначальник эпохи гигантских кораблей все еще вмурован в морское дно, а крупные и мелкие дельцы уже «выражают готовность» вцепиться друг другу в горло, чтобы урвать побольше из того, что свыше полувека было добычей океана. Ближайшее будущее, возможно, покажет, какие сюрпризы уготовил «Титаник» — эта угрюмая жертва слепого, алчного Бога Наживы.
Об авторе Сенькин Борис Алексеевич. Родился в 1937 году в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Работает старшим редактором-переводчиком в еженедельнике «За рубежом». Публиковался в журналах «Вокруг света», «Техника — молодежи» и «Сельская молодежь». Автор ряда статей на международные темы. В сборнике выступает впервые.
Алексей Рыжов
ЛЕСНЫЕ ЗОРИ НАД КОКШАГОЙ

Рассказы Рис. Л. Кулагина
Плач медведицы
Бот уже несколько дней мы с Захаром Семенычем, лесником Шарангского лесхоза, делаем простейшую съемку и наносим на карту лесные сенокосные угодья и заросли лещинника. Забрели мы в глухие дебри закокшагской тайги. Сухие сосновые леса перемежаются седыми ельниками, болотистыми ольховниками, светлыми березничками. Время клонилось к обеду. Невдалеке между деревьями засквозила солнечная полянка. На ее опушке мы и решили сделать привал, пообедать. Благо по самой окраинке луговинки протекал лесной ручеек: напиться можно. Пробираемся мы к светлинке, раздвигаем осторожно густые заросли хмеля, крапивы, таволги вязолистной. Тихо кругом. Только нет-нет да и хрустнет под ногой сухая ветка. Вот она уже и полянка. И тут мы буквально остолбенели… Над самым бережком ручейка увидели мы раскидистый дуб, вскинувший свою пышную крону высоко в синее небо. А под дубом разгуливает огромная бурая медведица. Разгребает когтистой лапой сухие кожистые листья и собирает с земли опавшие спелые желуди. Ест, чмокает, да так, что у нас мурашки по спине забегали.
А у нас ружья, как на грех, нет. Даже пугнуть медведицу нечем. Пока мы приходили в себя и раздумывали, как быть, вверху, в густой кроне гиганта дуба, послышался громкий шорох. Затем, цепляясь за ветки, упал небольшой сучок. И тут же тяжелым живым комом свалился медвежонок. Шмякнулся о чугунную, просохшую, в узловатых корнях землю и остался лежать неподвижно. Медведица озабоченно вскинула голову. Замерла. Из полураскрытой пасти вывалился неразжеванный желудь. В два удивительно легких для ее грузного тела прыжка подскочила к медвежонку. Испуганно потрясла его лапой за загривок. Перекатила на другой бок. Нервно шлепнула правой лапой по лохматому заду. Нос в нос ткнула его, понюхала. Встревоженно фыркнула. Снова подняла на мгновение голову, видимо, не веря случившемуся. Шершавым языком несколько раз лизнула окровавленный лоб. Отошла задом. Склонив взъерошенную голову едва не до самой земли, тяжело затрясла ею из стороны в сторону и начала рьяно драть передними лапами землю — дернистые ошметки полетели далеко в сторону. Затем, медленно поднявшись на задних ногах, подошла к медвежонку. Взяла его, как женщина ребенка, «на руки», нежно прижала к лохматой могучей груди. Поднесла к только что вырытой ямке. Осторожно опустила его туда и начала засыпать сухим жестким листом, жухлой травой, почерневшими прошлогодними желудями, мелкими ветками и землей. И совершенно неожиданно как-то утробно, глухо, с тяжелым внутренним придыханием завыла. В этом дрожащем, хриплом плаче улавливалось то жалобное урчание, то густой, низкий звериный рык. Но в нем, как это ни странно, явно слышалась глубокая скорбь, нескрываемая печаль и тяжесть внезапно свалившегося горя. Скоро на месте ямки возник невысокий холмик. Мы растерянно переглянулись: вот так зрелище! А медведица, справив своеобразные похороны, с тем же воплем и глухими рыданиями, тяжело мотая головой из стороны в сторону, косолапя и шатаясь обмякшим телом, как пьяная, медленно поплелась в лес… — Сорок лет по тайге хожу, а подобное вижу впервые! Как, по-твоему, не сон ли все это, — обратился ко мне Захар Семеныч. Но мне, видавшему медведя только в зоопарке, за надежной железной изгородью, давно было не по себе. Моя рубашка пропиталась холодным, липким потом, а пересохший от страха язык не мог повернуться во рту.
Осиновая падь
Из-за спящего тяжелым сном древнего леса несмело встает морозное зимнее утро. Медленно удаляясь на запад, ночь бережно снимает с озябших небес, с продрогших полей и лугов темное покрывало и нехотя уступает место нежным утренним краскам. В звенящей тишине декабрьской ночи мороз богато нарядил деревья в пышный кружевной наряд. На закоченевшие ветви деревьев легла пушистая невесомая изморозь. Утренняя заря слабо вспыхнула коротким багряным пламенем, и огромное зимнее солнце огненным шаром выплыло из-за заснеженной холмистой дали. И засветились, заиграли золотыми лучиками снежные звездочки на огрубевших от холода, гребнистых лапах елей и пихт, на коричневой сетке ветвей вековых дубов, рябеньких березок, раскидистых лип. В сумрачной верхушке столетней ели, радостно возвестив лесным обитателям о приходе нового дня, перелетел с ветки на ветку юркий клест-еловик. И от легкого колебания морозного воздуха с седых заснеженных ветвей древнего исполина плавно полетели вниз серебряные нити снежинок. Ровный розовый свет брызнул о востока на сахарные поля, окрасил сизое морозное марево в мягкий лилово-дымчатый цвет. На искрящийся снег густо легли фиолетовые тени деревьев. Тишина. Бодрый, свежий скрип молодого снега под нашими ногами далеко разносится в холодном утреннем воздухе. Мы с Астапычем ведем учет красавца северных лесов — лося. Сегодня пробираемся глухими, полузаросшими просеками, заброшенными лесными дорогами в дальний край его егерского участка, раскинувшийся по левому лесистому притоку Волги — омутистой речке Большой Кокшаге. Эти угодья остались пока еще не обследованными. — Развелось их порядочно. В Осиновой пади к речке Письмянке, что в Кокшагу впадает, на водопой они не тропы, а целые дороги проторили, — спокойным хозяйским тоном сообщает Астапыч. Я сомневаюсь, возражаю. Егеря это сердит. — Да вы знаете, прошлой зимой я их, горбоносых бородачей, целыми стадами по три — пять голов частенько там видел! — доказывает он. Астапыч большой любитель природы, всякой лесной живности. Лучшего егеря нет во всей округе. Он способен любоваться восходами и закатами, радоваться, как дитя, небесной синеве лесных озер, тихому шелесту прибрежного камыша, нежной песне овсянки. Душа у него чуткая, характер горячий, но отходчивый. Егерь умен, правдив, но при всем этом — охотник. А охотники, как известно, способны и преувеличить малость. Поэтому его сообщению о стадах лосей я не совсем верю. — Ну-ну, Астапыч! Так уж и стада! — снова мягко возражаю я. Егерь недовольно умолкает. Облитые красноватым солнцем, скрипя снежком, мы заходим под своды угрюмого зимнего леса. Густой синий полумрак столетней рамени поглотил нас. И скрип шагов, и наши голоса стали звучать здесь глуше. Незаметно по узкой таежной просеке мы углубились в вечнозеленые дебри хвойников. Крутой заснеженный бережок таежной речки. Ее неширокая пойма светлой извилистой полоской рассекает темные ельники. Мы вздрагиваем от неожиданности: почти из-под ног, тяжело захлопав крыльями, поднялась, взметая сухую снежную пыль, стая сизых тетерок. Спустившись в низину, мы увидели на высокой, мягко освещенной скупым солнцем березе черные силуэты неподвижно застывших косачей. — Ишь ты, благодать какая! Погреться решили! — замечаю я. — Непуганые, они здесь ружейного выстрела не слыхали, — откликается Астапыч. — Что, разве охотников мало? — Да нет! Токовища у них — моховые болота. Верст пятнадцать от ближайших деревень. Добраться туда в период токования, в распутицу не просто. Непуганые! — как бы подводит итог сказанному Астапыч. Пойма речушки густо исхожена беляками. То тут, то там видны обглоданные осинки, побеги ивы. Я посматриваю на косачей. У меня страстное желание выстрелить по ним. Но Астапыч отговаривает: до Осиновой пади еще далеко, надо спешить. Я огорченно машу рукой и еле успеваю за ускорившим шаг егерем. Полдень. Низкое солнце нежно позолотило тупые верхушки редких сосен, острые вершины почти черных пихт. С южной стороны кроны деревьев заметно обтаяли, приобрели естественный вид и цвет. А с севера они в седом иглистом инее, хранят нерукотворный ночной наряд. И это различие делает деревья сказочно красивыми. Чувствуется, что солнце воюет с чародейкой-зимой. Но чем ближе к вечеру, тем яснее, что Мороз Красный нос еще долго не уступит своих позиций. — Лоси! — еле сдерживая волнение, громким шепотом сообщил Астапыч. — Видите понижение, осинки? Это и есть Осиновая падь. Лучшего места для лося и не сыщешь! Тут и корма обильные, и водопой прекрасный. Летом в прохладных лесных бочажках и от надоедливого гнуса спастись можно. А главное — место глухое, человек здесь редко бывает. И, помолчав, восхищенно добавил: — Хороши места! Лось — зверь умный. Знает, где ему жить вольготно. Осторожно пошли мы вдоль распадка, стараясь не спугнуть сторожких зверей. Всюду — и справа и слева — лоси так густо наследили, что мое прежнее сомнение в словах Астапыча тут же исчезло, Действительно, целые лосиные дороги пролегли в лесной пади. — Встретилось нам два лежбища-ночлега. На снегу в одном месте виднелись две, в другом три вмятины. На уплотненной поверхности подтаявшего снега можно было различить характерную легкую желтизну. Верхушки молодого осинника скушены. А в одном месте чистые Матовые стволики некрупных деревьев ярко белели, будто их только что остругали продольными движениями узкой стамески. — Сегодня здесь у них завтрак был. В звериную столовую, так сказать, мы с вами попали! — усмехнулся Астапыч. — Трое кормились, — пояснил он, мельком глянув на осинки. — Как это вы определили? — А видите, ширина зуба на каждом стволе разная. Да и следы разнокалиберные, — указал он на землю. Старый егерь читал лесную книгу без запинки. Пройдя шагов тридцать, у русла речки мы увидели до жирной черноты измешанный ногами лосей берег. Один очень крупный след вел через речку на другую сторону распадка. Я вскинул голову — метрах в сорока сквозь дымчатую кисею мелких веток был виден серовато-бурый лесной великан. Он стоял ко мне боком, царственно, гордо, чувствуя свою полную безопасность. Большую губастую голову лося венчали массивные лопатообразные рога. В эту минуту зверь казался высеченным из серого уральского гранита. Он мирно пасся, поедая верхушки можжевеловых веток и нежных ивовых побегов. Астапыч, довольный, молчал, хитровато наблюдая за мной. Я чуть повернул голову и заметил в чаще низкорослого ольшаника крупную лосиху с молодым лосенком-первогодком. Они старательно сдирали крепкими зубами кору с кустистого ивняка. Видимо, заметив нас, испуганно закричала сорока. Лоси насторожились. Взметнули вверх тяжелые головы. Озабоченно задвигали лохматыми ушами. А тут еще я неосторожно зацепил куст ивы. Он качнулся, тонко зазвенел обледеневшими ветками, брызнул колючим инеем. И вдруг слева от нас что-то громко зашумело, затрещало, сдвинулось. Словно горный обвал в неистовом напоре неожиданно хлынул в долину. Жиденькие осинки упруго закачались, гибко взмахнули сонными верхушками, шумно зашуршали. И тут же в седом снежном вихре большое лосиное стадо живой лавиной испуганно шарахнулось в сторону и неудержимо понеслось по распадку.
Встревоженно шумел зимний лес. Глухо гудела под сильными ногами лосей схваченная крепкими морозами земля. Клубилась, медленно оседая, легкая снежная пыль… — Да-аа-а!.. — произнес я, завороженный невиданными доселе мной картинами, и слегка приоткрыл от удивления рот. — Вот вам и «сомневаюсь», — торжествующе упрекнул меня Астапыч. — Лес знать надобно, — твердо произнес он. Мне стало неловко. Я всегда думал, что наши обжитые леса слишком бедны и зверем, и птицей. Но в этот морозный день я впервые по-настоящему понял, что зимний лес не безмолвное, безжизненное царство, а надежное прибежище многочисленных лесных обитателей. Да, есть чего охранять Астапычу в притихшем зимнем лесу… Сумерки быстро растекались по озябшему лесу. Мы, счастливые, двинулись к дому. После такой прогулки хотелось горячего крепкого чаю, домашнего уюта. Навсегда осталось в моей памяти это впечатляющее путешествие: красота и величие зимнего леса, обилие в нем зверя и птицы, мягкий, ласковый говорок верного стража лесных богатств егеря Астапыча!..
Выстрел на заре
В полях уже сошел снег. Но возле опушек леса, по северным склонам оврагов еще лежит он невысокими ноздреватыми сугробами, небольшими белыми пятнами с темной льдистой оторочкой по краям. На Кокшаге только что кончился ледоход. Раннее апрельское утро. В неподвижном влажном воздухе висит плотная завеса тяжелого тумана. Только горластые петухи разноголосым хором нарушают тишину. Захар Семеныч, большой любитель охоты на боровую дичь, поднял меня ни свет ни заря. — Пойдем, коли интересуешься. Время, — произносит он хриплым басом. Я по-солдатски быстро одеваюсь, и мы выходим в предрассветную туманную мглу. Оголившаяся земля слегка подзябла и под нашими ногами глухо звенит, заглушая голоса. — Не спеши, тут рядом! — сдерживает меня Семеныч. Трудно дышать сырым прохладным воздухом. Я громко кашляю и вытаскиваю папиросу, авось легче будет. — Ты бы не курил! — просительно говорит старый охотник. — Прокашляйся в поле, а там, на месте, упаси бог! Всю охоту испортишь. Я медленно опускаю в глубокий карман плаща помятую пачку «Беломора» и молча иду за охотником. — Как хозяину здешних угодьев стрелять первому дозволь нынче мне, не то ты погорячишься — дичь уйдет, — дипломатично, с хитроватой улыбкой в умных глазах произносит старик. Мне так хочется сегодня добыть собственный трофей, что я не упрашиваю, а прямо-таки умоляю Семеныча не ставить такого условия, однако он непреклонен. Кончилось поле. Из тумана, как из-под земли, неожиданно выросла темная стена смешанного леса с жиденькими рябинками и можжевельником в подлеске. Мы идем еле приметной лесной тропинкой. Влажные колючие ветви молодых елочек отовсюду тянутся к нам, обдавая холодной росной влагой. Под ногами хлюпает темная ледяная вода. Хрустально звенит легкая корочка образовавшегося за ночь льда. Углубляемся в лес. Бывалый охотник идет впереди. Он в здешнем лесу ориентируется как в собственной квартире. Туман заметно редеет. Мы останавливаемся на пологом холмике возле лесного ручья. Семеныч снимает с плеча тулку, не спеша закладывает в нее патроны и старательно извлекает из кармана залатанных брюк незатейливый пищик-манок. Манок деда Захара самодельный, из трубчатой кости какой-то боровой птицы. В охотничьих магазинах Москвы я видал куда изящнее и сказал об этом старику. — Да на кой ляд магазинной-от мне, — недовольно парирует Семеныч. Этот мне уже лет тридцать, почитай, неизменно служит. Отцовский подарок! — с чувством произносит он и любовно смотрит на тоненькую косточку. Потом бережно подносит ее к посиневшим влажным губам. И в густой тишине просыпающегося леса раздаются нежные призывные звуки: «пи-и-и, пи-и-и, пи-и-ик-пи-ки-кик!» На минуту все стихло. Семеныч сосредоточенно смотрел куда-то вперед, не двигаясь, и мне казалось, что в этот момент он даже не дышит. У меня от неудобной позы затекла нога. Я шевельнулся, хрустнул трухлявой веткой. Захар Семеныч недобро посмотрел в мою сторону. Я виновато замер. Он старательно повторил призыв. И вдруг где-то совсем рядом раздался тонкий дискантовый голос, чем-то похожий на громкий писк синицы: «т-т-тии, ти-ти-ти!» Семеныч коротко позвал еще. И вот стремглав, с шумом почти к самым нашим ногам бросился, топорща хохолок и распустив веером хвост, рябчик-самец. Буровато-дымчатый, с белыми крапинками, поперечными темными пестринами на зобу и продольными стержневыми пятнами на груди, он ловко повернулся, разыскивая зоркими бусинками глаз только что звавшую его самочку. Метра два пробежал бойко по земле, шурша лесной подстилкой, и замер в недоумении: где же подруга? Я не дышал. Жадно следил за каждым движением красивой птицы. Спешил рассмотреть и запомнить ее пеструю раскраску оперения. Рябчик повернулся боком ко мне, и я увидел ярко-красный ободок вокруг глаз и бархатно-черное пятно в белой оправе на горлышке птицы. На веерообразно распущенном хвосте мне бросилась в глаза широкая черная перевязь. Рассматривая птицу, я не заметил, как Захар Семеныч поднял видавшее виды ружье. От оглушительного выстрела я вздрогнул, больно заныли ушные перепонки. Стрелял Семеныч почти в упор. Но когда рассеялся сизый пороховой дым, к моему великому удивлению, рябчика и след простыл… Снова шлепали мы по густой темной воде под пологом перестойного леса, ежеминутно спотыкались об узловатые корни деревьев, скользили. Меня разбирало любопытство: не мог же такой опытный охотник, как Семеныч, промахнуться с такого близкого расстояния. Но спросить его об этом я не решался. Старик вдруг сам заговорил: — Думаешь, глаз стал подводить али ружьишко фальшит? Нет! Зачем по-глупому зверя али птицу жизни лишать? Рябчика же взять. Злую суровость зимушки седой перенес он, бедняга. Дожил до весны-матушки. Решил с подружкой-рябчихой повстречаться, доверчиво на манок пошел. А мы его бух! — и нет птицы… — Многозначительно помолчав, он добавил: — Я, брат, в охоте не люблю убийства. Посмотрел ты на рябчика, полюбовался на живую боровую дичь. В крови рук не замарал. Вот и хорошо. Природу, милок, беречьнужно… Старик ускорил пружинистый шаг, и мы довольно быстро оказались на залитом ранним апрельским солнцем поле. Черная оттаивающая земля дымилась сероватой легкой испариной. В прозрачном синем небе, купаясь в нежарких еще лучах утреннего солнца, серебряным колокольчиком звенел полевод жаворонок. В эти минуты мне стало стыдно, что я стремился обязательно убить птицу, лишь бы добыть охотничий трофей и похвалиться перед товарищами. С той поры я редко берусь за ружье, а на охоту хожу часто: любоваться природой. Это и есть высшее счастье для настоящего охотника!..В Лешевой трясине
Вихрастая, в осоке-резунце кочка качнулась, как большая косматая голова на тонкой шее, я зашатался, нелепо взмахнул руками и плюхнулся в покрытую бледно-зелеными нитями трав трясину. Холодная липкая жижа мигом обволокла меня и начала неотвратимо засасывать все глубже и глубже в свое ненасытное чрево. Я похолодел от ужаса. Инстинктивно ухватился за несколько травинок, свисающих с кочки-предательницы. Острые зубчики жесткого резунца глубоко врезались в мякоть ладони, но я не чувствовал боли, хотя из раны обильно сочилась кровь. «Неужели конец?» — пронеслась в голове страшная мысль, и мелкие росинки холодного пота разом выступили на висках… Я с детства знал, что в ненасытной пучине Лешевой трясины погибло много крестьянского скота, разного лесного зверья и неосторожных людей. Не замерзает она, проклятая, даже лютой зимой. Курится обманчивым серым парком, словно камчатский гейзер. Я дернулся всем телом несколько раз, беспомощно хлестнул туда-сюда руками. Хотел дотянуться до давно истлевшей хворостины, но не смог. В бессильной злобе на свою судьбу я слабо заскулил, затем затих, ожидая медленной смерти. Только зубы выколачивали путаную дробь то ли от холода, идущего из глубины болота, то ли от сковавшего меня страха… Мне почудилось, что я задремал, а когда очнулся от этого кошмарного полузабытья, солнце уже скатилось за гребнистую полосу леса. Густые мрачные тени ложились тяжелым покрывалом на бескрайнее болото. Надвигалась последняя ночь в моей жизни. Противная жижа беззубым, бесформенным ртом поглотила меня уже по шею. Только раскинутые широко руки да редкий травяной покров еще несколько удерживали меня на обманчивой поверхности болота. Но это могло продолжаться недолго. «Скорей бы конец!» — безразлично подумал я и безвольно уронил в грязь не державшуюся на плечах, горячую от тягостных дум голову. И снова мной завладели кошмарные полусны-полувидения. Долго ли так было, не знаю. Внезапно до моего обостренного слуха донеслось какое-то влажное шлепанье, легкий шелест осоки. Что бы это могло быть? Неужели люди! Но откуда им здесь взяться? Голова на момент просветлела. Сделалось нестерпимо жаль себя. Страстно захотелось жить. Послышалось тяжелое утробное сопение. Приминая чахлую ржавую осоку и реденькую пушицу, метрах в пяти от меня показалась лохматая морда огромного медведя. Он тяжело дышал полуоткрытой пастью. Белые клыки зверя горели перламутром на розовой мякоти рта. Черная подушечка носа влажно поблескивала, маленькие глазки озабоченно смотрели под ноги, на землю. Взмокшая на груди и под брюхом шерсть слиплась грязными сырыми сосульками. Я смотрел на него снизу, из-под кочки, поэтому бурая взлохмаченная громада казалась мне никак не меньше порыжевшего стога прошлогоднего сена. Я замер, вобрал как можно сильнее голову в плечи. «Сейчас чуткий к запахам медведь обнаружит мое присутствие, ударит по торчащей из болота голове и размозжит череп…» — успел подумать я в ужасе. На мгновение потерял сознание. А когда снова пришел в себя, — то увидел, что вслед за медведем катятся два взмокших медвежонка, как туго набитые узлы. Это медведица-мать с выводком пробиралась через болота. Звери не обращали на меня ни малейшего внимания — медведица ступила передней лапой в трясину и тут же отдернула ее. Припала мордой к земле, встревоженно фыркнула, шумно обнюхивая землю. Воспользовавшись минутной заминкой, один медвежонок опередил мать и провалился в липкую трясину. И в тот же миг он неистово закричал в испуге. Медведица схватила его за взъерошенный загривок и бесцеремонно отшвырнула на безопасное место. Медвежонок, мотая задними ногами, передернул всей шкурой, стряхивая грязь. А затем!.. Затем я не поверил своим глазам. Медведица косолапой походкой пошла к ближайшей сосне, встала на дыбы, передними лапами уперлась в чешуйчатый ее ствол. Дрогнула редкохвойная верхушка дерева. Сосна слегка накренилась. В болотной почве что-то влажно чавкнуло, и сосна медленно, словно нехотя, повалилась рядом со мной. Вот дерево как-то сразу резко осело. Это медведица, легко вспрыгнув на комель, осторожно пошла по стволу. За ней засеменили медвежата. Длинный ствол сосны зыбко прогибался под тяжестью зверей. При каждом толчке какой-то неровностью мне больно ударяло по голове, и я все глубже и глубже проседал в бездонную пучину. Я уже не мог смотреть на медведей. Я только чувствовал, как все сильнее и сильнее вокруг меня вздрагивает трясина. Вот всей тяжестью ствол навалился мне на затылок. Лицом я уткнулся глубоко в грязь. Нестерпимо ныла шея^ Я задыхался. А тут еще медвежонок, тот, который тонул, поскользнувшись на стволе, грязной своей лапой оперся мне на голову, процарапав когтями кровавые борозды возле уха… Я поднял заляпанное грязью лицо. И только тут вздохнул с облегчением — медведи ушли. С огромным трудом, ухватившись за шершавый ствол сосны, я еле вскарабкался на него, оставив в виде откупа Дешевой трясине новенькие яловые сапоги, И только к полуночи добрался я до покосившейся сторожки Захара Семеныча, что стояла на берегу Кокшаги. Увидев на мне земляной панцирь и мои окровавленные босые ноги, старик лишился дара речи: он сразу понял, что я каким-то чудом вырвался из цепких объятий верной смерти…Об авторе
Рыжов Алексей Михайлович — инженер-лесовод и фенолог. Родился в 1928 году в селе Агеев о Санчурского района Кировской области. За свою жизнь много путешествовал, переменил ряд профессий — был лесорубом, сплавщиком леса, плотником, обозным мастером, шорником. Окончил лесной техникум, затем Поволжский лесотехнический институт, много лет работал лесничим в вятских лесах, сейчас руководит леспромхозом. Опубликовал в центральной печати несколько научных статей на лесную тематику и в местной печати много художественных очерков и зарисовок. В сборнике 1968 года выступил со статьей «Деревья-исполины», в выпуске 1970 года с рассказом «За Гнилой ложбиной». В настоящее время работает над серией рассказов о природе средней полосы России.
А. Яблоков
ЛЕТНЯЯ ЗИМОВКА

Очерк Рис. В. Сурикова
Наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была и будет высшим проявлением любви, только ею одною человек победит природу…А. П. Чехов
Лето. Июль… Холодный сырой ветер пронизывает брезентовую штормовую куртку и плотный шерстяной свитер. Мелкие снежинки колют лицо, тают на усах. Под ногами хрустит лед… Он расстилается вокруг нас, он уходит в неведомую глубину под нами, он висит на склонах гор и даже падает с неба ледяной крупой. Мы на леднике. Он невелик: около четырех километров длиной и с километр шириной. Обычный кавказский долинный ледник. Называется Хакель. Несколько запорошенных снегом палаток нашей небольшой гляциологической экспедиции стоят на широких, словно плоты, деревянных щитах, защищающих от сырости и трещин. Мы будто на дрейфующей льдине. Хотя почему будто? Ведь ледник действительно движется, и мы вместе с ним сползаем вниз. И под палатками, как на настоящей льдине, разверзаются иногда бездонные темные трещины, заставляющие нас перетаскивать наши легкие жилища. Холодно. Сыро. Высота 2600 метров над уровнем моря. Царство вечных снегов. Что же мы здесь делаем? Ледники — гигантские аккумуляторы и одновременно источники влаги. Они дают начало многим горным рекам, орошающим сады и поля предгорных долин Северного Кавказа. С каждым годом площадь этих полей и садов увеличивается, им все больше и больше требуется влаги, а сами источники воды — ледники с каждым годом отступают, уменьшаясь в размерах, — теряя влаги больше, чем получают. Но еще неизвестно, постоянное это отступание или только временное и нельзя ли регулировать таяние ледников. Вот и нужно изучить их жизнь, или, выражаясь более ученым языком, их баланс и динамику. Для этого и забрались на ледник Хакель гляциологи. Необходимо узнать, сколько осадков выпадает на поверхность ледника за лето, сколько льда стаивает, как действуют на таяние ледника температура и влажность воздуха, ветер, солнечная радиация, как движется сам ледник, выяснить сложные взаимоотношения льда и атмосферы. Нужно просидеть на леднике в наших тонких палатках все высокогорное лето — четыре месяца, как раз тот период, когда стаивает все, накопленное ледником за год. Делая наблюдения на одном леднике, мы узнаем характер и других, находим общие закономерности, связи. И вот мы открыли свою сухопутную дрейфующую станцию на северном склоне Главного Кавказского хребта в истоках Теберды — большого притока Кубани, в нескольких километрах от Клухорского перевала. Началось лето, началась «зимовка», вернее, дрейф. Нас было шестеро. Возглавлял экспедицию начальник гляциологической партии Северо-Кавказской гидрометслужбы Василий Панов. Невысокого роста, сухощавый, крепкий, с неутомимыми мускулами бывалого путешественника и пытливым умом по-настоящему преданного науке человека. По образованию он, как и я, географ. Как-то, зайдя к нему домой, я увидел несколько полок с книгами, среди которых были очень редкие, порой уникальные издания, и большую картотеку. На одну сторону карточки Василий заносил название прочитанной книги или статьи, на другую — ее очень сжатое, краткое изложение, самую суть. У него было более пятисот таких карточек, посвященных гляциологии Кавказа, но он все еще что-то читал, выписывал, рылся в библиотеках и читальнях. Часто, очень часто человек, получив вузовский диплом, вполне искренне считает, что с учебой покончено. А ведь учиться необходимо всю жизнь. Как-то американские специалисты подсчитали, что человек с высшим образованием, не пополняющий постоянно своих знаний, теряет квалификацию всего через восемь лет после окончания вуза. Я вспомнил об этом еще раз, когда держал в руках книгу Василия Панова о ледниках Северного Кавказа. Старший техник Саша Астапенко был, пожалуй, физически самым сильным среди нас. Как раньше говорили, гренадерский рост, широкие крепкие плечи, богатырские мышцы уживались в нем, как это нередко бывает, с самым мирным и добродушным характером. Словно невесомые, таскал он гидрологические мостики, тяжелые рюкзаки с продуктами, увесистые связки досок для щитов под палатки, неудобные канистры с горючим для наших примусов. Хороший специалист, опытный гидролог, он вел наблюдения на нашем гидрологическом посту у края ледника. Лед на его поверхности таял, а под палатками, вернее, под щитами оставался нетронутым, поэтому через каждые две-три недели наши жилища оказывались приподнятыми на ледяных постаментах, и их приходилось переносить на другое место. И тут никак нельзя было обойтись без Сашиной помощи. С ним можно было отправляться куда угодно, хоть на край света, столько было в нем всегда здоровья, бодрости, оптимизма. Старший техник Люда Котенко была нашим главным метеонаблюдателем. А наблюдать приходилось и ночью, и днем, и в ясную погоду, и в метель, и в грозу, когда ослепительные молнии рвали облака прямо над головой. В дополнение ко всему прочему нас несколько раз тряхнуло подземными толчками и от них со скал на ледник сыпались камни. Но Люду очень интересовала гляциология, и впоследствии она стала инженером, овладев этой, казалось бы, совсем не женской специальностью. Я, инженер отряда, раньше работал в горах Средней Азии, зимовал на высокогорных метеостанциях, ходил с экспедициями по ледникам Тянь-Шаня и Алая. И вот беспокойная судьба гляциолога привела меня на Кавказ. Организация нашей «сухопутной дрейфующей станции» прошла довольно быстро. За один день мы добрались от Ростова до метеостанции «Клухорский перевал», где кончалась дорога, а потом за неделю перетащили все наше имущество на ледник. У нас на вооружении были самые различные приборы. Анероид напоминает большой толстый компас. Стрелка медленно ползет по кругу, показывая атмосферное давление. В конце прошлого века пытались делать прогнозы погоды только по изменению давления, и на анероидах писали «Дождь», «Буря», «Переменно», «Великая сушь». Однако вскоре стало ясно, что только по показаниям анероида погоду прогнозировать нельзя, нужны и другие метеорологические наблюдения. Психрометр Ассмана — словно заводная игрушка. Два маленьких термометра, один обмотан влажным батистом. Вентилятор гонит мимо термометров струю воздуха, и по их показаниям определяются температура и влажность. Психрометры укрепляются на коротких реях невысокой мачты. Она так и называется — градиентная. Мачта укреплена во льду. Мы ведем наблюдения на разных уровнях, от поверхности льда до двух метров высоты. Рядом с каждым психрометром анемометр. Это маленькая вертушка с циферблатом. Чем сильнее ветер, тем быстрее бегут по циферблату стрелки. На верхушке мачты флюгер, показывающий направление ветра. Недалеко осадкомер, похожий на металлический цветок. Узкое высокое ведро окружено металлическими лепестками. Они гасят скорость ветра и не позволяют ему выдувать скопившуюся влагу. Еще дальше — актинометрические приборы, самые сложные. Главный из них, актинометр, словно небольшой телескоп, направлен на солнце. Он показывает интенсивность солнечной радиации в калориях на квадратный сантиметр. Балансомер напоминает короткую лопатку. Его назначение — определять разницу между притоком тепла сверху, от солнца, и снизу, от земли. Днем, когда греет солнце, этот баланс считается положительным, ночью, когда нагретая земля отдает свое тепло, — отрицательным. Со льдом дело обстоит сложнее. Как именно — нам и предстоит узнать. А альбедометр определяет альбедо, то есть ту часть солнечного тепла, которая отражается снегом, льдом и почвой обратно в атмосферу. Под стеклянным куполом величиной не больше стакана находится крошечная «шахматная доска», разбитая на черные и белые квадратики. Это термоэлементы. Из-за разной окраски солнце нагревает их неодинаково. Между ними возникает очень слабый электрический ток, сила которого определяется чувствительным гальванометром. Есть и другие приборы, более сложные. Это самописцы. Завел, поставил — и прибор сам работает целые сутки, а то и неделю, старательно чертит на разграфленной ленте тонкую линию. Барограф, термограф, гигрограф — три «графа» лучше заправского метеоролога наблюдают за давлением, температурой и влажностью воздуха. Но все перечисленные приборы регистрируют только погоду. А ведь нужно знать, как она действует на ледник. Почти весь он утыкан высокими деревянными рейками с Делениями. У этих реек несколько назначений. Во-первых, по ним мы определяем, сколько, при какой погоде и в каком месте ледника стаяло снега, льда или, наоборот, выпало. Здесь, в верховьях ледника, осадки и летом выпадают в виде снега. Во-вторых, ледник движется, сдвигаются и рейки. А мы, отмечая раз в несколько дней их расположение, получаем представление о движении ледника. В-третьих, лед тает не только на поверхности, но и у дна ледника, движется лед неравномерно, его поверхность то чуть прогибается, то поднимается волной, и все это отмечают наши самые простые и в то же время такие надежные приборы — обыкновенные деревянные рейки. А там, где их не хватило, мы краской пометили камни и по ним определяли таяние и движение ледника. Внизу, у конца ледника, где из гулкого, наполненного густой таинственной синевой грота вырывалась речка, устроили гидрологический пост: забили в дно реки сваю с делениями, принесли и установили небольшой легкий мостик. Сейчас об этом легко говорить, но каково было тащить на себе трехметровые железные пролеты по камням! Стали наблюдать за расходом воды, стараясь установить его связь с погодой и состоянием ледника. Как-то в один из первых дней пребывания на леднике я спустился на метеостанцию, которая находилась километрах в шести от нас. Взяв там почту и узнав последние новости, я стал подниматься обратно на нашу летнюю зимовку. Чтобы сократить расстояние, я изменил маршрут и пошел напрямик через дремучие заросли кустов, среди которых ярко белели альпийские розы — рододендроны. Вдруг под ногой что-то звякнуло раз, другой. Наклонившись, я увидел, что вся земля усыпана старыми ржавыми гильзами пулеметных патронов. Валялся сломанный ржавый штык. Чуть дальше темнела груда гаубичных гильз. А пройдя еще немного, я наткнулся на рухнувший блиндаж, сложенный из больших гранитных плит. И тут я вспомнил: ведь это здесь, по гребню и перевалам Главного Кавказского хребта, во время войны проходила линия фронта. Сюда Гитлер бросил отборный корпус «Эдельвейс», дав название нежного высокогорного цветка воинскому соединению специально подготовленных солдат, прошедших длительную тренировку в Альпах, овладевших искусством горных восхождений. Горная гвардия бесноватого фюрера была обеспечена и оружием, и специальным альпинистским снаряжением: ледорубами, веревками, горными ботинками, теплыми штормовыми куртками, темными очками. Даже артиллерия была специальная — легкие горные гаубицы, которые в разобранном виде могли нести несколько человек. В нашей армии тогда не было таких же специальных горных частей, их только начинали формировать из бывших альпинистов. И на пути опытного врага встали солдаты и матросы в обыкновенных шинелях, бушлатах, кирзовых сапогах. Многие из них никогда до этого не бывали в горах, не умели остерегаться трещин, лавин и обвалов, карабкаться по обледенелым склонам, не знали коварства высокогорной природы. Но они встали на пути врага и остановили его. Пришлось «эдельвейсам» окапываться здесь, под Хакелем, на подступах к Клухорскому перевалу, под Марухским перевалом и в других местах. Гитлеровцы были уверены, что это всего лишь временная задержка, что скоро они вновь пойдут дальше. Но им пришлось отступить, бросая оружие и снаряжение. Говорили, что в глубоком озере у самого Клухорского перевала немцы при отступлении утопили несколько автомашин с боеприпасами. Несколько раз мы поднимались к самым истокам ледника, на высоту трех тысяч метров над уровнем моря, и там в трещинах измеряли толщину слоев фирна — полуснега-полульда, белого, плотного. Из него состоит самая верхняя часть ледника, где происходит превращение пушистых снежинок в монолитный лед. Фирн — это очень сильно спрессовавшийся снег. Но настоящим голубым полупрозрачным льдом он станет лишь через много лет. Жаль, что не удалось спуститься в одну из ледниковых трещин. Хотелось узнать толщину ледника. По теоретическим подсчетам, она доходила до ста метров (для сравнения можно указать, что максимальная глубина Аральского моря шестьдесят семь метров). И вся эта толща медленно ползет вниз. Ниже ледника долину перегораживали несколько невысоких каменных валов. Это древние конечные морены ледника. Когда-то Хакель был больше, его язык опускался ниже, и все камни, какие падали и скатывались со склонов на ледник, двигались на нем, нагромождаясь в конце каменным валом. Но вот наступило потепление климата, льда стало таять больше, чем образовываться, и ледник начал отступать, пока не достиг состояния равновесия: сколько тает, столько и образуется. На, новой границе ледника тоже возникла каменная гряда — конечная морена. Затем новое потепление, новое отступление ледника, на этих древних моренах местами выросли деревья, и по их возрасту можно приблизительно определить и возраст самой морены. Для этого нужно сосчитать число колец на срезе самого старого дерева, растущего здесь. Но эта упрощенная картина в действительности сложнее, так как в отдельные периоды ледник не отступал, а наступал. Да, в жизни ледника далеко не ледяное спокойствие. Иногда мы спускались на метеостанцию, где работали наши коллеги из Северо-Кавказской гидрометслужбы. Невзирая на грозную надпись, строго воспрещавшую вход посторонним на радиостанцию, мы заходили в таинственное царство мерцающих шкал, мигающих ламп, загадочного писка морзянки. Отсюда в далекий Ростов летели метеорологические сводки погоды. Удивительный, волшебный радиомир, где разговаривают на странном языке точек и тире, где сочетание точек и тире обозначает буквы и цифры, а сочетание букв и цифр в свою очередь заменяет целые выражения. Например, ОМ — «дорогой товарищ», ТКС — «благодарю», ПСЕ — «пожалуйста», 77С — «привет» и даже… 88С — «целую». И радисты, способные сквозь вой и свист принять, расшифровать и записать автоматные очереди морзянки, казались нам, непосвященным, магами и волшебниками. Как-то раз к нам в гости поднялись двое работников станции, принесли помидоры, огурцы, яблоки. Посмотрели на наши палатки, сочувственно покачали головой: у них на станции тепло, солнечно, а здесь почти всегда висит холодный, сырой полог темных облаков, а порывы ветра сотрясают наши брезентовые жилища. Тут и там под ногами змеились тонкие трещины, и кто мог сказать, не разойдутся ли они в ближайшее время. Несколько раз мы с Василием Пановым, оставив в лагере дежурных, обходили другие тебердинские ледники, делая топографическую съемку, измеряя выпавшие осадки. По сравнению со Средней Азией кавказские ледники очень «удобные», потому что лежат низко, чуть выше двух тысяч метров над уровнем моря. А вот на Туркестанском хребте, на севере Таджикистана, ледники забралиоь вдвое выше. Но зато в Средней Азии летом тепло и сухо, а здесь почти ежедневно снег и дождь. Мы бродили по ледникам со странными романтическими названиями: Алибек, Аманауз, Птыш, Азгек, Буульген. Верховья Теберды — одно из красивейших мест Кавказа. Зарубежные туристы уверяют, что такие пейзажи не встречаются даже в прославленных Альпах. Холодные быстрые речки с кристально чистой водой, бурные прозрачные ручьи и густые леса, яркие альпийские луга, и тут же рядом отвесные скалы, водопады и вечные снега, ледники. На самом деле вечных снегов не существует, напротив, нет ничего более изменчивого, чем снег. Вот снежинка упала из облака на лед. Если тепло — ее лучики обтают, если холодно — на них намерзнет иней. Сверху падают все новые и новые снежинки, в тесноте все их лучики обламываются, красивые звездочки превращаются в неровные снежные крупинки. Потом они слипаются, смерзаются и на большой глубине превращаются в лед, который начинает течь вниз. Многим приходилось, конечно, видеть, как течет вар, оставаясь твердым, холодным и хрупким. Вот так же и лед.

И то, что нам кажется снегом на вершинах гор, это лед и фирн, иногда припорошенные снегом. А вот разновидностей ледников очень много. Бывают ледники висячие, расположенные на горных склонах, обычно на северных. Они имеют вид или узких ледяных потоков или широких полей (похожих издали на снежные поля). Есть ледники каровые, заполняющие кары — гигантские опрокинутые ниши, или, как их еще называют, кресловины. Есть долинные, целиком или частично заполняющие долину, словно замерзшая широкая и глубокая, но очень короткая река. Таков наш Хакель. Эти ледники бывают простыми и дендритовыми, когда их очертания напоминают дерево: в главное русло впадают ледники-притоки. Иногда ледники располагаются внутри кратеров древних вулканов. Некоторые ледники имеют вид «шапки», покрывающей «голову» горы, например на Эльбрусе, на Казбеке. Это ледники конических вершин. В полярных странах — Арктике и Антарктике можно встретить шельфовые ледники, ледниковые щиты, ледниковые купола, выводные ледники и т. п. И нет на свете двух одинаковых ледников. Сейчас они отступают. С 1902 по 1944 год площадь ледников Швейцарии уменьшилась на 25 процентов. Кажется, можно радоваться: чем меньше снега и льда, тем теплее. Но ледники — это аккумуляторы влаги, дающие начало многим рекам. Ледники — это удивительный и своеобразный мир, где реки и ручьи текут в ледяных берегах, исчезая в ледяных колодцах, где можно встретить каменный «гриб» на ледяной ножке, где все вокруг движется, оставаясь на первый взгляд неподвижным, где даже летом — почти зима. Иногда некоторые ледники, например Медвежий на Памире, внезапно начинают наступать, сметая все на своем пути и проходя вместо сантиметров по нескольку десятков метров в сутки. Интересная все-таки наша наука — гляциология! Но профессии бывают разные… Как-то раз мы с Пановым спустились в поселок Теберду километрах в сорока от нас. Обратно ехали на попутной машине, в которой сидели три крепких парня, о чем-то негромко переговариваясь. Мы удивились: у их ног лежала огромная куча мышеловок. Оказалось, это студенты-зоологи приехали изучать кавказских грызунов. — Да, — притворно вздохнул я, — несколько тысяч лет назад три вот таких же парня, бывало, валили мамонта, позднее медведя, а теперь перешли на мышей. Интересно, как их факультет сокращенно называется — мышфак? Один из студентов погрозил кулаком. Я сделал вид, что не заметил этого жеста. — А кто у них руководит полевой практикой? — продолжал я, обращаясь к Василию и игнорируя взгляды парней. — Наверное, какой-нибудь старый, опытный кот, И конечно же, шипит, если кто-нибудь никак не может научиться лов… Машина вздрогнула и остановилась. Мы спрыгнули на землю, дальше наш путь лежал через лес. Конечно же, мы прекрасно знали, борьба с грызунами даже в наш атомный век намного сложнее, чем с любым мед* ведем или тигром. Но ведь и без шутки скучно жить на белом свете… И снова в золоте рассветов, в ослепительном сиянии полуденного солнца, в багрянце закатов, в густом, непроглядном мраке высокогорных ночей, под гул ветра и рокот обвалов, в тумане, в метели — наблюдения, наблюдения, наблюдения… В ноябре, когда мы вернемся в управление, начнется обработка полученных материалов, точно выплавка металла из добытой руды. Порой это занимает больше времени, чем сами наблюдения. И лишь в сосредоточенной тиши кабинетов, под стук счетных машин и шелест страниц медленно появляются из тумана цифр схемы, графики и уравнения, показывающие сложные взаимоотношения различных явлений природы. Только тогда наш труд станет по-настоящему нужным и важным, поможет сделать земли Предкавказья еще более обильными.
Об авторе Яблоков Александр Александрович. Родился в 1934 году в гор. Балахна Горьковской области. Окончил географический факультет Самаркандского университета. По специальности гляциолог. Работает старшим инженером в гляциологической партии Управления гидрометеослужбы Таджикской ССР. Опубликовал несколько научных статей и докладов в журналах «Известия ВГО», «Метеорология и гидрология» и других. Автор научно-художественной книги «Снежная робинзонада», вышедшей в 1968 году в нашем издательстве в серии ППФ, в которой рассказал о сложной и трудной работе метеорологов, радистов, лавинщиков в условиях тянь-шаньского высокогорья. В сборнике «На суше и на море» выступает впервые. В настоящее время работает над новой книгой о нелегком, но очень нужном труде гляциологов.
Ю. Фельчуков
КАКОЙ ЖЕ ОН ВСЕ-ТАКИ
НА САМОМ ДЕЛЕ, ЭТОТ ДУРИАН?

Рассказ Рис. М. Требогановой
Аэрофлот со стремительностью камня, запущенного из пращи, перебросил нас через экватор из заснеженной морозной Москвы во влажную духоту Джакарты. Вскоре синее полотно моря, на котором, как рваные раны, окруженные белой кипенью прибоя, были разбросаны коралловые рифы и островки, кончилось. Изломанная береговая линия, окаймленная снежно-белой пеной набегающих на песок волн, отчеркнула пеструю сумятицу цветных пятен суши от сине-зеленой поверхности Яванского моря. Самолет стал снижаться, и за окнами медленно разворачивалась рельефная карта с зелеными квадратами рисовых полей, сеткой прямых шоссейных и извилистых проселочных дорог, темными пятнами рощиц, спичечными коробками автомобилей и повозок. Через несколько минут самолет пошел на посадку, надвигая на нас утопающие в зелени домики пригорода и растущие на глазах здания аэропорта. Мы жадно вглядывались в незнакомый нам мир, пока тягач-карлик, подцепив тросом махину нашего самолета, таскал его по раскаленным бетонным полосам аэродрома. Мы спустились по трапу и были ошеломлены буйной зеленью деревьев, пламенем ярко-красной черепицы на крышах белых строений аэровокзала, видом смуглой толпы в непривычных для глаза одеждах пестрых расцветок. Не успели мы опомниться, как нас завертела суета, связанная с паспортами, визами, багажом, — словом, со всем тем, с чем неизбежно сталкиваешься после прибытия в другую страну. Дорога из аэропорта в гостиницу напоминала трассу гигантского слалома, на которой вместо вешек приходилось объезжать бесчисленные коляски велорикш — бечаков, крохотные экипажи, запряженные игрушечными, не больше пони, лошадками, автомобили, число которых узость улиц, казалось, увеличивала впятеро. Я несколько раз судорожно замирал на сиденье, ожидая, что мы врежемся в очередное транспортире средство, которое внезапно появлялось перед колесами нашей машины. И все же мы доехали благополучно, несмотря на пугающие новичка особенности уличного движения в Джакарте. Машина остановилась у подъезда гостиницы. С облегчением вздохнув, мы вышли и оказались в водовороте как из-под земли появившихся торговцев-разносчиков. Тесня нас лотками и оглушая криками, они наперебой предлагали сигареты, жевательную резинку, жареные земляные орешки, арбузные и дынные семечки, мятные лепешки и другие соблазнительные вещи, названия которых в этом звенящем гомоне разобрать не удалось. С помощью шофера мы все-таки прорвались в холл отеля. Поднявшись на галерею, опоясывавшую второй этаж и выходившую в просторный внутренний двор, мы прошли в свой номер через уютную веранду, отделенную от соседних невысокой деревянной перегородкой. Уставшие и взмокшие, мы подумали, что на сегодня утомительное знакомство с местной экзотикой закончилось. Но не тут-то было. Ванну пришлось принимать, стоя на полу и поливая себя водой, которую нужно было черпать алюминиевым ковшиком из отделанного кафелем бака. Не знаю, чем объяснить этот феномен, но вода в баке, которая в соответствии с законами физики должна была нагреваться до комнатной температуры, оказалась намного прохладнее, чем из крана. Немного освежившись, мой товарищ и я залезли в клетушки из металлической противомоскитной сетки, где стояли кровати. Сразу заснуть не удалось. В ушах еще звучал рев самолетных двигателей, а перед глазами мелькали цветные кадры впечатлений этого дня. Немного отлежавшись, мы вскоре вновь обрели способность воспринимать окружающее. А оно уже давно заполняло нашу комнату звуками, вливавшимися в черные провалы окон с оживленных ночных улиц. Человек может привыкнуть к любому шуму. Жители домов, окна которых выходят на бойкую магистраль, спокойно засыпают, едва коснувшись головой подушки; человека, живущего у моря, убаюкивает шум прибоя; сон других не тревожит пронзительная перекличка локомотивов на близлежащей станции. Спать можно всюду под любой аккомпанемент, если к нему привыкнуть. Его просто не замечаешь. В наш номер через открытые окна доносились непривычные звуки. Отрывистые звонки колокольчика на тележке продавца шашлыка из курицы, протяжные, похожие на мяуканье выкрики мороженщиков, сухое постукивание палочек по деревянному бруску, привлекавшее внимание любителей лапши, звуки трещеток, оповещавшие, что желающие могут выпить стакан келапа копиор[6], все это имело свой, непонятный тогда для нас смысл. Несмотря на то что этот шум мешал уснуть, он не раздражал. Примерно так я и представлял себе первую ночь в незнакомом южном городе. Все, что происходило, казалось уместным и неизбежным. Поэтому вначале ни мой товарищ, тоже вслушивавшийся в ночную жизнь за окном, ни я не обратили внимания на странный запах, который стал довольно явственно ощущаться в комнате. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы решили приложить все усилия, чтобы поскорее заснуть. Однако с течением времени назойливый — другое слово подобрать трудно — запах становился все сильнее, обволакивая нас и не давая заснуть. Запах шел отовсюду и не исчез даже после того, как все окна были плотно закрыты. Густой и очень неприятный аромат сильнее всего чувствовался возле двери, которая вела на веранду. Он был настолько сложным и непонятным, что у нас ни на минуту не возникало сомнения в том, что наш номер находится непосредственно над кухней. Посовещавшись, мы с приятелем, который, как и я, ворочался на постели, не находя себе места, решили завтра просить, чтобы нам дали другой номер. Правда, от этого решения легче не стало. Сон не приходил. Чертыхаясь, я завернулся в простыню и рискнул выйти на веранду, где уже давно затихли звуки шагов наших соседей и прислуги. Не обнаружив ничего подозрительного ни у дверей, ни на галерее, я перегнулся через перила. Тусклый свет редких лампочек, вокруг которых серовато-желтые ящерки гекконы ловили ночных насекомых, позволял различить во внутреннем дворике аккуратно подстриженные газоны и клумбы с цветами. Предположение, что нас поместили над кухней, пришлось сразу отбросить — снизу доносились оживленные голоса и смех постояльцев, наслаждавшихся ночной прохладой на своих верандах. Так и не выяснив, в чем дело, окончательно измучившись, мы с трудом смогли уснуть только на рассвете. Тайна загадочного запаха была раскрыта на следующий день, когда я в сопровождении коридорного спустился вниз. Прямо под нашей верандой на низком столике лежала большая куча корок, издававших тот самый таинственный, хотя уже и ослабленный неприятный запах. — Что это? — поморщившись, спросил я у нашего коридорного Саида. — Дуриан, — облизнувшись и причмокнув, ответил он. Дуриан?! Я буквально остолбенел. Мне сразу вспомнилось все, что я читал и слышал об этом представителе тропической флоры, упомянуть о котором считает своим долгом каждый, кто побывал в странах Юго-Восточной Азии. Причем в книгах и очерках он фигурирует под самыми разными названиями в зависимости от местного диалекта и способности автора правильно воспроизводить слова чужого языка. Дурио, дурен, дурьян — это всего несколько наименований, под которыми дуриан известен читателям[7]. Как бы ни называли этот плод, сколько бы мнений ни существовало относительно его вкуса, все, кто сталкивался с дурианом, сходились в одном: его запах совершенно непереносим. В этом я сам убедился минувшей ночью. Правда, каждый оценивает запах дуриана по-своему. Одним он напоминает тухлое мясо, другим — аромат выгребной ямы в жаркий день, иным — заношенные носки, натертые чесноком. Честно говоря, мне не удалось припомнить запахи или комбинацию их, которые в какой-то мере могли сравниться с ароматом дуриана. Самым интригующим было то, что он считается изысканным деликатесом у жителей Индонезии, Малайзии, Сингапура и некоторых других стран. Реакция Саида, когда мы проходили мимо остатков этого плода, не вызвала сомнений в этом отношении. Более того, говорят, плод столь вкусен, что его с удовольствием едят звери, которых едва ли можно отнести к числу вегетарианцев, — медведи, тигры, пантеры и другие хищники. Они буквально пасутся под деревьями, когда наступает сезон созревания дуриана и спелые плоды падают на землю. Знатоки утверждают, что если вы сможете преодолеть отвращение, которое вызывает тошнотворный запах, то получите ни с чем не сравнимое удовольствие, отведав обладающую тонким, неповторимым вкусом мякоть дуриана. Естественно, что, припомнив все это, я, несмотря на неудачное знакомство с дурианом, которое, правда, произошло помимо моей воли, еще сильнее захотел убедиться в справедливости утверждений, что этот плод совмещает в себе столь противоположные качества — отвратительный запах и великолепный вкус. Удобный случай вскоре представился. В одно из воскресений мы поехали отдыхать в горы. Причудливо разворачивавшийся серпантин дороги изобиловал поворотами, которые заставляли ахать женщин, ехавших с нами. Из-под лавины зелени, спускавшейся с отвесных скал, неожиданно обнажалась охра или киноварь горных пород. Среди листьев раскрывались ярко-желтые крупные цветы с кроваво-красной метелкой тычинок и пестиков. Эти цветы носили меткое название, которое в переводе означает «девушка жует бетель». Действительно, на улицах городов и деревень многих стран Юго-Восточной Азии можно встретить людей, губы которых окрашены в неестественно яркий красный цвет. При жевании бетеля, представляющего комбинацию листка особого вида перца с плодом арековой пальмы и кусочком гашеной извести, выделяется ярко-красный сок, окрашивающий губы любителей этого своеобразного наркотика. Пока мои спутники любовались открывающимися при каждом повороте дороги горными вершинами, затейливой архитектурой отелей и вилл с голубыми каплями бассейнов, разбросанных по склонам, я обдумывал план: как преподнести им сюрприз в виде дуриана на десерт к завтраку. Говорить об этом заранее я не решался, памятуя о том, что мой товарищ может отбить у них охоту попробовать дуриан, рассказав о первой ночи, проведенной в гостинице. Когда мы приехали, все отправились в лес, начинавшийся сразу за дорогой. Там можно было покормить обезьян, стаи которых сбегались к отелям выпрашивать подачки перед очередным набегом на кукурузные поля. Сославшись на усталость, я остался в отеле, чтобы приступить к осуществлению своего плана. На мою просьбу купить дуриан наша горничная Сити реагировала несколько странно. Сначала она несколько раз переспросила, что мне нужно. Думая, что она не может меня понять из-за моего несовершенного произношения, я взял бумажку и начал азартно рисовать дуриан, каким я запомнил его по картинкам в книгах. Убедившись, что мне нужен именно дуриан, Сити спросила, пробовал ли я его раньше. Решив, что для пользы дела можно немного покривить душой, я даже с некоторой лихостью ответил, что не один раз. Все еще сомневаясь, Сити взяла деньги и ушла. Я же подивился, что осуществление столь невинного желания требует настоящих дипломатических переговоров. Едва мы закончили завтрак в общей гостиной коттеджа, появилась Сити с великолепным плодом дуриана на большом подносе. Я торжественно водрузил его на стол, приготовившись выложить все, что я знаю об этом замечательном представителе экваториальной растительности. Но не тут-то было. Не успел я и рта раскрыть, как самые слабонервные с протестующими воплями бросились вон из-за стола. Более стойкие, зажимая носы, решительно потребовали, чтобы я немедленно унес «эту гадость» и не портил им аппетита. Напрасно я пытался пробудить любопытство присутствующих, расписывая необыкновенные вкусовые качества дуриана. Не помогло и то, что я стыдил их, говоря, что, побывав в тропиках, только самые махровые ретрограды могут упустить случай познакомиться с таким экзотическим фруктом. Словом, через несколько минут под напором превосходящих сил противников экзотики я вместе с дурианом был вынужден удалиться в самый дальний угол двора. Там под развесистой кроной огненного дерева, покрытого пышными гроздьями алых цветов, которые действительно создавали впечатление, что ветви охвачены пламенем, стоял маленький столик и скамейка. Размышляя о человеческой неблагодарности, я одновременно думал о том, как приступить к дуриану, не уронив своего престижа, так как, откровенно говоря, от запаха меня порядком мутило. В это время над невысокой оградой рядом со мной появилась чья-то голова. Через минуту на заборе повисло несколько мальчишек, к которым стали присоединяться и взрослые, привлеченные запахом дуриана. По репликам, которыми они обменивались, я понял, что на заборе заключаются пари. Ни у одного из спорщиков не было ни малейших сомнений, что я подобно другим неискушенным европейцам брошу дуриан, едва только попробую, оставив в их распоряжении желанное лакомство. Зрители расходились только в одном: сколько минут пройдет, прежде чем я позорно ретируюсь. Я оказался между двух огней. Мои приятели на веранде коттеджа, куда они перешли пить кофе, и индонезийцы на заборе весело хихикали, предвкушая забавное зрелище. В этот момент я понял, что чувствует на арене цирка артист, который должен выполнить смертельный трюк на глазах у толпы. Я должен был довести до конца свою затею, в которой начал раскаиваться, если не хотел надолго сделаться мишенью для острот. Пути для отступления были отрезаны. Решив, что на миру и смерть красна, я, не обращая внимания на любопытные взгляды, приступил к делу. Добраться до мякоти было не просто. Представьте себе, что, вооруженные одним только не очень острым ножом, вы должны разрезать свернувшегося клубком ежа, у которого вместо иголок острые твердые шипы сантиметра два длиной и прочная в палец толщиной кожа. Промучившись минут пять под огнем критических замечаний зрителей и исколов руки, я понял, почему дуриан (что в переводе означает шипастик или шипач) получил свое название.

Кое-как мне удалось развалить пополам плод, напоминающий формой и размером среднюю дыню. Внутри оказалось несколько плотно прилегающих друг к другу долек неправильной формы, в каждой из которых под слоем мякоти серовато-кремового цвета скрывалась крупная плоская косточка. Собрав всю свою волю, я отправил в рот первую порцию. По мере того как передо мной росла горка косточек, которые я, стараясь не морщиться, тщательно обсасывал, показывая, какое удовольствие я якобы испытываю, головы над изгородью начали исчезать одна за другой. Ехидные реплики с веранды доносились все реже.Разочарование, написанное на лицах зрителей, ожидания которых я обманул, несколько вознаградило меня за испытываемые муки. Считая, что победа за мной, хотя на столе еще оставались две-три дольки, я решил, что пора кончать. Обратившись к мальчонке лет шести, который одиноко торчал над изгородью, я предложил ему то, что осталось от дуриана. Он протянул чумазую ручонку и с радостным криком загарцевал по пыльной улице. Вкуса дуриана в тот момент я не разобрал. Все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы протолкнуть в горло очередную порцию отвратительно пахнущей, приторной массы с какими-то пленками и волокнами. Блаженно улыбаясь моим мучителям, которые, вытаращив от изумления глаза, смотрели на меня с веранды, я мысленно давал себе клятвы, что никогда не подойду к дуриану ближе чем на сто метров, не говоря уже о том, чтобы его есть. Но справедливо утверждают, что время — лучший лекарь. Примерно через полгода мне довелось поехать на машине в Баньюванги — городок на восточной оконечности острова Ява. Мой коллега Павел Петрович и я не отрываясь смотрели на проносившиеся мимо пейзажи. С одной стороны шоссе над нашими головами шумела река Брантас. Дело в том, что ее воды кофейно-коричневого цвета несут к морю тысячи тонн ила. За много лет осаждающиеся на дне частички превратились в высокую насыпь, возвышающуюся над долиной, по которой и пролегает теперь русло реки. С другой стороны дороги мелькали квадраты и прямоугольники рисовых полей. На них работали крестьяне в конусообразных шляпах, сплетенных из пальмовых листьев. Стоял сухой сезон, поэтому крестьяне не обращали внимания на реку, ревевшую наверху, словно угрожая ринуться в долину, когда ливневые дожди в горах дадут ей новые силы. По мере того как дорога карабкалась вверх, все выше в горы, строгая геометрия рисовых полей долины уступала место волнистым линиям земляных валиков, удерживающих воду на террасах, ширина которых порой не превышала двух метров. Вода через специальные выемки по краям насыпей с веселым журчанием переливалась с одной террасы на другую, чтобы потом, пройдя по канавкам, напоить рисовые поля в долине. Выше поля сменились зарослями. Сначала мне показалось, что это обыкновенный лес. Присмотревшись, я увидел, что между деревьями нет обычного для джунглей густого подлеска. Сопровождавший нас управляющий одной из местных фирм господин Сутарджо объяснил, что это дусун. Так называются полудикие сады. Они принадлежат близлежащей деревне. Эти сады никто специально не разводит. Жители, собирая дикорастущие манго, бананы и другие фрукты, сначала расчищают подлесок только вокруг деревьев, чтобы можно было без труда собирать опавшие плоды. Время от времени они сажают в землю косточки съеденных фруктов. Так постепенно плодовые деревья занимают все больше места, а другие уничтожаются. Немного дальше мое внимание привлекли огромные деревья, раскидистые кроны которых заметно возвышались над окружающей их растительностью. Сутарджо сказал, что это плантации дуриана. Они были заложены еще в пятнадцатом веке. Правители некогда могущественного государства Маджапахит под давлением мусульманских княжеств были вытеснены на восточную оконечность Явы из центральных районов острова. Поскольку дуриан был непременным украшением стола на пирах раджей, то эти деревья специально посадили там, где нашли последнее прибежище некогда могущественные владыки. Видимо, своей сладостью дурианы должны были смягчить правителям Маджапахита горечь поражений. Я с почтением вглядывался в высокие, метров по тридцать, деревья. Прямые мощные ветви густо заросли большими рассеченными на концах и округленными у основания листьями. Снизу можно было разглядеть созревающие плоды. Сутарджо вовремя напомнил, что без особой нужды стоять под деревьями не рекомендуется: сорвавшийся с ветки плод в два-три килограмма весом может не только нокаутировать неосторожно приблизившегося зеваку, но и надолго уложить его в больницу. Кое-где среди деревьев я заметил сохранившиеся зеленовато-желтые соцветия. К моему удивлению, среди деревьев не чувствовалось никакого неприятного запаха, хотя в густой листве скрывались десятки плодов. Оказалось что дурианы приобретают свой специфический аромат только после того, как некоторое время полежат. Свежие, только что сорванные плоды практически не пахнут. Хранить дурианы в свежем состоянии долгое время нельзя. Поэтому, чтобы иметь возможность лакомиться ими в течение длительного времени, местные жители консервируют их. Самый распространенный способ хранения — засолка и маринование. Кстати, в пищу употребляют не только мякоть дуриана, но и семечки, которые едят в жареном и вареном виде. Неприятные впечатления от первого знакомства с дурианом за минувшее время потеряли свою остроту, поэтому Сутарджо не стоило особого труда уговорить меня проделать еще один опыт. Кроме того, по его словам, местные дурианы отличались совершенно особым вкусом и ароматом. Единственным препятствием в осуществлении этого предложения могли послужить возражения Павла Петровича, который, наслушавшись рассказов о дуриане, не согласился бы на это ни под каким видом. Сутарджо сказал, что он берется все устроить сам. В это время дорога привела нас в небольшой поселок — нечто среднее между маленьким городком и большой деревней. Миновав главную и единственную улицу, где можно было встретить даже двухэтажные дома, в первом этаже которых располагались лавки и закусочные, мы остановились у небольшого варунга[8], стоявшего на обочине дороги, чтобы перекусить. Мы вылезли из машины и, пошатываясь, словно моряки, ступившие на твердую землю после долгого плавания, пошли к варунгу. Непрерывная езда в течение пяти часов давала себя знать. В небольшом помещении, крытом пальмовыми листьями, со стенками из бамбуковых циновок, посетителей было немного. За длинным столом из темных тиковых досок на общей скамейке сидели трое мужчин в саронгах и белых рубашках с длинными рукавами. Они не торопясь прихлебывали эстех — холодный чай с кусочками льда. Передняя часть варунга была отгорожена от улицы невысоким барьером с проходом посредине. С левой стороны на прохожих смотрела стойка-витрина, где был размещен обычный набор местных лакомств в больших стеклянных банках: крупук — похожие на хрустящее безе желтовато-розовые тонкие лепешки из креветок, чуть солоноватые на вкус, сладости, маленькие пакетики из пальмовых листьев с клейким вареным рисом со специями, бутылки с неизменным ядовито-красным сиропом для келапа-копиор и, конечно, фрукты. Справа от входа висела разделанная туша козы. Отдельно пласт нутряного жира. Рядом, у маленькой жаровни, колдовал хозяин заведения — бодрый толстяк в засаленных шортах и черной бархатной шапочке. Он отрезал от туши мясо по заказу посетителей и, нарезав его на кусочки размером с ноготь большого пальца, ловко нанизывал на короткие бамбуковые палочки, — Не успели мы сесть за стол, как в воздухе послышался аппетитный аромат жарящегося шашлыка. Насытившись, мы решили осуществить наш план.

К счастью, Павел Петрович не знал индонезийского языка. Сутарджо сказал шоферу, чтобы он купил пару дурианов и незаметно положил их в багажник. Первая часть нашего плана увенчалась успехом. Ничего не подозревая, Павел Петрович, отдохнувший и повеселевший, залез в машину. Как я уже говорил, запах дуриана имеет свойство проникать повсюду. Даже в машине, которая быстро мчалась по шоссе, аромат дурианов, лежавших в багажнике, начал ощущаться довольно скоро. Конечно, ни я, ни Сутарджо, ни шофер, посвященный в нашу тайну, не обращали на это никакого внимания. Но Павел Петрович несколько раз беспокойно потянул носом. Потом, видимо удивленный тем, что остальные никак не реагируют на явно слышимый запах, вопросительно посмотрел на нас. Мы с Сутарджо продолжали оживленно беседовать, словно не замечая беспокойства нашего спутника. Павел Петрович снова брезгливо потянул носом и недовольно проворчал: — Вот, всегда так в этих тропиках — кругом такая красота, а воняет так, что дышать нечем. Давайте закроем окна. Мы скромно промолчали, и стекла были подняты. В жаркой духоте салона запах заметно усилился. Некоторое время Павел Петрович недоуменно осмысливал этот феномен, наконец не выдержал: — Неужели вы не чувствуете этот отвратительный запах? Мы удивленно посмотрели на него, потом друг на друга и отрицательно покачали головами. Говорить мы были не в состоянии. Нас душил смех. Стекла снова опустили. Запах стал слабее, но его не мог унести даже ветер, врывавшийся в окна. Тогда Павел Петрович в отчаянии высунулся наружу чуть не до половины. Естественно, что ближе к багажнику аромат дуриана ощущался сильнее. — Наверное, гадость какая-нибудь на колеса налипла, — пробурчал он, отчаявшись найти место, где бы дышалось легко. Я перевел его слова Сутарджо со своим комментарием, и мы дружно закивали головами, поддержав выдвинутую им версию. В Баньюванги наш спутник приехал в полуобморочном состоянии. Теперь открыть ему секрет мучившего его запаха было совершенно невозможно. Воспользовавшись тем, что наш спутник, едва войдя в номер, метнулся в ванную освежиться, мы с Сутарджо мгновенно съели один дуриан прямо в комнате. К своему изумлению, я обнаружил, что в дуриане, как говорят, что-то есть и не так уж он плохо пахнет. Я отнес это за счет того, что запретный плод, а в данном случае так оно и было, сладок. Появившийся после ванны Павел Петрович, который, освежившись, считал, что все напасти позади, побледнел: в комнате стоял густой аромат дуриана, хотя мы заблаговременно, до его прихода позаботились о том, чтобы уничтожить все следы пиршества. Он долго обнюхивал одежду, обследовал каждый уголок в номере, пытаясь выяснить источник преследовавшего его запаха. Это не дало никаких результатов. Мы тихо ликовали, старательно помогая ему в поисках. Оставив Павла Петровича в номере с горячим компрессом на голове, мы с Сутарджо спустились в бар отеля. Я решил проверить свои ощущения и предложил достать и съесть второй дуриан. Сутарджо с радостью согласился. Когда на столе осталась только куча корок, у меня уже не было сомнений, что дуриан — один из самых вкусных плодов, которые мне приходилось пробовать. Нежная мякоть дуриана по консистенции и вкусу напоминает крем заварного пирожного с легкой, чуть заметной кислинкой. Запах? Конечно, запах есть. Но он тоже составляет одну из привлекательных особенностей дуриана. Вспомните, сколько людей ценят сыр рокфор за его своеобразный аромат столь же высоко, как и за острый вкус. А ведь иным запах рокфора может показаться отвратительным. А разве вам самим никогда не приходилось пробовать у рыбаков специально приготовленную воблу «с душком»? Более того, настоящие гурманы не признают дичь, если она не «с тухлинкой». Так и дуриан — оценить его вкус и аромат в полной мере могут только настоящие любители-знатоки, к клану которых я окончательно приобщился на следующий день. Сутарджо разбудил меня задолго до рассвета. Меня ожидала увлекательная поездка на местный рынок, славившийся обилием овощей и фруктов, которые привозили не только из окрестных деревень, но даже с острова Бали. К моему удивлению, дорога на базар заняла больше времени, чем можно было ожидать, судя по расстоянию. Уж очень часто приходилось делать остановки или тащиться черепашьим шагом. Машина с трудом пробивалась сквозь пеструю толпу, запрудившую узкие улочки. Хозяйки спешили на рынок, чтобы прийти пораньше, иметь возможность выбрать все самое свежее и лучшее. Главное препятствие на нашем пути, впрочем, как и в любом другом месте, представляли велорикши — бечаки. Их с полным правом можно считать основным и самым колоритным элементом уличного движения. Одетый в живописные и не слишком обременяющие одеяния, первоначальное назначение которых трудно определить из-за бесчисленных дыр и заплат, бечак гордо восседает на велосипедном седле, возвышаясь позади двухместной коляски. Мускулистые ноги неутомимо крутят педали в палящий зной и во время тропического ливня, когда толстые, почти осязаемые струи-веревки больно хлещут по телу. А везти трехколесный экипаж нелегко. Он только считается двухместным, но в нем зачастую можно увидеть целую семью из четырех-пяти человек или гору разнообразных грузов. Не удивительно, что здоровые деревенские парни, которых земельный голод погнал в город, через пять-шесть лет такой работы становятся инвалидами. И все-таки нет на дорогах Страны трех тысяч островов более веселых и остроумных людей, чем бечаки, которые, невзирая ни на что, не обращая внимания на ругань шоферов, стараются протиснуться в самую узкую щель, открывающуюся в потоке транспорта. Правила уличного движения они просто игнорируют. Считайте, что вам крупно повезло, если владелец ярко раскрашенной коляски, следующей в метре от радиатора вашего автомобиля, предупреждающе поднимет руку о вытянутым пальцем, прежде чем сделать какой-нибудь головокружительный маневр: резко затормозит, повернет там, где нет ни малейшего намека на поворот, наискосок пересечет улицу, многоголосый шум которой сразу перекроет раздирающий уши визг и скрежет тормозов на полной скорости остановившихся машин. Вы скоро привыкаете к этому и воспринимаете все совершенно спокойно. О приближении рынка можно было безошибочно догадаться по тому, что на обочине дороги все чаще попадались жители окрестных деревень. Свои нехитрые товары они везли в небольших тележках, а чаще несли прямо на себе.. Было еще совсем темно, но уже издали по силуэту можно было отличить мужчин от женщин. Мужчины несли грузы на гибком бамбуковом коромысле, на концах которого подпрыгивали в такт шагам плетеные корзины. Порой ноша совсем скрывала носильщика. Из-под огромных свертков с циновками или другой поклажей виднелись только семенящие мускулистые ноги. Женщины несли свою кладь на голове, возводя настоящие башни и пирамиды. Демонстрируя чудеса эквилибристики, они ловко лавировали в толпе, умудряясь ничего не ронять. Вскоре встречный ветерок донес до нас усиливающийся запах гниющих овощей и фруктов, дымок пригоревших на углях початков кукурузы, которые поджаривались на железных противнях, и теперь уже знакомый и не вызывающий неприятных ассоциаций аромат дурианов. Мы подъехали к рынку, когда густая чернильная темнота ночи на мгновение сменилась серой дымкой предрассветных сумерек, которую слизнул первый же луч солнца, окрасивший все вокруг в сверкающие краски ясного дня. Сутарджо сразу приступил к делу. Дурианы, как и арбузы, глубоко индивидуальны. На них нет стандартной цены. При покупке все решает опыт, хладнокровие и знание предмета. Наверное, каждому приходилось видеть людей, которые самозабвенно роются в кучах арбузов, прикладывая их к уху и надавливая ладонями, щелкают пальцем по кожуре, напряженно вслушиваясь в раздающийся звук, пристально вглядываются в сморщенный хвостик, выбирая лучший из лучших по известным только им признакам. Должен сказать, что это зрелище не идет ни в какое сравнение с ритуалом — другого слова не подберешь — приобретения дуриана. Сутарджо был не только мастер по части выбора дурианов, но и большой знаток человеческой психики. Он не стал подобно неумелым покупателям кружить вокруг да около с напускным безразличием. Чем-то Сутарджо напомнил мне завзятого рыболова, который со спиннингом в руке идет по берегу, не замечая дилетантов с удочками. Его интересует крупная добыча, и поэтому он смело забрасывает блесну в самые опасные места, где много коряг в глубоких омутах, туда, где рискуешь потерять леску. Он шел к дурианам с открытым забралом. Самый неискушенный продавец заветных плодов ясно мог прочитать на его лице девиз: «Иду на вы». Повинуясь указаниям моего наставника, я тоже не обращал внимания на корзины с манго, бордовыми мангу станами, скрывающими под толстой кожурой снежно-белые кисло-сладкие дольки мякоти, размером и формой напоминающие головку чеснока, на красные рамбутаны, словно покрытые лохматой шерстью, на все богатство и разнообразие плодов и фруктов южного рынка. Когда мы подошли к навесу, где торговали дурианами, нас уже ожидали, еще издалека признав в нас опытных покупателей. Как по команде к нам протянулись десятки рук. Каждый продавец, стараясь перекричать соседа, уверял, что его дурианы самые сладкие и душистые. Они клялись своим счастьем и спокойствием ушедших в мир иной родителей, призывали в свидетели своей правоты аллаха и пророка Магомета. Сутарджо окинул оценивающим взглядом весь ряд, где кучками прямо на земле, в связках по нескольку штук и навалом в широких корзинах, лежали дурианы всех оттенков и размеров. Мы остановились у корзины с красновато-коричневыми дурианами, треснувшая кожура которых говорила об их полной зрелости. Гомон сразу стих. Привилегия опытного покупателя — выбирать в спокойной обстановке. Продавцы знают, что напрасно пытаться сбить его криками и суетой. Этот прием действует только на новичков. Сутарджо отобрал несколько штук. Через каких-нибудь полчаса яростного торга (меньше никак нельзя, иначе могут подумать, что вы не уважаете ни себя, ни продавца) соглашение о цене было достигнуто. Однако это было только начало, С суровым видом Сутарджо спросил: — Даешь гарантию, что дурианы сладкие? — Если не понравятся, — затараторил продавец, стуча себя в грудь и снова поминая своих предков и пророка Магомета, — господин может заменить на любой другой. Но у меня нет плохих, все дурианы сладкие. Если продавец дал вам гарантию, вы победили в этой извечной борьбе продавца и покупателя. Ловите его на слове и требуйте, чтобы он дал попробовать. Вот тут-то и наступает самый ответственный момент. Острый нож прорезает крохотное треугольное отверстие в толстой корке, обнажая мякоть. Чтобы определить, насколько дуриан мясист, вы погружаете в нее соломинку и потом долго рассматриваете кончик, несколько разочарованно покачивая головой. Не лишне в этот момент упомянуть, что вот, дескать, прошлый раз мякоть была куда толще. Затем с кончика ножа пробуете небольшой кусочек, который смакуете с отрешенным видом, показывая продавцу, с беспокойством следящему за вами, что он не ошибся, посчитав вас за настоящего знатока. Эти манипуляции сэкономят вам минут пятнадцать, если вкус вас не удовлетворит. Заменяя дуриан, продавец будет препираться с вами не больше пяти минут и то просто по инерции, если вы действовали строго в соответствии с выработанным ритуалом. А когда он согласится на замену, у вас будет возможность повторить всю увлекательную процедуру покупки дуриана с самого начала. Наконец вы выбрали то, что вам нужно, и возвращаетесь домой, с тоской думая о том, что вас ждет впереди. Вас будет гнать из комнаты собственная жена, которая, конечно, терпеть не может запах дуриана. Соседи начнут ворчать, что некоторые, мол, не хотят считаться с другими людьми и думают только о своем удовольствии. В результате вам придется в одиночестве, словно отверженному, наслаждаться своим приобретением где-то на задворках, откуда в жилые помещения не дойдет пряный аромат дуриана, который вы уже успели полюбить. Когда мы с Сутарджо вернулись в гостиницу с целой связкой отборных плодов, во дворе нам встретился Павел Петрович. Увидев у нас у руках дурианы, он, конечно, сразу догадался, что с ним произошло накануне. Мне кажется, только присутствие Сутарджо спасло меня в тот момент от жестокой расправы. Если после этой поездки любители дурианов приобрели в моем лице стойкого последователя, то я представляю, какими эпитетами уснащает Павел Петрович свое повествование, отвечая на чей-нибудь вопрос: «А какой же он все-таки на самом деле, этот дуриан?»
Об авторе Фельчуков Юрий Валерьевич. Родился в 1932 году в гор. Донецке. Окончил Институт восточных языков при МГУ. Начал печататься в журнале «Вокруг света» в 1956 году. Несколько лет пробыл в странах Юго-Восточной Азии, из них больше всего в Индонезии. Работал преподавателем в вузах Москвы. Выступал на страницах периодической печати по международной тематике. Член Союза журналистов СССР. В последнее время опубликовал рассказы в журналах «Вокруг света» и «Юный натуралист». В нашем сборнике публикуется впервые, В настоящее время работает над повестью для детей.
Кесри Сингх
ТИГР РАДЖАСТХАНА

Фрагменты из книги Перевод с английского М. Виленского и В. Родина Рис. Г. Чижевского
Осторожный тигр
Охота на тигров не терпит безрассудства — таково мое глубокое убеждение. Человек, который ходит на тигра раз или два в жизни и при этом действует торопливо и необдуманно, подвергает себя большому риску и остается без трофеев. Профессионал так вести себя не может. На его долю и без того хватает риска даже при нормальном ходе охоты. Встретившись с тигром (или пантерой), человек понимает, сколь он смехотворно слаб и жалок по сравнению со зверем, который движется бесшумно, как тень, и может сокрушить человека одним ударом лапы; охотник противопоставляет ему смекалку и огнестрельное оружие — превосходное оснащение, если только вы точно знаете, как использовать и то и другое. Вся тонкость искусства охоты на тигров заключается в том, как именно с помощью человеческого разума нанести зверю поражение в его собственных владениях. Во многих отношениях это напоминает шахматную партию: необходимо заготовить план с заранее разработанными вариантами и не делать случайных или излишне самоуверенных ходов. Того, кто об этом забывает, ждет тяжелая расплата. Как истинные представители семейства кошачьих, тигры отличаются широким разнообразием резко выраженных индивидуальных характеров. Тем не менее, потратив жизнь на изучение тигров и борьбу с ними, я считаю, что практически по доминирующим особенностям характера их можно разделить на четыре основные группы: осторожных, беспечных, отважных и робких. Разумеется, эти категории претендуют на точность и полноту охвата не более чем классификация, с помощью которой философы и физиологи разных школ издавна пытались разделить род человеческий по типу темпераментов. В защиту своей классификации я могу сказать лишь, что она проверена на практике и исправно служит мне для оценки возможного поведения тигра. Естественно, наиболее сложно охотиться на осторожного тигра. Чтобы убить или сфотографировать такого зверя, приходится прибегать к различным ухищрениям. Думается, осторожность — врожденное качество и, вероятно, результат хороших уроков, полученных в детстве от матери. Вопреки утверждениям некоторых, осторожность присуща не одним только старым, больным животным, которым приходится постоянно заботиться о том, чтобы спасать свою шкуру. Самые крупные, отменного здоровья тигры, которых я встречал в своей жизни, оказывались также и наиболее осторожными. Это произошло в те дни, когда я возглавил охотничье управление в штате Гвалиор. Мне стало известно, что в окрестностях местечка Кер Кхо обитает поистине чудовищный тигр. Предполагалось, что штат посетит вице-король лорд Ридинг. Возникла идея устроить охоту, с тем чтобы вице-король добыл этот великолепный трофей. Я изложил свой план магарадже, подчеркнув, что речь идет о необычайно крупном звере. Магараджа охотно принял этот план. Но когда настал час охоты, я был абсолютно не в состоянии отыскать обещанного полосатого гиганта. Зверь был настолько умен, что не удавались все попытки засечь его местонахождение. Он уносил и частично пожирал животных, которых мы привязывали в качестве приманки, но каждый раз ускользал из долины до восхода солнца. Даже самые опытные следопыты теряли его след. Тигр предпочитал твердую или травянистую почву, а через тропинки, колеи и другие мягкие или пыльные участки перемахивал одним прыжком. Однажды в серой предрассветной мгле я еще раз спустился в долину. Как обычно, я обнаружил останки несчастного буйвола, но сам тигр ушел. Это было видно по тому, что вороны и коршуны уже сидели над трупом, а тигры не делятся добычей с охотниками за падалью. Пока тигр держится поблизости от своей добычи, ни один мародер джунглей не рискнет к ней приблизиться. Я тут же послал в джунгли следопытов, но, как и прежде, они не обнаружили ни единого отпечатка лапы. Потеряв всякую надежду, я собрался возвращаться в охотничий лагерь магараджи, как вдруг ко мне подбежали два крестьянина, работавшие неподалеку в поле и, тяжело дыша, сообщили, что видели большого тигра, который плыл по реке. По их рассказам, зверь проплыл некоторое расстояние близ берега, а затем вышел из воды на каменистом участке и направился в сторону приманки. Из этого я заключил, что тигра что-то напугало, помешав ему кончить трапезу (возможно, мое приближение), и он спустился в долину, вошел в воду, чтобы запутать следы, а затем надумал вернуться к прерванному обеду. На этом предположении я построил план действий. По случаю охоты был протянут полевой телефон. Я переправился через реку и, связавшись с магараджей, предложил ему прибыть как можно скорее вместе с вице-королем. Менее чем через два часа вся группа оказалась здесь. Тем временем я уточнил план кампании. Долина имела очертания вытянутой подковы, упирающейся концами в реку. Если смотреть со стороны воды, на правой стороне подковы было меньше растительности и других естественных укрытий. Оба откоса высокие и весьма крутые. Зверь, уходящий от облавы по долине к реке, наверняка должен был держаться левой стороны, где больше укрытий. Поэтому я расставил линию загонщиков у верхнего изгиба подковы, велев им быть готовыми гнать тигра к реке, если, разумеется, он окажется в долине. У меня же была хорошая огневая позиция — махан на ветвях дерева, откуда открывался прекрасный обзор местности. По ней должен следовать тигр, который, как я полагал, будет держаться ближе к левому склону. Как только прибыла группа высокопоставленных гостей, я предложил лорду Ридингу взобраться на махан. Он отказался, сказав, что на такой высоте у него закружится голова и он не сможет точно выстрелить. Вице-король добавил, что сумеет очень хорошо все сделать с того места, где сейчас находится, то есть с земли. Итак, я отправился дать сигнал загонщикам начинать облаву, а вице-король, магараджа и сэр Малькольм Хейли, сопровождавший лорда Ридинга, уселись в высокой траве у реки. Вскоре мне в голову пришла новая мысль: а что, если этот тигр с его осторожностью и столь тонкой интуицией решит действовать по-другому и убежит из долины там, где правая сторона подковы выходит к реке? Имея это в виду, я занял позицию на том же берегу, где и магараджа, но ярдов на сто правее. И мои надежды, что тигр находится в долине, и мои дурные предчувствия относительно его поведения оправдались. Тигр, должно быть, двигался очень медленно, потому что вдруг я увидел его огромное полосатое тело в редком кустарнике всего лишь в нескольких ярдах перед загонщиками — их головы торчали над кустами. Тигр двигался по правой, именно по правой стороне долины. Заметив тигра, я отвернулся, кашлянул и выронил белый платок. Тигр сел и замер, предполагая или по крайней мере надеясь, что я его не вижу. Я повернулся и медленно зашагал вправо, «внушая» тигру, что опасность ему грозит с этой стороны, и побуждая его двинуться по берегу в противоположную левую сторону, под выстрелы охотников. Шагая, я наблюдал за тигром уголком глаза и с облегчением увидел, как он встал, пошел налево и исчез из поля зрения. Линия загонщиков по заранее намеченному плану остановилась. Ими непосредственно руководили шикари. Но мой маленький трюк отнюдь не обманул тигра. Ибо вместо того, чтобы продолжать двигаться влево, он внезапно вышел из высокой густой травы прямо к реке, спокойно погрузился в воду и поплыл на противоположный берег. Течение заставило его пересекать русло по диагонали, и он держал курс прямехонько на группу людей, дожидавшихся его на противоположном берегу. Возможно, тигр их не замечал. Когда тигр плывет, он погружает в воду все тело и лишь часть морды торчит над поверхностью. Плывущего тигра легко заметить только в очень спокойной воде, когда от его морды расходятся небольшие волны. Несколько обеспокоенный тем, что магараджа и его гости могут не заметить приближающегося зверя, я крикнул и побежал к ним. На бегу я услышал два выстрела, один за другим, а затем, когда был уже рядом со стрелками, раздалось еще два. Вся группа казалась очень взволнованной. Было похоже, что у магараджи и вице-короля что-то неладно с ружьями, а сэр Малькольм, вооруженный лишь тросточкой, сжимал это свое «грозное оружие» с мрачной решимостью. Тигр был в воде на расстоянии нескольких ярдов. А произошло вот что. Все трое заметили, как тигр вошел в воду несколько выше по течению и поплыл по направлению к ним. Лорд Ридинг и магараджа были вооружены двустволками, и, заметив зверя, лорд Ридинг разрядил в него оба ствола. Но мишень была слишком мала, и он промазал. Тигр, не меняя курса, плыл прямо на них. Вице-король перезарядил ружье и снова выстрелил из обоих стволов. И опять промахнулся. Тигр неумолимо приближался. Магараджа, который был превосходным и обычно весьма хладнокровным стрелком, пока что не стрелял. Он хотел, чтобы знатный гость добыл свой трофей, и был уверен, что в крайнем случае всегда сумеет вышибить из тигра мозги до того, как тот выберется на берег. Однако после последнего выстрела вице-короля он решил, что игра зашла слишком далеко, поднял ружье, тщательно прицелился и нажал спусковой крючок. К несчастью, оружие оказалось незаряженным. Тогда, торопясь зарядить ружье, магараджа сунул руку в карман куртки, где обычно держал про запас два-три патрона. Но там их не было. Вместо этого его пальцы нащупали металлический свисток, весьма напоминающий по форме медный патрон. Магараджа, не глядя, впихнул его в казенную часть, ее заклинило свистком, и ружье стало непригодным для стрельбы. Все это заняло всего лишь несколько мгновений, а вице-король, стрелок довольно посредственный, тем временем лихорадочно пытался перезарядить ружье, чтобы сделать последнюю попытку. Именно в этот напряженный момент я и появился на сцене. Я поднял ружье, но не успел спустить курок, как тигр, видя такую бешеную активность поджидающей его на берегу компании, повернулся и поплыл обратно к противоположному берегу. Все перевели дух, и оба стрелка получили время перезарядить ружья без спешки. Я попросил вице-короля не стрелять, покуда зверь не выберется на берег и не станет хорошей мишенью. Преодолевая течение, тигр решительно держал путь к противоположному берегу, к точке, находящейся прямо напротив нас. Таким образом, дистанция для стрельбы была вполне подходящей. Наконец тигр вылез на берег, с его огромного туловища капала вода. Вице-король выстрелил. Пуля угодила в бедро левой задней ноги, но тигр даже не захромал, наоборот, он метнулся прочь и почти сразу же набросился на группу загонщиков, стоявших неподалеку. Один из них был с барабаном. Ударом лапы тигр свалил наземь несчастного барабанщика. Затем, быстрый, как молния, нырнул в густой кустарник, росший в долине. Последние события я видеть не мог, но один из фланговых загонщиков, стоявших на возвышении, крикнул мне об этом через реку. Теперь возник вопрос, как отыскать в высшей степени опасного хищника. Сделать это надо было как можно скорее. Договорившись с магараджей, что он доставит своих гостей обратно в лагерь, я пересек в лодке реку и, распорядившись позаботиться о бедной жертве, вскарабкался по склону наверх, откуда открывался хороший обзор зарослей. Сверху чаща казалась похожей на клумбу, притом не очень обширную и окруженную со всех сторон сравнительно чистым пространством. Это было мне на руку. Я некоторое время наблюдал за чащей, но раненый зверь не давал о себе знать. Поскольку тигр, очевидно, не имел намерения немедленно покинуть свое убежище, стало ясно, что его придется выгонять. Я послал человека в ближайшую деревню с просьбой собрать и привести стадо буйволов. Стадо собрали и с основательным шумом погнали в чащу. В этот момент тигр продемонстрировал свою поистине необыкновенную хитрость и понимание ситуации. Если бы он набросился на одного из буйволов или хотя бы издал глубокий кашляющий рык, как это делают тигры, когда хотят отпугнуть незваных пришельцев, он бы выдал себя и, возможно, навлек на себя атаку буйволов. Но зверь поступил совсем иначе. Он дождался, покуда один-два буйвола подошли к нему совсем близко, а затем сделал несколько шагов только для того, чтобы животные увидели его рядом с собой и почуяли его запах. В результате ближайшие буйволы отпрянули, паника мгновенно охватила все стадо и, оно, объятое страхом, помчалось к деревне. После этого, естественно, нечего было и пытаться загнать их обратно в кустарник. У меня оставался еще один козырь, который можно было попробовать разыграть. Я послал в лагерь за обученным слоном и велел погонщику, сидевшему на шее гиганта, ввести слона в кустарник. В этом районе Индии дикие слоны не водятся, так что тигр наверняка не встречался прежде со столь странным существом. Во всяком случае вид гиганта, продирающегося к нему напролом через кустарник, оказался слишком впечатляющим зрелищем для тигриных нервов. Взревев, зверь неожиданно выскочил из укрытия и помчался по долине. Из лагеря мне на помощь прислали несколько стрелков, и один из них выстрелил навскидку. Однако ему не удалось остановить тигра, и тот вскоре скрылся из виду. В этот момент произошло второе несчастье. Увидев босого загонщика, беззаботно бредущего в одиночестве, тигр прыгнул на него и отомстил человечеству за свои раны — сшиб беднягу наземь и буквально отгрыз ему голову.
Расставленные мною наблюдатели занимали удобные позиции на деревьях и по краям долины, и от одного из них, который видел ужасную сцену, я узнал, что после убийства загонщика тигр скрылся в узкой лощине, полной крупных валунов. Лощина эта как бы впадала в долину. Взяв с собой всех охотников, я тут же направился к лощине. Несмотря на трудную дорогу, через несколько минут мы были на месте. Началась довольно зловещая игра, похожая на игру в прятки. Стрелки заняли места на высоких откосах лощины. Тигр был внизу, но он спрятался среди дикого нагромождения камней и увидеть его было невозможно. Мы знали наверняка, что он там и даже имеет возможность передвигаться в каменных завалах, не выдавая себя. Когда мы порой постреливали в темные расщелины между валунами-, надеясь выгнать тем самым тигра на открытое место, он отвечал громким сердитым ревом, как бы предупреждая нас: «Но-но, не позволяйте себе лишнего». И этот рев исходил то из-под одного валуна — чуть не прямо под стрелком, то из-под другого на расстоянии двадцати-тридцати футов от первого. Игра продолжалась более часа, а дело меж тем шло к вечеру. Солнце в Индии заходит быстро, и времени терять было нельзя. Поэтому я подозвал охотников и объявил, что собираюсь спуститься в лощину и кончить затянувшуюся охоту. Я стал спускаться по откосу на некотором расстоянии от того места, где мы в последний раз слышали тигриный рев, а затем, лавируя между каменными глыбами, пошел по дну оврага, туда, где, как я полагал, должен был находиться зверь. Время от времени мои спутники спрашивали сверху, вижу ли я что-нибудь. Я не отвечал. Наконец ползком начал передвигаться к валуну, под которым, по всем расчетам, должен был прятаться мой противник, если он не сбежал. Самое правильное, решил я, это выставить самого себя в качестве приманки — пусть тигр бросится на меня в атаку на этом открытом плацдарме, где он будет виден моим товарищам сверху. Когда от меня до валуна оставалось футов двадцать, я нарушил тишину, громко обратившись к стрелкам с просьбой смотреть в оба. Моя мысль оказалась правильной. Послышался кашляющий рык, и между двумя валунами появились тигриные голова и плечи. Через мгновение он ринулся на меня, и я увидел все его взметнувшееся в воздухе тело. И тут же сверху громыхнул выстрел. Тяжелая пуля перебила зверю позвоночник. Тигр рухнул и перевернулся навзничь, но, увидав меня рядом с собой, почти что на расстоянии протянутой лапы, он с изумительным мужеством, свойственным этому виду животного, начал подползать ко мне на животе. Я встал и выстрелил в упор ему в голову. Теперь мне угрожала некоторая опасность со стороны других, дальних стрелков. В быстро сгущавшихся сумерках они продолжали палить по конвульсивно содрогавшемуся телу тигра. Однако вскоре они услышали мои крики, и все начали спускаться по склонам, чтобы как следует разглядеть наш приз. Зверь оказался таких размеров, что поначалу мы заподозрили, что врет рулетка; длина тигра была одиннадцать футов пять с половиной дюймов, на один дюйм короче самого большого тигра, убитого в этих краях[9]. Мы помучились, вытаскивая тушу тигра из оврага, и основательно попотели, взваливая его на слона. И это было не удивительно, ибо, когда в лагере мы взвесили нашу добычу, она потянула пятьсот девяносто фунтов — вес редкостный. Для меня же в этой охоте наиболее примечательным было то, что этот исключительно крупный, мощный, цветущего здоровья зверь оказался в то же время самым хитрым и осторожным из всех мной встреченных. На протяжении всего этого длинного, несчастливого дня меня не покидало ощущение, что мой противник пытался — и почти всегда с успехом — предусмотреть мой следующий шаг и соответственно обдумать свои ответные действия. Он потерпел поражение только потому, что охота была тщательно спланирована, в ней принимали участие многочисленные загонщики и стрелки, и шансов на спасение у зверя почти не оставалось.
Отважные тигры
Как правило, тигры, если они не ранены, не дряхлы или по каким-то причинам не могут убежать, стараются, особенно в дневное время, не встречаться лицом к лицу даже с небольшими группами людей. Это относится и к тиграм, утратившим свое врожденное уважение к человеку и привыкшим охотиться на стада овец и буйволов. Однако бывают исключения. Из деревни Шергадх в районе Гвалиора стали поступать жалобы на тигра — похитителя скота. Я получил указание уничтожить хищника. К счастью, чуть не в тот же день ко мне зашел староста Шергадха. Услыхав его рассказ, я решил бросить все прочие дела и попросил старосту к следующему дню собрать большой отряд загонщиков. Вместе со старостой отправился в деревню и мой надежный шикари, великолепный охотник и следопыт по имени Мохаммед Хан с двумя слонами из государственного слоновника. Я решил безотлагательно заняться этим тигром не только из-за его грабежей, но и из-за его наглости — он не обращал внимания на любые попытки отогнать его от скота. Напугать тигра было невозможно: он бросался на всех дерзнувших помешать ему свалить и утащить животное, которое, возможно, было единственным богатством всей семьи. Несколько человек в таких случаях поплатились жизнью, хотя тигр явно не был людоедом и не поедал трупы убитых им людей. На следующий день я выехал на машине в Шергадх. Мохаммед Хан и загонщики со слонами находились в полной готовности и ждали моих распоряжений. Топография местности и рассказы о повадках зверя убедили меня, что нет смысла сооружать махан, к тому же мы предполагали без промедления вступить в схватку с тигром. Я решил сразу приступить к облаве. Говорили, что любимое логово тигра находится среди зеленых кустов, растущих в речном ущелье в полумиле к северу от деревни. Я влез в хоудах[10] на спине одного слона, Мохаммед Хан взобрался на другого, и мы отправились в указанном направлении. Загонщики следовали за нами. Однако, когда мы прибыли к логову зверя, я понял, что задача не столь проста, как казалась вначале. Длинными полосами тянулись здесь заросли густого кустарника, перемежавшиеся озерками и участками высокой травы. Принимая во внимание характер этого тигра и условия местности, я меньше всего хотел использовать загонщиков. Наилучшим представлялся такой план: двигаться, не мудрствуя, вдоль реки на слонах гуськом, хотя, если мне верно обрисовали характер зверя, мы рисковали при этом вовсе не увидеть тигра, так как он мог оставаться в своем укрытии. Но не прошло и десяти минут с момента нашего выхода в путь по речному ущелью, как в двадцати метрах перед слоном Мохаммед Хана из кустов вышел тигр и остановился, загораживая дорогу. Слонов этот зверь никогда прежде не видывал, но вел он себя очень спокойно и представлял собой. отличную мишень для шикари. Тот сразу же выстрелил зверю в грудь. Я тоже видел тигра, но стрелять не мог, потому что как раз в этот драматический момент мой слон проходил под ветвями большого дерева. Получив пулю, тигр громоподобно взревел и бросился в атаку. Нервы слона не выдержали, он повернулся, намереваясь бежать. В тот же миг тигр прыгнул на слоновый бок и, цепляясь когтями, вскарабкался на спину, где в широком хоудахе сидел Мохаммед Хан. Ударом передней лапы зверь размозжил голову Мохаммеда и, навалившись на его тело, издох. В этих ужасающих обстоятельствах, чувствуя тигра за своей спиной, махоут[11] вел себя с изумительным мужеством. Он оставался на своем месте и твердой рукой управлял слоном. Когда же тигр затих, махоут заставил слона присесть, чтобы можно было снять оба трупа — человека и зверя. Пуля охотника попала в сердце тигра и за короткие тридцать секунд, которые ему оставалось прожить, зверь успел вскочить на слона и убить Мохаммеда. Через некоторое время я повстречался с тигром примерно такого же нрава в Тигаре (штат Гвалиор). Охота была устроена для магараджи. Около полудня загонщики подняли большого тигра-самца и погнали прямо на махан магараджй. Зверь быстро передвигался в густых зарослях, стрелять было трудно, о тщательном прицеливании и думать не приходилось. Пуля магараджи лишь оцарапала тигру лапу. Зверь рассвирепел. Он отступил в густой кустарник, но отнюдь не покинул поле боя и зарычал так грозно, что я скомандовал загонщикам: «Ни шагу вперед». В облаве участвовали два слона. На одном из них сидел я, на другом — мой приятель капитан Султан Хуссейн, опытнейший охотник из свиты магараджи. Намереваясь прикончить раненогозверя (тогда я, конечно, не представлял себе, что он был лишь слегка поцарапан), мы въехали в кустарник. Мы не увидели тигра, но он, конечно, следил за нами, и, как только мы приблизились, хищник с чудовищным кашляющим ревом ринулся в атаку. Едва его желтоватая шкура мелькнула в зарослях, оба слона повернули и, задрав хвосты, помчались прочь.
Тигр настиг ближайшего к нему слона, того, на котором сидел капитан Хуссейн. Стрелять со спины несущегося вскачь слона невозможно. Хуссейн не смог сразить своего преследователя. Тот прыгнул и вцепился клыками в репицу слоновьего хвоста. Не могу сказать, что заставило перепуганного слона остановиться — боль или мощь тигра, но так или иначе тигр пытался заставить гигантское животное сесть на задние ноги. Однако, пока все это происходило, Хуссейн с величайшим присутствием духа повернулся в своем седле и, нацелив дуло ружья прямо в лоб тигру, нажал спусковой крючок. Убитый тигр рухнул как камень. Тигр был превосходен. Он достигал восьми футов десяти дюймов в длину. Обследование первой раны показало, что он мог без малейших трудностей ускользнуть через густой кустарник, но отважный зверь решил остаться, чтобы отомстить. В этих краях Индии принято, чтобы охотничьего слона сопровождал пеший погонщик — сатмари с копьем. С нами было два сатмари, каждый следовал за своим слоном. Едва ли не самое страшное на охоте, это когда тигр атакует пешего, плохо вооруженного человека. Ужасающий рев, треск ветвей, а затем и сам вид тигра настолько потрясли обоих сатмари, что они бросились друг другу в объятия и потеряли сознание. Нашли их спустя некоторое время после того, как с тигром было покончено. Они все еще находились в шоковом состоянии.
Беззаботный тигр
Из всех тигров, которых я встречал, этот был, пожалуй, самым странным. Он вел себя настолько легкомысленно, будто сознательно решил пренебречь всеми предосторожностями, к которым обычно прибегают дикие звери перед лицом опасности. В результате он прямо-таки вознамерился принести в жертву свою жизнь новичку, прежде видавшему тигров только в зоопарке. Добавлю, что тигр при этом имел полную возможность сбежать. В ту пору моим начальником на государственной службе был европейский чиновник. Стрелок он был неважный, прежде никогда на тигров не охотился. Но он жаждал убить хотя бы одного тигра, перед тем как уйти в отставку и покинуть страну, славящуюся полосатыми хищниками. И вот когда пришло сообщение, что появился тигр, ставший грозой окрестных деревень, было решено, что мы вдвоем отправимся на охоту и попытаемся положить конец его разбою. Тигр обитал на ровном, как стол, плоскогорье, около двенадцати миль в длину и двух в ширину, раскинувшемся среди низких холмов. Закоренелый похититель скота повадился подкарауливать по ночам у дороги воловьи упряжки. Он облюбовывал вола пожирнее и уволакивал его прямо из ярма, чтобы сожрать не торопясь. Никакой шум и крики не могли заставить его расстаться с добычей, а троих местных жителей, пытавшихся помешать ему, он свалил наземь и жестоко помял. Для начала я распорядился соорудить на большом баньяне махан близ того места, где тигр в последний раз зарезал животное. Я попросил также купить буйвола для приманки. К сожалению, мой спутник когда-то подвергся серьезной операции и хорошим здоровьем не отличался. Он плохо переносил перепады атмосферного давления, а лесное плато находилось довольно высоко. Мы заблаговременно вышли в путь и добрались до махана за полтора часа до захода солнца. Буйвола привязали к столбу в двадцати пяти футах от баньяна. Неподалеку находился большой глиняный котел с водой, чтобы тигр мог тут же утолить жажду после пиршества. Вероятнее всего, предстояло ночное бдение, и мы постарались устроиться поудобнее на нашей крохотной платформочке. Я сказал своему компаньону, что, зарядив ружье и поставив его на предохранитель, он должен замереть и не двигаться, пока не настанет момент стрелять в тигра. Затем я лаконично объяснил, что первый шанс для стрельбы, наверное, окажется и самым лучшим — когда тигр почти под нами будет умерщвлять буйвола. Обычно, если приманкой служит буйвол, события разворачиваются в такой последовательности: после короткой борьбы тигр хватает животное за глотку, пригибает его к земле и не разжимает Челюстей минуты две, покуда не убедится, что животное испустило дух. Вот тут-то, пока тигр поглощен своим делом, а хрипы и мычание умирающего буйвола заглушают звуки, производимые наводящим ружье охотником, создаются идеальные условия для выстрела. Курить или разговаривать в таких случаях, разумеется, нельзя. Мы принялись ждать, храня полнейшее молчание. Огромная полная луна выплыла на небо во всем своем великолепии. Ночь была исключительно спокойной, тихой и ясной. Внезапно я с удивлением увидел тигра, шествующего к нам по открытому пространству. Здесь и там чернели группы кустов, ему было где укрыться, но зверь, очевидно, не намеревался сколько-нибудь затруднять себя и выбрал наиболее прямой и гладкий путь. Больше того, он даже не стал подкрадываться к буйволу, как это почти всегда делают тигры и пантеры. Он просто-напросто подошел к трепетавшему животному и, наскоро оглядев его, крепко ухватил за горло. Затем свалил буйвола на землю и принялся душить. Все это происходило так близко от нас, при таком ослепительном лунном освещении, что я видел, как у тигра сверкают глаза и топорщатся усы, когда он все сильнее стискивал челюсти. Я подал своему напарнику знак, что нужно стрелять. Вместо этого чиновник повернулся ко мне и громко прошептал, что он, пожалуй, повременит, покуда тигр не примется по-настоящему за свой ужин. Я прошептал в ответ, что вряд ли он будет пожирать буйвола немедленно, и предупредил, что мы не должны больше шуметь. Судя по движениям тигриной головы, хищник услышал наши переговоры, однако, расправившись с буйволом, спокойно встал, огляделся и пошел к котлу с водой. Придерживая котел двумя огромными лапами, он опустил голову и принялся лакать. Приблизив губы к уху моего соседа, я умолял его выстрелить, доказывая (ошибочно, как выяснилось позже), что это последняя возможность. Чиновник отказался, объяснив, что какой-то выдающийся авторитет в области охоты советовал ему стрелять только тогда, когда тигр занят едой. Пока тигр лакал воду, мой напарник вдруг ощутил непреодолимое желание кашлянуть. Ему не удалось подавить кашель, прозвучавший в ночной тишине оглушительно громко. Это уже было слишком. Даже такой беззаботный тигр не выдержал. Он встал, уставился прямо на махан, а затем пошел прочь все той же ленивой походкой, какой пришел, время от времени останавливаясь, чтобы потереться о стволы деревьев. На вопрос моего спутника, вернется ли зверь, я довольно едко ответил: «Если он сумасшедший, то вернется». Я ошибся самым чудовищным образом. Оказалось, тигр и не собирался скрываться. Вскоре мы разглядели его вдали, вне досягаемости наших ружей при ночной стрельбе — он лежал на полянке. Тем временем мой компаньон, оставив всякую надежду убить тигра, достал сигарету и закурил. Странная это была ночь. Один непредвиденный эпизод следовал за другим. Ни с того ни с сего тигр с низким предупреждающим ревом встал, метнулся в нашу сторону и нанес несколько ударов лапами по чему-то лежавшему в тени кустов. Затем мы увидели, что он стоит над другим тигром, который покорно улегся на спину, болтая лапами в воздухе. Поскольку наш тигр не предпринимал серьезной попытки напасть на своего противника, а другой не пытался всерьез обороняться, я догадался, что второе действующее лицо — тигрица. В отличие от своего легкомысленного приятеля она подкралась так осторожно, что мы даже не заметили ее присутствия. Выждав немного и придя к выводу, что тигр больше не проявляет интереса к своей добыче, она решила урвать себе кусок. Но тигр, который, возможно, рассчитывал приступить к ужину несколько позднее, не собирался допустить подобного нарушения правил. Зная в отличие от нас, о ее присутствии, он сначала зычно предостерег ее, а затем, поскольку она не подчинилась приказу, задал ей трепку, хотя и не очень суровую. Подобный ход событий было легко понять, так как у тигров, живущих парами, существует такой обычай: самец обычно убивает и первым насыщается. Только после этого наступает очередь его подруги, а также тигрят, если таковые имеются. У пантер правила другие: сначала наедается самка, а самец дожидается конца ее пиршества. Призвав таким образом супругу к порядку, тигр, чей аппетит, должно быть, еще больше разыгрался от присутствия конкурентки, вернулся к буйволу и начал рвать его на части. Теперь наконец мой спутник вознамерился стрелять и попросил посветить ему большим электрическим фонарем, который он приобрел специально для предстоящей охоты. Мне очень не хотелось этого делать, так как луна, хотя и переместилась на небосклоне, все еще хорошо освещала окрестность, и электрический свет был ни к чему. Кроме того, мы фонарь заранее не проверили, и я весьма сомневался в том, что мишень окажется в фокусе на таком коротком расстоянии от источника света. Однако чиновник настаивал и, чтобы избежать дальнейших перешептываний, я включил свет. Точно грянул какой-то световой залп. Но увы, кольцо яркого света легло вокруг тигра на траву, а сам кормящийся хищник оказался в затемненном пространстве. Пока я фокусировал фонарь, зверь оставался на том же месте. Он прямо-таки плавал в море света. Мой спутник поднял ружье и нажал на спусковой крючок. Почему ружье оказалось незаряженным, я до сих пор не могу понять. Впрочем, все, что происходило в ту ночь, было настолько необычным, что эта очередная неудача меня почти не удивила. Пока чиновник заряжал ружье, тигр вразвалочку пошел прочь. Он шествовал настолько неторопливо, что я умолял своего спутника стрелять поскорее: теперь было уже совершенно ясно, что зверь уйдет навсегда. Чиновник не послушался и, пожалуй, правильно сделал: стрелок он был неопытный и все равно не уложил бы зверя. Когда тигр скрылся из виду, я заявил, что, поскольку этой ночью стрелять не придется, хочу поспать до утра. Прошло несколько минут, и громкий треск вывел меня из легкой дремоты. Это тигр, съежившись, грыз кость буйвола. Выяснив, что ружье моего компаньона заряжено и что он готов стрелять, я включил фонарь, который на этот раз хорошо осветил мишень. От звука выстрела тигр, не получивший даже царапины, взвился в воздух фута на три и проворно нырнул в ближайшие заросли. Остаток ночи до самого рассвета он бродил где-то неподалеку от нашего дерева, рыча и кашляя то здесь, то там. Моего напарника ждала в городе срочная работа, поэтому в лагере он не задержался. Пришлось мне взяться за дело. Неделю спустя я вернулся на плато, снова взобрался на махан и стал ждать. Тигр явился почти с той же беспечностью, что и прежде, и я уложил его выстрелом в шею с близкого расстояния. Это был хороший экземпляр — десять футов семь дюймов в длину. Вряд ли можно полагать, что этот тигр относился к людям без должного уважения только потому, что ему удавалось совершенно безнаказанно нападать на волов и вытаскивать их из ярма. Я встречал много тигров, получивших подобный опыт, включая тигров-людоедов, однако ни один из них не отличался столь фантастическим легкомыслием.Робкие тигры
Однажды мне сообщили, что близ местечка Райсар, милях в шестидесяти к северу от города Джайпура, появился тигр, причиняющий большое беспокойство крестьянам. Зверь повадился истреблять скот. На людей он не нападал, но на пастбищах производил изрядное опустошение. Положение осложнялось тем, что Райсар находился в ту пору на границе между штатами Джайпур и Алвар, а переносить охоту на территорию Алвара было нежелательно. Вот почему я выслал вперед нескольких шикари и, только получив от них сообщение, что тигр зарезал приманку в границах штата Джайпур, выехал на машине к месту охоты. Место, где тигру принесли в жертву буйвола, было выбрано удачно: с близлежащего дерева хорошо просматривалась арена предстоящей охоты. Еще до темноты я взобрался на махан. Сидя над трупом животного, охотник обычно чувствует себя не столь уверенно, как над живой приманкой. В данном случае тигр оттащил останки мертвого буйвола в такое место, что, вернувшись к ним, оказался бы не ахти какой четкой мишенью. Кроме того, туша была плохо привязана, и зверь мог бы вообще утащить ее с глаз долой. Но сейчас делать уже было нечего, оставалось надеяться на лучшее и постараться не упустить удобного момента для выстрела. Приблизительно в девять вечера я скорее почувствовал, чем увидел, что тигр вернулся к своей добыче. Наконец я различил его силуэт и выстрелил. Раздался низкий рев, значит, пуля попала в цель. Затем неясный силуэт растворился во тьме. Прождав полчаса, я спустился с махана и отправился в свою палатку, поставленную неподалеку. На рассвете следующего дня, вернувшись к приманке, я обнаружил следы крови поблизости от того места, где видел в темноте силуэт тигра. Это укрепило мою уверенность, что я действительно ранил зверя, а насколько серьезно — сказать трудно. Сейчас зверь мог уже издохнуть, но я вполне допускал и другую возможность: слегка оцарапанный, он лежал в засаде, полный решимости отомстить любому двуногому, который окажется на расстоянии прыжка. Пройдя лишь несколько ярдов, мы по размерам и обилию кровавых пятен поняли, что рана отнюдь не пустяковая. Едва я пришел к этому заключению, как услышал шум листьев впереди в кустарнике. Я застыл, призвав на помощь все свое мужество и готовясь достойно встретить атаку хищника. Но слабый шорох в кустарнике продолжался, а леденящий кровь тигриный кашель, предвестник атаки, почему-то не раздавался. И тут, к моему величайшему удивлению, я разглядел в высокой траве тигра — он трусливо уползал, прижимаясь брюхом к земле. В одну секунду зверь исчез из поля зрения, но несколько крестьян — они стояли у подножия холма в ста ярдах слева, увидев, как тигр пересек открытое пространство, начали необдуманно кричать мне изо всех сил, что зверь где-то в кустах, впереди. Казалось бы, теперь-то, услышав эти крики и зная, что я следую за ним по пятам, тигр наверняка повернется и набросится на меня. Поэтому я опять замер и стоял как вкопанный. И снова никаких признаков готовящейся атаки. В конце концов, не желая обострять ситуацию, я повернул к видневшейся слева небольшой возвышенности в надежде, что оттуда сумею обнаружить местонахождение зверя. Но тут события приняли непредвиденный оборот. Крестьянам, людям простодушным, очень хотелось поглядеть, как будут приканчивать похитителя их скота. От возбуждения они совершенно забыли, что травля раненого тигра — дело весьма рискованное. Прежде чем я успел их предостеречь, они с криками окружили кустарник и некоторые заорали, что видят в кустах тигра. Но даже теперь он не проявлял признаков агрессивности. Я стоял охваченный волнением и вдруг тоже увидел тигра. Он пытался улизнуть из кустов. Боль и страх были написаны на его морде. Он вызывал жалость, и я выстрелом прикончил несчастное животное. При осмотре выяснилось, что это был исключительно крупный самец, самый большой тигр, добытый в штате Джайпур. Общая длина туловища составляла десять футов девять дюймов. У меня не было возможности взвесить его, но на вид он тянул не больше чем на пятьсот фунтов — необычайно малый вес для животного подобных размеров. У него была великолепная шкура, и по всем показателям он мог служить образцом проворного, легкого зверя-охотника, если бы занимался охотой, а не кражей домашнего скота. И хотя среди моих трофеев более тысячи тигров, мне никогда не попадался такой трус, как этот огромный похититель скота в Райсаре. Тем не менее он не единственный робкий тигр, которого мне довелось встретить. Могу припомнить по крайней мере еще одного, который вел себя примерно таким же образом. Этот зверь также занимался кражей скота и привлек мое внимание по той же причине. Он орудовал на небольшом участке в холмистой местности и заслужил красноречивое прозвище Чума. Приблизительно определив по рассказам крестьян его «местожительство», я решил подсунуть ему живую приманку — буйвола. Однажды ночью, проведя три или четыре часа на махане, я увидел, как появился зверь и прыгнул на свою жертву. Когда он хорошенько ухватил несчастную скотину за глотку, я выстрелил и с удовольствием увидел, что он кувыркнулся и затих. Свет луны был недостаточно ярок, чтобы можно было разглядеть все подробности. Поэтому, прежде чем спуститься на землю, я направил на полосатую тушу луч мощного электрического фонаря. И я правильно сделал, ибо, как только свет упал на распростертое тело, зверь вскочил на ноги и нырнул в соседний кустарник. Я не успел даже схватиться за ружье. На следующее утро в сопровождении нескольких следопытов и местных проводников я организовал погоню. Довольно скоро мы нашли кровавый след, тянувшийся вверх по холму через заросшую, сильно пересеченную местность. Вскоре впереди я заметил место, где мог бы укрыться зверь. Мы остановились. Наблюдатели разместились на деревьях и крупных валунах по левую и правую сторону, а также чуть впереди от того места, где мы остановились. Убедившись, что все готово, я двинулся вперед, ступая с большой осторожностью и держа ружье наизготовку. Не прошел я и сотни ярдов, как наблюдатели, стоявшие на возвышении, замахали руками, чтобы привлечь мое внимание. Они кричали, что видят тигра, двигающегося недалеко от меня по краю оврага, и указали мне, где зверь. Я поспешил вперед, прикидывая в уме, что на сравнительно мало заросшем дне оврага, где пролегает русло пересохшего ручья, стрелять будет достаточно удобно. К тому времени, когда я дошел до края оврага, тигр решил уйти оттуда. Взобравшись по противоположному откосу, он уже почти скрылся в зарослях кустарника. Я быстро выстрелил и понял, что не промазал: хвост тигра дернулся — зверь, значит, ощутил внезапную боль. Теперь проблема заключалась в том, чтобы добраться до тигра, не залезая в кусты. Овраг начинался от подножия возвышенности, откуда должно было просматриваться тигриное убежище. Поднявшись повыше, я увидел, что оно представляет собой полосу густого кустарника, окруженного редкими джунглями. Мне хотелось знать, сидит ли зверь все еще там, но тут он сам вылез из своего прикрытия, — предоставив мне отличную возможность прицельно выстрелить ему в плечо. Я воспользовался этим шансом, и тигр рухнул на землю, на этот раз оставшись недвижимым. Удостоверившись в том, что хищник мертв, я тщательно осмотрел его. Оказалось, мои первые выстрелы причинили ему самые пустяковые поверхностные ранения. При выстреле с махана, после которого он так драматично кувыркнулся, пуля угодила ему в шею прямо над позвонком, но прошла навылет, не задев кости, однако вызвала, очевидно, серьезный шок, парализовавший его на несколько секунд. Вторая пуля, полученная им на кромке оврага, не причинила вовсе никакого вреда, если не считать того, что несколько осколков свинца и никеля кое-где повредили его шкуру. Пуля с мягким концом, очевидно, встретила на своем пути ветку или какое-то другое препятствие и потому разорвалась, не достигнув цели. Быть может, если бы этот крупный тигр-самец был не просто поцарапан, а ранен посерьезнее, он проявил больше отваги и ярости — качеств, присущих его породе. Но об этом можно только гадать. Как я уже говорил, каждый тигр обладает своей особой индивидуальностью — в одних и тех же обстоятельствах разные тигры ведут себя неодинаково.Два агрессивных тигра
Говорят, если смело посмотреть на тигра в упор, он побоится напасть на человека. Смею заверить, это одно из наиболее абсурдных, хотя и широко распространенных заблуждений относительно крупных представителей семейства кошачьих. Однако это не значит, что тигр вовсе не реагирует на взгляд человека. Наоборот, если вы не знаете, когда нужно поймать взгляд животного (я говорю о тиграх, львах, и пантерах), а когда следует отвести глаза в сторону, вы можете не только остаться без трофеев, но и рискуете расстаться с жизнью. У нас, индийцев, принадлежащих к военным кастам, есть традиция: на следующий день после праздника Дашера выходить на охоту — все равно на какого зверя. Повинуясь этому обычаю, я отправился сентябрьским утром на охоту, сопровождая моего тогдашнего патрона магараджу Гвалиора. Он намеревался подстрелить одного-двух самцов антилопы к столу для соблюдения традиции. Поэтому он взял с собой легкое малокалиберное ружье. Я повез всю группу в машине прямиком к деревушке под названием Кулет в десяти милях от дворца. Там был охотничий заповедник, и мы без всяких трудностей приблизились к небольшому стаду черных антилоп, состоявшему из двух самцов и их самок. Кто-то из нашей группы выстрелил и промазал. В результате одна антилопа ускакала галопом за холмик. Мы поспешили туда, лавируя в кустарнике, но вскоре дорога стала непроезжей. Пришлось выйти из машины и продолжать путь пешком. Кроме меня и магараджи в группу входили мальчик по имени Серье Рао Шетоле и два офицера: полковник Бхао Сахиб и капитан Султан Хуссейн, тот самый, что застрелил тигра, вцепившегося в хвост слона. Вскоре я велел двум солдатам отправиться кружным путем к месту, где, как я надеялся, они смогут перехватить беглеца. Мы же продолжали наблюдать за стадом. Шетоле, который был обручен с дочерью магараджи, шел между своим будущим тестем и мной. Ему было не более двенадцати лет от роду, и, естественно, в охотники он еще не годился. Поэтому я не сразу поверил ему, когда он сказал, что видит тигра. Всем мальчикам, когда их берут впервые на охоту, мерещатся тигры под каждым кустом. Кроме того, мы находились на открытом пространстве с редкими одиночными кустиками. В Раджастхане тигры обитают в дремучих джунглях. Поэтому, когда мальчуган сказал мне о тигре, я в ответ шепнул ему какую-то шутку. Магараджа заинтересовался, что у нас за секреты. Узнав в чем дело, магараджа попросил Шетоле показать, что он заметил. Тот повернул назад, прошел несколько шагов и указал пальцем направо. Ярдах в ста от нас сидела тигрица с двумя маленькими тигрятами. Они следили за нами. Если бы тогда я знал о тиграх столько же, сколько теперь, я не утверждал бы, что тигра нельзя встретить вдали от его любимых мест. Кроме того, я не позволил бы мальчику указывать на зверя, а остальным смотреть на хищника в упор. Но тогда все мы взглянули по направлению вытянутой руки мальчика и, не мигая, уставились на тигрицу. А она, поняв, что обнаружена, взревела и огромными прыжками двинулась к нам. Хвост ее в это время описывал огромные полукруги, как у рассерженной домашней кошки. Тигрята, хотя мы не выказали никакого намерения причинить им вред, юркнули в какое-то укрытие. Рядом не было ни одного дерева, ближайшим растением выше колена был куст шиповника (высотой фута в три) слева от нас на расстоянии двух шагов. Когда мы поспешили к кусту, желая воспользоваться хотя бы этим жалким укрытием, незадачливый Шетоле, думая, возможно, что мы собираемся бежать, повернулся и помчался туда, откуда мы пришли. Это, естественно, привлекло внимание тигрицы, она сменила курс и последовала за мальчиком. Бросив свое ружьецо, Шетоле мчался во весь дух, но через несколько ярдов споткнулся о камень и нырнул головой в карликовые кусты. Само провидение подстроило его падение — тигрица потеряла малыша из виду и сразу же повернула к нам. Мне и магарадже отступать было некуда. Мы стояли, не шелохнувшись, ожидая дальнейшего развития событий. У магараджи было в руках малокалиберное ружье, из которого он намеревался стрелять антилоп, а я нес сумку с патронами. Приблизившись к нам, тигрица издала такой громоподобный рев, что я подумал: «Если нам суждено остаться в живых, мы с магараджей превратимся из охотников в спортсменов и никогда не причиним вреда ни одному тигру». Однако, увидя, что мы стоим непоколебимо, тигрица вдруг остановилась футах в пятнадцати от нас и поползла, точно готовясь к заключительному прыжку. Хвост ее извивался, время от времени она скребла землю длинными когтями передних лап и поводила рычащей головой из стороны в сторону. Мы, недвижимые, следили за ней. Момент был не из приятных. Таким манером она пугала нас около полуминуты, и тут я не выдержал, взмахнул над головой патронташем и закричал магарадже: «Стреляй же!» Для меня это было нервной разрядкой, но, к счастью, магараджа пренебрег моим непродуманным советом. И все же не зря я махал сумкой и кричал: тигрица, видимо, решила, что мы не очень-то напуганы ею и собираемся оказать сопротивление. Вспомнив вдруг о своих детенышах, она круто повернулась и поскакала галопом обратно к тому месту, где оставила тигрят. Когда она была уже в восьмидесяти — девяноста ярдах от нас, магараджа хладнокровно выстрелил вдогонку, но промахнулся. Стараясь говорить как можно спокойнее, я умолял его больше не стрелять. «Если вы ее раните, — говорил я, — она вернется и расправится с нами без всяких церемоний. Точно выстрелить по быстро движущейся цели вам вряд ли удастся, но, даже если вы и попадете, все равно пуля из малокалиберки не убьет и даже серьезно не ранит тигрицу». Мы были настолько потрясены случившимся, что лишь через несколько секунд вспомнили о Шетоле. Оглядевшись, я заметил торчащую из шиповника худую ножонку. Я подошел к кусту и стал уговаривать мальчика выйти. Он не двигался, поэтому я наклонился и потрогал его. Нога задрожала мелкой дрожью. Бедняжка рассказывал мне впоследствии, что со страху подумал, что до него дотронулась тигрица.
Голова и плечи Шетоле так прочно застряли в кустах, что он не мог вылезти без посторонней помощи. Когда мы в конце концов вытащили его, мальчуган изумленно озирался и спрашивал, что произошло. Я коротко ответил, что времени на объяснения нет, так как нужно поскорее добраться до машины. Свое ружье Шетоле бросил во время бегства. И вот мы начали прочесывать местность в поисках пропавшего оружия. Было бы стыдно оставить ружье, хотя и я начал немного волноваться, как бы тигрица снова не заинтересовалась нами. Ее нервное покашливание и рычание слышались совсем близко. Однако местность была довольно голой, и мы вскоре заметили металлический блеск в траве. Правда, чтобы подобрать ружье, требовалось сделать несколько шагов по направлению к тигрице, притаившейся в редких кустах и издававшей предупреждающие звуки. Дело было довольно опасным, но мы шли группой, очень спокойно, не глядя на тигрицу и не указывая на нее пальцами. Наконец я нагнулся, поднял ружье, и мы чинно удалились. Все это время мы старались избегать резких и быстрых движений. Ружье мальчика было не более пригодно для охоты на тигра, чем оружие магараджи. Однако оно было заряжено, и, передав патронташ мальчику, я сунул его ружье под мышку. Затем мы отправились кружным путем к машине. Но наши злоключения на этом не кончились. Не прошло и нескольких минут, как мы снова услышали неподалеку угрожающий кашель тигра. Мы точно не знали, откуда он доносится, и поэтому остановились и осторожно огляделись. Вскоре пришли к выводу, что источник звука находится прямо впереди нас. Действительно спустя минуту огромный тигр-самец вышел из невысоких зарослей приблизительно в сотне ярдов от нас и почти сразу же бросился в атаку. Это было похоже на какой-то кошмарный сон. Помню только, что его топот, когда он галопом мчался к нам по твердой выжженной земле, звучал как звон копыт. Без сомнения, вес зверя был внушительным. Как и в первый раз, мы остановились, прижавшись друг к другу. Но сейчас мальчик, окаменев, стоял между нами. И опять в точности так, как тигрица (теперь мы, бесспорно, имели дело с ее супругом), зверь остановился в пятнадцати футах от нас и грозно зарычал, поводя своей огромной мордой из стороны в сторону, прижимаясь к земле и размахивая хвостом. Он готовился наброситься на нас, и, чтобы предотвратить это, я быстро прицелился ему в лоб промеж шевелящихся ушей и выстрелил. Очевидно, в это фантастическое утро провидение было благосклонно к нам — я не только промазал, но звук выстрела и Облако пыли, поднятой пулей (она угодила в землю рядом с головой тигра), а также крик, который вырвался из моей груди, очевидно, ошеломили тигра. Еще два-три раза рыкнув, он повернулся и легким галопом побежал в свое укрытие. Два удивительных нападения подряд в течение считанных минут со стороны тигров, которых мы никак не провоцировали, и атаковавших нас с разных направлений! Мы почувствовали себя в окружении. Более того, мечась из стороны в сторону, мы утратили ориентировку. Мы знали, что тигр наверняка затаился перед нами, а тигрица скорее всего залегла где-то неподалеку в нашем тылу. Слева виднелся низкий холм, справа — река. Самым разумным представлялось подняться на холм (хотя и там было достаточно укромных уголков, где нас мог подкараулить тигр), поскольку за ним могло оказаться открытое пространство, и тогда с вершины можно было легко отыскать дорогу к нашей машине. Все так и оказалось. Через час мы добрались до места целые и невредимые. Дожидавшиеся нас Бхау Сахиб и Султан Хуссейн огорчились, увидя, что мы вернулись с пустыми руками. Я предложил съездить позавтракать, затем раздобыть пару охотничьих слонов и после полудня вернуться, чтобы уничтожить обоих тигров. Но магарадже мое предложение не пришлось по душе. Он не видел резона в том, чтобы немедленно возвращаться на двух слонах с тяжелыми крупнокалиберными ружьями ради расправы с двумя зверями, которые не растерзали нас, хотя могли это сделать играючи. Дальнейшие события показали, что решение магараджи пощадить этих двух тигров было принято не в добрый час. Магараджа намеревался очистить эти места от тигров, но собирался заняться этим позднее. Однако по ряду причин охота все время откладывалась, а на следующий год магараджа уехал за границу, где скоропостижно скончался. Предоставленные самим себе, оба тигра начали расширять район своих операций. В непосредственной близости от тигриного «дома» поселений не было, но время от времени люди отправлялись в джунгли, чтобы накосить травы или набрать хвороста. Несколько человек пропали без вести. Какая судьба их постигла, так и не выяснили. Найти убийц почти не пытались. Но вот в феврале тигр-самец атаковал стадо в миле от деревни и утащил одну из лучших коров. Два пастуха видели, как тигр терзает свою жертву, и крикнули на него. Тогда зверь бросил издыхающую корову, подошел к крестьянам, сбил их наземь и прикончил одного за другим. Когда весть об этих убийствах дошла до полиции, были посланы для расследования младший инспектор и констебль. Инспектор опросил жителей, а затем вместе с констеблем в сопровождении большинства обитателей деревушки отправился обследовать район гибели пастухов. Не желая идти пешком, инспектор взял в деревне пони и поехал верхом. Он осмотрел место убийства и решил взглянуть на корову, которую зарезал тигр. И когда ему издали указали место, где это произошло, инспектор направился туда в одиночку. То ли он хотел показать свою смелость, то ли просто недооценивал опасность приближения к добыче тигра. Он скрылся в зарослях кустарника, и больше его никто живым не видел. Дожидавшиеся его крестьяне услышали тяжелый глухой стук, и минуту спустя увидели пони, который без всадника отчаянно скакал к деревне. Очевидно, тигр находился поблизости от мертвой коровы, возможно, он лакомился ею, когда вдруг увидел приближающегося полицейского. Хищник притаился и ринулся на инспектора, проезжавшего мимо. Крестьяне Центральной Индии — народ смелый. Считая позорным оставить тело инспектора на съедение тигру, они толпой отправились на поиски. Подойдя к останкам коровы, крестьяне увидели, как тигр волочит тело полицейского в сторону — обычный прием людоедов. Толпа закричала, каждый голосил на самой верхней ноте, на какую был способен. Крестьяне дружно бросились вперед, закидывая тигра камнями. Хищный, но не особенно смелый зверь не выдержал. Проволочив тело еще немного, он ушел, оставив свою добычу крестьянам. Изуродованные останки были доставлены в деревню для кремации. Получив известие о всех этих происшествиях, я после недолгого размышления пришел к выводу, что к убийству этих двух пастухов и исчезновению сборщиков хвороста, безусловно, причастны тигры, которых мы видели во время нашей неудачной охоты на антилоп. Особенно характерным мне показалось поведение тигра, волочившего тело полицейского. Я вспомнил зверя, который атаковал нас после того, как мы успешно спаслись, от тигрицы. Поведение тигрицы было вполне объяснимо тревогой за детенышей, но поведение самца, хотя я считал, что зверя возбудил рев подруги, было до некоторой степени ненормальным. Тигры-самцы не отличаются отцовской нежностью. Если я был прав в своих выводах, то этот тигр был хотя и не похож на типичного людоеда, по каким-то причинам приучился к охоте на людей. Теперь он стал совершать набеги и на населенные районы. Более того, его подруга, вероятно, определенные периоды охотилась вместе с ним и вполне могла перенять его скверные вкусы. Ясно было, что времени терять нельзя. И вот я снова отправился в Кулет с небольшой группой охотников, чтобы заранее осмотреть место охоты. На этот раз мы взяли с собой крупнокалиберные ружья и не стали тратить времени на черных антилоп. Моими спутниками были раджа Пахагара и один из лучших моих шикари. Прежде всего мы должны были обследовать район, и это привело нас на тот самый холм, куда несколько месяцев назад я вскарабкался в довольно мрачном состоянии духа. Взглянув на этот холм теперь, я подумал, что за валунами на его вершине удобно прятаться, а тигру можно подсунуть приманку где-нибудь пониже на склоне холма. Деревьев здесь не росло, и сооружать махан было не на чем. Придя к такому выводу, я решил побывать там, где когда-то с магараджей и Шетоле повстречал тигров, и затем вернуться в деревню, следуя по берегу реки, огибавшей деревенскую околицу. Берег был изрезан устьями мелких притоков. Высокая трава и группы кустов мешали ходьбе. Каждый шаг давался с трудом. Мы были вынуждены идти гуськом. Я шел первым, несколько оторвавшись от остальных, когда заметил впереди, правее нашего маршрута, какое-то шевеление в кустарнике. Стараясь не делать резких движений и не глядеть на кустарник, я замедлил шаг и скосил глаза. Спустя секунду я понял, что какое-то крупное животное, вероятно тигр, неторопливо передвигаясь, выбирает позицию поближе к линии нашего движения, чтобы наброситься на нас, когда мы будем проходить мимо. Подобная засада в кустах вблизи маршрута охотников — один из классических приемов представителей семейства кошачьих. Очевидно, зверь был умен и со времени нашей первой встречи основательно пополнил свои представления о человеке. Теперь тигр избрал самый легкий и самый верный способ атаки, а также наиболее безопасный, потому что, если бы он атаковал нас через открытое пространство, можно было легко расправиться с ним. Шагать дальше в приготовленную тигром западню было глупо. Кроме того, поскольку я был преисполнен решимости расправиться с людоедом и хотел избежать любых случайностей, я подал знак спутникам, и мы отступили, сохраняя порядок и держась открытого пространства. Тигр не рискнул преследовать нас, и мы вернулись домой довольно поздно, но без приключений. Теперь надо было раздобыть буйвола для приманки, привести его под охраной на место и привязать на склоне холма в намеченном мной пункте. Это было проделано, и на следующий вечер я снова посетил это место с раджой Сахибом и шикари. Мы вышли из машины и в течение часа шли пешком, сжимая в руках ружья. Когда нам оставалось ярдов пятьдесят до вершины холма (мы двигались не по тому склону, где был буйвол, а по противоположному), я попросил спутников позволить мне идти одному, так как боялся, что мы втроем, хотя все были опытными шикари, поднимем слишком большой шум. Очень медленно, на четвереньках — довольно утомительный способ передвижения, когда тащишь на себе ружье, — я вскарабкался на холм. Вершину окружали скалы. Я решил взобраться на ближайшую скалу и осмотреться, прежде чем двинуться дальше. И я правильно сделал, потому что, с трудом вскарабкавшись на плоскую вершину скалы, я увидел в семи-восьми ярдах от себя тигра. Перекусив веревку, которой был привязан буйвол, он втаскивал тяжелую тушу вверх по холму на новую позицию, где, как он справедливо рассчитывал, туша будет менее заметна. К счастью, в момент, когда я увидел зверя, он стоял ко мне вполоборота, глядя в противоположном направлении. Он тащил тушу, вцепившись в нее всей пастью. Поскольку он двигался в моем направлении, нельзя было терять времени. Бесшумно, плавно, рассчитывая каждое движение, я приложил приклад к плечу, сдвинул предохранитель и выстрелил в шею зверя. Тяжелая пуля раздробила хребет, зверь рухнул замертво, так и не разжав клыков, впившихся в заднюю ногу буйвола. Это был красивый, крупный, мощный зверь длиной в десять футов два дюйма. Веса зверя я так и не узнал, но, судя по всем внешним данным, он соответствовал размерам. Солнце заходило, и оставить труп тигра на холме значило лишиться нашего трофея: шакалы и гиены, питающиеся объедками с тигриного «стола», не постеснялись бы отобедать своим покойным хозяином. Чудовищные челюсти могут поразительно быстро перемолоть даже массивную тушу буйвола, не говоря уже о тигриной. Кроме того, я еще немного нервничал из-за тигрицы. Поэтому я встал на стражу, а мои спутники, у которых оказались при себе ножи, на скорую руку освежевали тигра. Только голову и лапы они оставили для более тщательной и неторопливой обработки. Затем, свернув наши трофеи в тюк, мы пошли к машине. Еще перед тем как сесть в засаду, я распорядился, чтобы во избежание шума крестьяне не подходили к холму. Мое распоряжение было так скрупулезно выполнено жителями деревни, что я даже пожалел о нем, когда мы шли обратно. Свежая мокрая тигриная шкура и голова — довольно-таки тяжкое бремя, когда идешь по плохой дороге в темноте, даже если эта ноша раскладывается на троих. Сдирая шкуру, мы нашли разгадку поведения животного. В верхней части правой передней лапы сидела свинцовая пуля от старинного ружья, заряжавшегося с дула. Рана зажила хорошо, тигр сохранил силу и подвижность и мог справиться с самой крупной добычей. Но к человеку зверь воспылал глубокой и непроходящей ненавистью. Он стал убивать людей по собственному выбору, а время от времени заниматься и людоедством. Я думаю, он скорее истязал тела своих жертв, чем пожирал их, его главной целью было отомстить за собственные муки. Но без сомнения, когда с добычей было туго, он не упускал случая утолить голод человеческим мясом. Тигрица, очевидно, не переняла его агрессивных привычек, поскольку в дальнейшем из этого района больше не поступало сообщений о человеческих жертвах. Возможно, она действовала с ним в паре, но в одиночку не нападала ни на скот, ни на людей. Мораль этой истории, так же как и многих других историй о людоедах, такова: нет границ бедам, которые может причинить раненый тигр. Если вы не убеждены, что наверняка, чего бы это вам ни стоило прикончите тигра, не стреляйте. Одна неточно посланная пуля из старого мушкета или безответственный выстрел неопытного охотника могут стать (а мой опыт подсказывает, что так оно и бывает!) причиной гибели десятков людей, причем некоторым из них придется расстаться с жизнью при самых жутких обстоятельствах.
Неприятности со слоном
Слон может быть прекрасным помощником для охотника, особенно, когда надо отыскать опасного тигра в густых зарослях. Но слоны — своенравные животные и, несмотря на свой ум и податливость дрессировке, могут иногда причинить массу неприятностей. Самый печальный инцидент, оставшийся в моей памяти, произошел во время визита лорда Ридинга в Гвалиор. Главной целью этого визита была, охота на тигров. Вблизи Шивепури, в лесистой местности, кишевшей дичью, примерно в семидесяти милях к югу от Гвалиора, разбили большой охотничий лагерь. В ожидании прибытия магараджи и его гостей я распорядился, чтобы из Гвалиора в Шивепури пригнали пятнадцать слонов. В Раджастхане каждого слона обычно сопровождают три человека: махоут, нукар и сатмар. Первый — погонщик, восседающий на слоне и отвечающий за его поведение. Нукар — помощник махоута. Он кормит слона и присматривает за ним. Сатмар выполняет роль охранника, следуя за слоном с копьем. Если слон проявляет строптивость и отказывается подчиняться махоуту, сатмар может уколоть его в задние ноги, очень чувствительные у этих животных. Сильный укол в сустав может даже временно парализовать слона. Из Гвалиора до Шивепури одна неделя пути для слонов. Так как погода стояла жаркая, животные могли двигаться лишь ночью. Во главе колонны шел большой самец, принадлежавший богатому землевладельцу Садар Шитоле. Слоны очень нервны. Хорошо еще, если слон устоит перед нападением тигра во время загона. Но внезапная атака тигра на слона, мирно шествующего по дороге, может привести в смятение это огромное животное. Увы, нечто подобное произошло на этот раз. Когда колонна слонов проходила через густой лес, впереди на дороге появился тигр. Путешествуя ночью, махоут обычно дремлет в своем седле, укрепленном на шее слона. Увидев, или почувствовав тигра, головной слон остановился как вкопанный, погонщик вылетел из седла и упал на землю. Это еще больше напугало и без того возбужденного слона. Он бросился на несчастного махоута и затоптал его насмерть. Тигр тем временем скрылся в лесу. Подошли другие слоны, и с их помощью удалось утихомирить возбужденное животное. Нукар взобрался ему на шею и сумел вновь заставить его слушаться. В конце концов колонна двинулась в путь. Получив известие о смерти махоута, я запретил использовать этого слона для охоты, покуда он полностью не успокоится. Когда напуганный слон убивает человека, часто трудно определить, произошло ли это по несчастливому стечению обстоятельств или из-за злобного и коварного характера животного. Я не хотел рисковать. Слоны были расставлены там, где они могли скорее всего понадобиться. Прибыли магараджа, вице-король, сопровождающие их лица, и охота началась. Мы отправились в местечко под названием Пори. Я предполагал, что в этом районе обитали два тигра, поэтому позаботился, чтобы здесь все было готово для охоты. В специальную башню для стрельбы взобрались магараджа и вице-король вместе со своим секретарем полковником Стюартом. Три другие охотникаразместились на махане, устроенном на дереве примерно в пятидесяти ярдах от башни. После этого я решил взглянуть на слонов, отобранных для участия в загоне. К своему неудовольствию, я обнаружил среди них слона, убившего махоута. Я спросил нового махоута, почему он решился так быстро вывести слона на охоту. Он ответил, что слон совершенно успокоился и вполне годится для участия в загоне. Махоут добавил, что в прошлом этот слон долгое время жил в Пори и, попав в знакомые места и родимое стойло, почувствовал себя как дома. Я не стал больше возражать и указал, где ему следует занять место в линии. Взобравшись на спину одного из двух других слонов, снабженных хоудахами, я дал сигнал к началу загона. Примерно через полчаса впереди послышались выстрелы. Как только мой слон дошел до башни, где сидели охотники, я осведомился у лорда Ридинга и моего шефа, удачной ли была стрельба. Они сообщили, что ранили двух тигров, вышедших из леса, и что хищники скрылись в густых зарослях позади башни и махана. Мне предложили отправиться в заросли и пристрелить их. Однако едва мой махоут повернул слона, как меня попросили вернуться. Магараджа, его гости и все остальные охотники решили сами пуститься в погоню за тиграми. Я сошел со слона и помог разместить всех охотников на хоудахах двух слонов, выделенных для этой цели. Когда слоны медленно тронулись в путь, я вдруг почувствовал беспокойство из-за того, что сам не отправился с охотниками. Третий слон-самец стоял рядом, и у него на спине, как обычно, было укреплено мягкое седло. Я решил, что, хотя это слон далек от идеала, им можно воспользоваться и велел махоуту поставить слона на колени, чтобы можно было взобраться на седло.
Отдавая распоряжение, я стоял в нескольких ярдах от животного, не выпуская его из поля зрения, но и не глядя ему прямо в глаза. В тот момент, когда махоут дотронулся до него анком, слон, вместо того, чтобы стать на колени, поднял хобот и пронзительно завизжал, а затем, растопырив уши, бросился в нападение. Но я не спускал с него глаз и был настороже. Я побежал куда глаза глядят, пригнувшись и бросаясь из стороны в сторону. Пробегая мимо группы людей, я увидел личного доктора магараджи и его носильщика с походной аптечкой. Я крикнул: «Спасайтесь!» Но доктор, не понимая, что происходит, стал осматриваться по сторонам. Через секунду слон сшиб его с ног и начал катать по земле, пытаясь пронзить бивнями. К счастью, бивни слона слишком далеко отстояли друг от друга, поэтому, хотя доктор и получил несколько ссадин, слону не удалось проткнуть его. Потом внимание слона привлек носильщик. Бедный парень остолбенел от страха. На этот раз слон не понадеялся на свои бивни. Сбив носильщика на землю, он начал топтать его. Раздался звон и хруст разбиваемых пузырьков. Я никогда не забуду этого звука. Затем слон огляделся и вновь бросился на меня. Я стоял невдалеке как загипнотизированный и наблюдал кошмарную сцену расправы над доктором и носильщиком. Махоут, хотя и допустил очевидную оплошность, взяв на охоту этого слона, но оказался очень смелым, находчивым парнем. В то время как слон норовил проткнуть доктора своими бивнями, махоут кричал на гигантское животное и колол анком, пытаясь заставить его поднять голову. К сожалению, его попытки не увенчались успехом. Видя, что слон мчится на меня, я бросился бежать и спрятался за башней для стрельбы. Потеряв меня из виду, взбешенное животное обратило внимание на другого члена нашей группы — генерала Радживаде, стоявшего недалеко под деревом. Вместо того чтобы бежать, генерал спрятался за деревом и тем самым спас себе жизнь. Но он получил серьезное ранение, когда атакующий слон свалил дерево и сбитый наземь генерал оказался похороненным под ветвями. Все это произошло в считанные секунды. Теперь, не видя генерала, укрытого ветвями дерева, слон вновь поднял голову и заметил полковника Стюарта, занятого фотографированием. Полковник стоял на открытом месте на расстоянии сотни ярдов. Его фотоаппарат был наведен на башню для стрельбы. Когда же он опустил камеру, то увидел мчавшегося на него слона. Сообразив, в какой переплет попал, полковник сломя голову ринулся к дереву. На свое счастье, он уронил во время бегства фотоаппарат и фуражку. Ослепленный яростью слон остановился, чтобы растоптать эти вещи. Воспользовавшись тем, что внимание слона отвлечено, полковник спрятался за пень и прижался к земле. Когда с фуражкой и камерой было покончено, слон осмотрелся и, не видя больше своей жертвы, рванулся налево, где собралась группа шикари. Шикари бросились в тот самый кустарник, где скрылись два раненых тигра. Слон следовал за шикари по пятам до тех пор, пока один из тигров, спрятавшихся в густых зарослях, не услышал нарастающего шума и не издал предупреждающего рычания. Слон тут же остановился и, повернувшись, побежал в сторону Пори. Несчастные шикари, оказавшиеся между молотом и наковальней, рассыпались в разные стороны. Как только слон удалился, люди стали вылезать из своих укрытий. Я послал несколько человек в деревню предупредить жителей, чтобы они не выходили из домов, пока слон не вернется в стойло. Бедный носильщик с походной аптечкой лежал мертвый там, где был растоптан слоном. Его хозяин — доктор был жив, хотя и не пришел еще в сознание. Генерал стонал. Полковник Стюарт, несмотря на тесный китель и сапоги, сумел вскарабкаться на высоченное дерево. Когда опасность миновала, он не смог спуститься на землю, пришлось забросить ему веревку. Случай с полковником весьма красноречиво показывает, как действует на человека приближение взбесившегося слона. Тем временем дела у охотников, двинувшихся в заросли на двух слонах, шли не блестяще. Когда взбесившийся слон бросился на меня, его пронзительный визг в такой степени подействовал на других животных, что они, хотя и находились на почтительном расстоянии от нас, пустились бежать и неслись целую милю, прежде чем их удалось остановить и успокоить. Тем не менее они вернулись к выполнению своего долга вместе со своими потрясенными наездниками. Вскоре один из тигров был найден и пристрелен. Второго нашли уже мертвым. Позже я узнал, что взбесившийся слон добрался до своего стойла, не встретив никого на пути. Как только он вошел в стойло, махоут соскочил с его спины на перегородку и, действуя весьма отважно, закрепил засов, лишив таким образом животное возможности выйти из стойла. Садар Шитоле, владелец слона, был в этот день на охоте. Когда он увидел опустошение, произведенное его животным, он решил немедленно уничтожить его. Таков был печальный конец этого трагического дня.
Охота со слонами
Конечно, неприятности во время охоты со слонами не исключены, и все же охота на тигра со спины хорошего, спокойного слона — интереснейшее, захватывающее занятие. Особенно удобны слоны в джунглях с высокой травой, когда по шевелению стеблей можно определить движение хищника еще до того, как увидишь его. Именно так я охотился в травянистых джунглях Бихара. Там специально для охоты держали тридцать — сорок слонов. В Бихаре существует такая практика: двух-трех буйволов привязывают в местах, где их скорее всего могут заметить тигры, а затем, когда хищники нападут на приманку и этим выдадут свое присутствие, организуется загон. Все охотники на слонах размещаются на заранее определенных позициях, образуя большое кольцо вокруг убитой приманки. Затем слоны с царственной важностью начинают двигаться к центру круга. Кольцо постепенно сжимается, и тигр пытается прорваться. При этом он бросается на наиболее слабого, как ему кажется, слона в цепи. Иногда он так долго выжидает, что слоны окружают его живой стеной, и лишь тогда он совершает прыжок. Но в местах, где я живу, такие загоны почти не практикуются. В Гвалиоре, а позже в Джайпуре в моем ведении было два десятка слонов. Использовались они лишь для прочесывания труднопроходимых зарослей или преследования раненых зверей. Например, в эпизоде, упомянутом в предыдущей главе, три слона использовались в первую очередь для того, чтобы выгнать тигров на охотников, уже занявших позиции. Сделать прицельный выстрел со спины слона не так-то просто, потому что, если даже животное не двигается, хоудах редко остается совершенно неподвижным. И все же, попрактиковавшись немного, хороший стрелок может добиться отличных результатов в такого рода стрельбе. Одним из самых блестящих стрелков, которых я знал, был покойный магараджа Альвара. Сидя в раскачивающемся хоудахе на спине идущего слона, он мог попасть из винтовки 22-го калибра в бегущего зайца. Однажды на охоте тигр взобрался на крышу заброшенного строения. Магараджа подъехал на слоне, но отказался стрелять в тигра, распластавшегося на крыше, и ждал до тех пор, пока тигр не прыгнул. Тогда он выстрелил и сразил зверя в прыжке. Есть смелые слоны, которые, несмотря на свой нервный, легко возбудимый характер, мужественно встречают нападающего тигра. Другие робки, и нет уверенности, что они не пустятся в бегство при первой опасности. Спина бегущего слона — самое неподходящее в мире место для сидения. Тряска настолько ужасна, что начисто исключает возможность стрельбы. Как-то раз мы с капитаном Хуссейном верхом на слонах разыскивали тигра, спрятавшегося в густых зарослях. Неожиданно зверь прыгнул на слона Хуссейна и вцепился в его переднюю ногу. Слон не пытался бежать, напротив, он наклонил голову и так резко атаковал тигра, что капитан, пытавшийся выстрелить, был выброшен из хоудаха. Тигр был, однако, слишком занят схваткой со слоном, чтобы обращать внимание на человека. Слон попеременно наносил ему удары головой и свободной ногой. Мой слон вел себя великолепно. Несмотря на переполох, он, повинуясь команде махоута, встал как вкопанный, а затем, продвинувшись вперед, загородил собой человека на земле. Я не мог стрелять, но этого и не требовалось. Вскоре тигр был буквально расплющен страшными ударами слона. Мой друг отделался царапинами и сломанным прикладом ружья. Между слонами, живущими в одном загоне, иногда устанавливается большая дружба, и тогда животные приходят на помощь друг другу. Когда я писал эту книгу, в Джайпуре жили две слонихи — Шарифин и Бибайя, близкие подруги и союзницы. Обе показали себя в охоте на тигров надежными и спокойными животными. Несколько лет назад я взял их на поиски тигра-людоеда, наводившего ужас на людей в местечке близ Шапура. От крестьян я узнал, что тигр скрывается на острове в середине мелкого болотца, заросшего высокой травой и тростником. Оседлав для себя Бибайю, я посадил несколько шикари на Шарифин. Когда мы добрались до болота, слонихи отказались вступить в воду, опасаясь завязнуть — вечный источник забот этих грузных животных. Однако дно под тиной было твердым, и после длительных понуканий Бибайю удалось заставить двинуться вперед. Ее подруга наотрез отказалась последовать ее примеру, и я, таким образом, поехал один. Прошлепав по болоту около ста ярдов, мы оказались у густого тростника, и Бибайя стала пробираться через него. Тигр, скрывавшийся в этом месте, лежал тихо, и я увидел его, лишь когда он взметнулся в прыжке. Я выстрелил навскидку. Пуля попала зверю в грудь. Он упал и начал барахтаться в густой болотной растительности. Бибайя вела себя великолепно. Остановившись, она замерла на месте, издав лишь странный пронзительный звук. Никогда прежде я не слышал такого звука. Не призыв ли это о помощи, адресованный ее подруге, оставшейся на берегу болота? Так и оказалось. Ни понукание, ни угрозы, ни уколы анком не могли заставить Шарифин вступить в воду. Но как только Бибайя подала свой сигнал, Шарифин услышала его, ведь слоны обладают феноменальным слухом, и тотчас бросилась в воду. Несмотря на все усилия махоута не подпускать ее слишком близко ко мне, чтобы она не помешала выстрелу, Шарифин продолжала мчаться вперед, пока не встала рядом со своей подругой. После этого обе слонихи затеяли какой-то мурлыкающий разговор. Порыв Шарифин, бросившейся на помощь Бибайе, не помешал мне, поскольку тигр к тому времени уже испустил дух. Вода в этом месте едва доходила до пояса, и поэтому хищника скоро вытащили на сушу. Он оказался типичным людоедом, тощим и изможденным. На нем не было ни пулевых ранений, ни обломков игл дикобраза, но на его передней лапе, на горле и животе были заметны рубцы от глубоких ран. Длинный гноящийся шрам тянулся через живот. Так как это был самец, то я пришел к выводу, что глубокие раны он получил, вероятно, в схватке с соперником. Не было оснований сомневаться в том, почему он стал заниматься кражей овец и коз, а затем превратился в людоеда — он был слишком искалечен, чтобы справиться с более сильными и ловкими существами. Слоны обычно хорошо преодолевают труднодоступные места, за исключением болотистых районов, уверенно передвигаются по незнакомой местности и среди скал, разведывая дорогу с помощью-хобота. Когда же они спускаются с мягкого песчаного склона, угрожающего обвалиться под их тяжестью, они приседают и съезжают вниз, как на салазках. Кроме того, слоны исключительно сообразительные животные. Припоминаю весьма примечательный эпизод, свидетельствующий о находчивости слонов. Я был на охоте с магараджей Альвара. Убив четырех тигров, группа охотников возвращалась домой. У нас было четыре слона — три слонихи и один самец. Наш путь лежал через узкий канал с высокими крутыми берегами. Три слонихи успешно преодолели канал, а самец с магарджей на спине, будучи тяжелее их, сразу же оказался в беде. Когда он сошел с откоса и приблизился к воде, почва стала уходить у него из-под ног. Слон попытался податься назад, но не смог этого сделать, и его огромные ноги, двигаясь вперед и назад в поисках опоры, вскоре провалились, и он начал тонуть. Тут он понял, что должен опереться ногами о что-нибудь твердое. Вытянув хобот, он пытался достать камни или деревце. Сообразив, что он ищет, я осмотрелся и увидел доски, сложенные в штабель на нашей стороне канала. Обратив на них внимание моего махоута, я сказал, чтобы он заставил слона поднять одну из досок и передать тонувшему самцу. Как только самец дотянулся хоботом до доски, он тут же схватил ее, подложил под переднюю ногу и сразу же почувствовал себя увереннее. Другие махоуты последовали нашему примеру, и через четверть часа слон выбрался на твердую почву.Об авторе Кесри Сингх — потомственный индийский охотовед. В течение 37 лет начиная с 1920 года он работал в управлении по охране животного мира в штатах Мадхья-Прадеш и Раджастхан. Свои многочисленные наблюдения за жизнью диких животных, и в первую очередь тигров, а также свои мысли о путях сохранения фауны Индии он изложил в книге «Тигр Раджастхана». Кесри Сингх — большой друг нашей страны и активист индо-советского культурного общества.
КЕСРИ СИНГХ — ОХОТНИК НА ТИГРОВ Послесловие
«Внимание! Опасно, тигры» — такие таблички можно встретить только на дорогах Индии. До сих пор эти могучие хищники обитают в некоторых районах страны; наиболее многочисленны они в предгорьях Гималаев, джунглях Ориссы и Ассама. Специалисты полагают, что в настоящее время в Индии около трех тысяч тигров. Это не так уж мало, но и не очень много, если учесть, что пятьдесят лет назад их здесь было в десять — пятнадцать раз больше. Резкое сокращение численности тигров объясняется несколькими факторами: расчисткой джунглей, уменьшением количества диких копытных животных — основной пищи этих хищников, и, наконец, истреблением их человеком. А человек тут явно перестарался. Из публикуемых записок Сингха читатель узнает о том, что он, Сингх, лично убил более тысячи тигров. Известны и другие охотники, добывшие по нескольку сотен тигров. Проверить все эти цифры, естественно, невозможно, но факт массового истребления тигров неоспорим. Кесри Сингх — потомственный индийский шикари (охотник), охотовед и натуралист. Более тридцати лет он возглавлял управления по делам охоты в княжествах Джайпур и Гвалиор. Публикуемые очерки представляют собой отрывки из книги Сингха «Тигр Раджастхана», вышедшей в 1967 году в Бомбее на английском языке. Очерки дают яркое представление об охоте на опасных хищников в Индии. Кое в чем книга Сингха напоминает широко известные у нас записки Дж. Корбетта и К. Андерсона, но во многом и отличается от них. Как наблюдатель Сингх, пожалуй, слабее Корбетта, не столь глубоко раскрывает психологию охотника, но отличное знание методов охоты, природы Индии, поведения зверей, в том числе их индивидуальных различий, — все это, несомненно, сильные стороны книги индийского шикари. Иным было и положение Сингха: в отличие от Корбетта или Андерсона он находился в полной зависимости от своих высокопоставленных и бесцеремонных хозяев, что отчетливо проявлялось во время охоты. События в книге Сингха происходят в давние времена английского владычества в Индии, и многие коллизии, характерные для того времени, ныне представляют лишь исторический интерес. Когда вы прочитаете о том, что тигр, на которого автору пришлось охотиться в Гвалиоре, никогда не видел слонов, не подумайте, что тут вкралась ошибка. Дело в том, что область распространения тигров в Индии шире, чем диких слонов. Так, последних нет ни в Раджастхане, ни в Гвалиоре, где тигры еще сохранились. У большинства из нас с детства сложилось впечатление о слоне как о мирном, добродушном животном. В общем-то это верно, но нельзя забывать, что в некоторых случаях слоны более опасны, нежели тигры, о чем хорошо известно жителям лесных районов Индии. Индийский охотник с гордостью пишет о добытом им тигре весом в 590 фунтов (236 килограммов) и отмечает, что это «совершенно редкостный» вес для тигра. Действительно, в Индии вес этих хищников редко превышает 200 килограммов, в других же странах обитают тигры как более мелкие, так и более крупные. На Суматре, например, водятся самые мелкие тигры, средний вес которых всего лишь 120 килограммов, в то время как на Амуре и в Уссурийском крае живут самые крупные тигры, достигающие 300–350 килограммов веса. Один из самых захватывающих эпизодов в публикуемых записках — встреча охотников, не имеющих подходящего оружия, с семьей тигров. Сингх ярко показывает, как тигрица и ее «супруг» всячески пугали людей, стараясь заставить их уйти из тех мест, где находились тигрята. Пугали, но не нападали, хотя в других случаях приближение человека к тигрятам может вызвать нападение тигрицы. В одной из глав Сингх пишет о хищнике, который «не обращал внимания на любые попытки отогнать его от скота» и при этом кидался на крестьян. Действительно, видя беспомощность безоружных людей, тигры способны доходить до невероятной наглости, особенно тигры-людоеды. Известны случаи, когда они забегали в села и даже города, врывались в дома, убивали людей и домашних животных. Эти нападения наводили такой страх, что жизнь буквально замирала на обширных территориях. Бывали случаи, когда тигры бросались даже на группу вооруженных людей. Ясно, что тигров-людоедов надо уничтожать любыми способами и как можно скорее, но обычные тигры во многих районах нуждаются в охране. Когда тигр с близкого расстояния кидается на человека, то последний обычно гибнет или получает тяжелые увечья. Это и не удивительно: ведь сила тигра такова, отмечает Сингх, что зверь может «сокрушить человека одним ударом лапы». В другом месте автор очерков рассказывает, как тигр втаскивал на холм тушу буйвола. Добавим к этому, что хищник без особого труда переносит оленя и кабана, а с коровой или верблюдом в зубах переплывает широкую реку. Повествуя о том, как тигр прячется в придорожных кустах, чтобы напасть на охотника с фланга, Сингх замечает, что это «один из классических приемов представителей семейства кошачьих». Есть и другие излюбленные приемы. Известно, что раненый или преследуемый охотником тигр нередко подпускает человека на длину прыжка. Или выходит на след охотника и нападает сзади. Это может окончиться гибелью человека, но, если охотник заметит маневр тигра и вовремя повернется, он, случается, убивает хищника, выбегающего по следу прямо на стрелка. Так не раз стрелял тигров знаменитый туркестанский охотник прошлого столетия Мантык. Рассказывая об одной из наиболее опасных и изнурительных охот, Сингх отмечает: «На протяжении всего этого длинного, неудачного дня меня не покидало ощущение, что мой противник пытался — и почти всегда с успехом — предусмотреть мой следующий шаг и соответственно обдумать свои ответные действия». Если слово «обдумать» поставить в кавычки, то все остальное не вызывает сомнений. Сложность и опасность охоты на тигров заключаются не только в том, что эти хищники способны провести охотников, не только в силе этих могучих животных и стремительности их атак: одно лишь присутствие тигра, его рев, «кашель» вызывают страх и растерянность у людей, а то и совершенно парализуют их. В записках Сингха таких сцен немало. Обратите внимание, как «мажет» магараджа — отличный стрелок, по утверждению Сингха; как этот же магараджа закладывает в ствол своего ружья вместо патрона… свисток; как растерялся «европейский чиновник», а два индийских погонщика, услышав рев тигра, потеряли сознание от ужаса. Это, кстати, вовсе не проявление трусости: подобным образом тигриный рык действует почти на всех людей, включая и опытных охотников. Известны случаи, когда солдаты, вооруженные винтовками, внезапно увидев тигра, бежали, кинув оружие, когда охотники, встретившие хищника, бросались наутек, совершенно потеряв самообладание и т. п. Присутствие тигров необычайно сильно действует даже на самых отважных охотников, уже много раз встречавшихся с этими хищниками. Гибель людей на тигровых охотах — явление обычное. Это мы видим и в записках Сингха, и во многих других источниках. Но очерки Сингха знакомят нас с такой стороной этого вопроса, которая не раскрыта в книгах Корбетта и Андерсона. Эти охотники шли на тигра преимущественно в одиночку и рисковали только своей головой. В России охотились на грозного хищника как в одиночку, так и целыми охотничьими командами, но и в том и в другом случае риск был одинаков для всех участников охоты. Иное дело — охота на тигра загоном в Индии с участием безоружных (или плохо вооруженных) загонщиков. В этом случае риск различен для знатного индийца или европейца, вооруженного лучшим в мире охотничьим нарезным оружием и находящегося на махане — помосте на дереве, и для загонщиков, идущих по густой высокой траве или пробирающихся среди кустарника. Записки Сингха показывают, что гибли обычно именно загонщики, хотя и охотники не гарантированы от случайностей. Охотничья этика требует, чтобы стрелок никогда не оставлял раненых животных: это, во-первых, негуманно и, во-вторых, опасно для других людей, если речь идет о крупном звере. Придерживались этого правила в Индии и высокопоставленные лица, но только в чащу лезли не они, а охотники-профессионалы. Когда лорд Ридинг ранил тигра, то добивал зверя Сингх. Когда тот же Ридинг и магараджа ранили двух тигров, то Сингху было предложено «отправиться в заросли и пристрелить их». Выглядит это, мягко выражаясь, некрасиво: одни стреляют (и стреляют плохо), а другие, рискуя жизнью, лезут в чащу добивать раненого и до предела разъяренного хищника. Большая часть событий в книге Сингха происходит в районах Джайпура и Гвалиора (а также недалеко от Алвара). В колониальной Индии это были княжества, находившиеся в вассальной зависимости от британской короны; во главе их стояли феодальные правители с титулами магараджей, раджей и т. п. Ныне Джайпур и Алвар — административные единицы штата Раджастхан, а город Джайпур — центр этого штата. Территория Гвалиора включена в штат Мадхья-Прадеш. Сингх весьма вольно оперирует понятиями «княжество» и «штат», называя, например, княжества Джайпур и Гвалиор штатами применительно к колониальному периоду истории Индии. Думается, что отрывки из книги неизвестного прежде у нас автора, написавшего увлекательное повествование, будут с интересом встречены читателями.
И. Шишкин
Юрий Симченко
ПОСОХ СВАТА

Очерк Рис. В. Умнова
Ауда жениться не стремился. Он сам говорил мне об этом, когда я приезжал в этнографические экспедиции к нганасанам в прошлые годы. Он подтвердил свою волю и в этот раз, как только я сошел с маленького самолетика у фактории, стоящей в самом центре Таймыра, и, увидев Ауду первым, задал ему традиционный вопрос. Парень он был бесхитростный и добрый. Тридцать лет Ауда жил на свете, и половину этого времени он посвятил борьбе за свою независимость. Мамаша Ауды, старуха Фанда, неотступно требовала от него, чтобы он привел в чум жену. Она нарожала бы внуков, и Фанда была бы счастлива. Сказать по правде, с точки зрения Ауды, при такой ситуации была бы счастлива одна Фанда. Отец Ауды Фадоптэ относился к проблеме женитьбы сына совершенно безразлично. Более того, можно было предположить, что Фадоптэ сочувствовал Ауде. Фанда, его жена, отличалась исключительной сварливостью. Особого счастья он с ней не испытал и понимал, что и сын может попасть в такую же историю. Поэтому Фадоптэ всегда помалкивал, когда Фанда заводила разговор о том, что Ауде нужно жениться. Ауда ухитрялся увертываться от матримониальных уз много лет. В ранней юности он отдал дань увлечению девицами в нганасанском стиле. Как и все парни его возраста, Ауда путешествовал по стойбищам, где были девушки, не приходившиеся ему родней, и вовсю приударял за ними. По нганасанским обычаям, не считались за грех самые близкие отношения среди молодежи. Вольности прекращались сразу же, как только стороны вступали в законный брак. Добрачные дети появлялись редко. Девицы несокрушимо верили в то, что до совершения определенного обряда с Тунямы — Великой Матерью-Огнем родить невозможно. Просто Земля-мать, которую по-нганасански называют Моу-нямы, не будет вкладывать глаза в тело женщины, пока не совершен особый обряд. Нганасаны считали, что Земля-мать вкладывает глаза в тело всех животных. Человек не представляет исключения. Глаза в теле матери обрастают мясом, получается олененок в важенке, или зайчонок в зайчихе, или ребенок в женщине. Вот и вся премудрость. Когда слушаешь старые истории, не перестаешь удивляться, что предки нганасан не придавали в деторождении никакого значения участию мужчин. Ну а если ребенок все же появлялся до брака, то это считалось неплохим предзнаменованием. Это означало, что Моу-нямы благоволит к данному роду и заботится о его продолжении без соблюдения формальностей. Орокоро, как говорят нганасаны, хорошо! Ауда в свое время отдал дань обычаям. Но согласно строгим канонам, определявшим у нганасан брачные возможности каждого человека, можно было ухаживать за дамами только своего возрастного класса. Чтобы понять, что это за вещь, надо набраться терпения. Нганасанская система родства, как и у многих других народов, в отличие, скажем, от нашей русской системы, создавалась без учета кровного родства. Русские одинаково называют одним словом — дядей, тетей, бабушкой, дедушкой и так далее родственников и по матери, и по отцу. У нганасан же это не так. У них сохранялся древний принцип подразделения всей родни по возрасту. Так, отец отца, дед по-нашему, и старший брат отца, то есть дядя, рассматривались с точки зрения родства совершенно одинаково. Их и называли одним словом. Младший же брат отца и собственный старший брат любого человека также состояли с ним в одинаковом родстве. Людей старше себя нганасан подразделял на несколько возрастных категорий, не считаясь с тем, в каком кровном родстве они с ним состоят. Людей же моложе себя нганасан никак не различал, одинаково называя детей и внуков, племянников и прочую мелкоту. Это понятно. Нганасанские предки считали, что иметь дело с людьми моложе себя — нянкары — грех, табу, нельзя! Ну а в людях постарше себя нганасан должен был разобраться, чтобы знать, в каком же возрастном классе он может проявить себя как личность. У каждого был свой возрастной класс. Вот поэтому-то период донжуанства оказался у Ауды непродолжительным. Девушки повыходили замуж и стали почтенными матронами. А в этом положении к ним уже не подступишься. Обряд совершен, Земля-мать вкладывает глаза в тело женщины, едва та родит очередного младенца. И иметь дело замужняя женщина может только со своим мужем, иначе будет трудно определить для ее детей родовую экзогамию, поскольку существует запрет вступать в брак с людьми из рода отца и рода матери. Возрастные ограничения — это еще не все. Есть и родовая экзогамия. Нужно разобраться и в этом деле. У нганасан жених рассматривается кроме всего прочего с двух точек зрения: принадлежности его к роду отца и происхождения по матери. Ко всем людям этих двух родов жених или невеста относятся так же, как мы к своим родным братьям, сестрам, дядям, тетям, дедушкам, бабушкам. Жениться в этих родах — нянкары — грех, табу, нельзя! Казалось бы, этого ограничения вполне достаточно. Я, предположим, Линан-чера, так как мой отец из рода Линанчера, не могу жениться в этом роде и в роде матери, допустим, Чунанчера. Логично, чтобы я отправился искать суженую в других родах. А их в окрестностях всего три. И окрестности эти величиной с хорошее европейское государство. Могу я пойти и к Нюнонде, могу и к Нгомде, могу и к Нгамтусуо. Но и там не из всех невест можно сделать выбор. Предположим, что я пришел к Нюнонде. Значит, у всех девушек, имеющих папашу Нюнонде, мамы могут быть из рода Линанчера, Чунанчера, Нгомде и Нгамтусуо. Но ведь я сам существую в ипостасях Линанчера и Чунанчера. Значит, эти девицы — мои сестрицы? Так оно и считается. Остается немного представительниц прекрасного пола одного со мной возраста, которые могли бы быть моей супругой. Чаще всего одна-две. Две, пожалуй, реже, чем одна. Принято сочувствовать прародителю нашему Адаму, которому было не из кого выбирать себе подругу. У предков нганасан положение было вряд ли лучше Адамова. Правда, у нганасан появился ввиду безысходности положения обычай смотреть сквозь пальцы на небольшие нарушения возрастных ограничений. Возникло даже правило исчислять возраст мужчины по возрасту его жены. Неудобно, видимо, было пренебрегать старинным законом. Вот новый обычай и замаскировали. Так вот Ауда остался на бобах. Его суженую красотку Сонаре подхватил один из вадеевских парней. Другие девицы тоже повыходили замуж. Ауда решил, что и так проживет, и действительно жил неплохо. Возлюбленной Ауды стала долганочка. Ее полное имя было Авдотья. Сокращенно — Дуня. А сама себя она называла Джейн. Это имя ей очень нравилось, она даже назвала так одну из своих дочерей. У Джейн в ее двадцать семь лет насчитывалось восемь детей. Старшему — восемь, младшему — год. Была она веселая и беспечная. Ауде это вполне подходило. Он и не думал менять своего положения на какое-нибудь другое. Решила его изменить сама Джейн. Она вышла замуж за средних лет долгана из Карго, вдовца, у которого было своих пятеро. Это их, по всей вероятности, и сблизило. Джейн отдала двух старших в интернат, остальных с радостью взяли ее старики и бездетные родственники. Джейн отправилась в Карго. Тут вмешалась властная Фанда. Она вспомнила, что предназначенная в жены Ауде Сонаре уже год как овдовела. Ауда понял, что от судьбы не уйти, и отдался воле матери. Старина Фадоптэ пришел ко мне среди белого дня. У меня в это время сидел местный патриарх Мухунда. Мухунда только окончил вести со мной теософский разговор. Мы с ним перед этим немножко пошаманили. Мухунда под тихие удары бубна спел несколько старинных заклинаний. По-настоящему при камлании должен присутствовать помощник шамана — дючилы. Помощник помогает «переводить» людям все пропетое шаманом. Роль дючилы с удовольствием исполнил я. Мухунда, учитывая мою весьма слабую квалификацию в этом деле, пел медленно. Я еще медленнее, с его подсказками, повторял все и успевал это записывать. Очень удобно. Дабы Мухунда не придирался, я заявил, что записываю заклинания, чтобы на досуге выучить их, как положено дючилы. Мухунда подумал и опасливо попросил не злоупотреблять этими заклинаниями. Он справедливо предостерег меня от опасности быть осмеянным молодежью за подобные предрассудки. К приходу Фадоптэ мы уже готовились к чаепитию. Чайник пел на печи. Фадоптэ успел в самый раз. Мы попили не спеша чайку и поговорили о том о сем. Мухунда собрался уходить. Фадоптэ сидел как у себя дома и никуда не спешил. Мухунда потоптался в дверях, ожидая, что Фадоптэ присоединится к нему, и ушел один. Я еще налил Фадоптэ чаю. — Тана ту-бы тейчу? — спросил неожиданно Фадоптэ. — У тебя спирт есть? Вопрос был деликатным. Спирт-то у меня имелся. Две бутылки. Но я хотел приберечь его до праздников. На фактории спиртного давно не видели. И привоза не ожидалось. Мои приятели знали, что я обладаю парой бутылок. Они крепко рассчитывали на них в праздник. Я не мог их огорчить из-за нелепого желания старика ни с того ни с сего выпить. — Однако к празднику берегу, — ответил я, помедлив. — Эбей, чего так лежать будет? Толку-то нету. — Пускай лежит пока. В праздник и будет толк. — Однако так-то худо будет. — Почему худо? Очень хорошо. Ты сейчас без толку напьешься, а Фанда устроит скандал и тебе, и мне. — Однако зачем пить буду? Ты пирта-то давай, пособку давай, меня парень жениться будет. Пирта давать надо. Не дашь — совсем стыдно будет. Давай однако. Известие о женитьбе Ауды для меня было полной неожиданностью. Порасспросив старика о подробностях, я пообещал ему спирт. Счастье Ауды, безусловно, стоило одного праздника. Этот аргумент я утвердил в качестве основного для своих приятелей. Утром к дому, где я жил, подкатил Вау. Олени в его упряжке были как на подбор. Все четверо — бонгаи, яловые важенки. Все, кроме передового, пестрые. Передовой чисто белый, с ровными ветвистыми рогами. Нарточка у Вау также была щегольской — легкая мужская ирянка на пяти копыльях. Саночки совершенно новые. Передние концы верхних реек обмотаны красным ремнем. Упряжь также изысканная. Блоки — челаки, привязанные к головкам полозьев, не деревянные, а костяные. Все нащечники у оленей из мамонтовой кости, покрыты тонким орнаментом. Лямки разрисованы. Каждая лямка, надеваемая оленю через плечо и застегиваемая на брюхе, выкроена в форме вытянутой трапеции. Посредине черной краской нарисована полоса — это дорога. По сторонам от этой полосы изображены треугольники — чумы. На широком конце лямки треугольники побольше, на узком — поменьше. Фон между ними закрашен красной краской. Символика этого рисунка мрачновата. Так оленей изукрашивают, когда едут свататься, увозят невесту или самого тебя везут в похоронном аргише. Считается, что на лямке изображена дорога в Бодырбо-моу, в Землю мертвых. — Здравствуйте, Юрий Борисович, — весело сказал Вау. — Меня к вам Фадоптэ прислал. — Заходи, — позвал я его в дом. Вау поднял на нарте новую шкуру оленя, достал оттуда половинку оленьего рога и принялся выколачивать бакари. Я опять залюбовался его нартой. Шкура придерживалась перекрещенными ремнями. Они пересекались под медной прорезной бляхой размером с блюдце. Слева у нарты привешен чехол для ружья. Чехол раскрашен черными и красными полосками. Внизу бахрома. — Ты прямо как сват, — заметил я Вау, когда мы вошли в комнату. — А я и — есть сват, — откликнулся он. — Ты сват? — удивился я. — Э-э, — подтвердил Вау. У нганасан «да» говорят с такой же интонацией, как у нас «нет». Этакое междометие, нечто вроде среднего между «ы» и «э», произносится с отрицательной интонацией. А «нет» — «нинту», говорят с тем же выражением, что «ага» у нас. — Э-э, — сказал Вау с такой ярко выраженной отрицательной интонацией, то есть с отчетливой нганасанской утвердительной, что я понял: назначение Вау на должность свата — дело решенное. Очень уж легкомысленным парнем был Вау. — А чего тебя сватом сделали? — Я ведь родня Ауде. Фанда — младшая сестра моей матери. Говорят, что я должен сватом быть. — Ты хоть раз был сватом? — Не был. — А откуда знаешь, как это делать, чтобы все получилось правильно? — Фанда-старуха три дня мне все рассказывала. — Хорошо запомнил? — Как стихи. — Ладно, потом мне все расскажешь. Я запишу. — Четома няга — четырежды хорошо. — Я с вами поеду. — Четома няга. Я решил ехать вместе с Вау и Аудой. Во-первых, мне ни разу не приходилось видеть в подробностях акт сватовства. А во-вторых, я не решался вверять обоим приятелям две бутылки спирта. Зная легкомыслие Вау, можно было твердо считать, что дальше соседнего стойбища оба путешественника не уедут. Спирт будет выпит именно там, и вопрос о сватовстве отпадет сам собой. Надежнее было, чтобы я сам привез ту-бы — огонь-воду на место и в нужный момент выступил с ней. Вау побежал сообщить Фадоптэ о моем решении. Видно, сомнения мучили не только меня. Их разделяла и сама Фанда. Узнав, что я еду, старуха приковыляла ко мне. Она, глядя, как я собираюсь, радостно хихикала и ревниво осматривала все, что я укладываю в рюкзак. Когда она убедилась, что обе бутылки надежно упакованы, то успокоилась и закурила трубочку. — Ты хорошенько смотри, — твердила Фанда, — пускай Вау все хорошо делает. — А как делать-то надо? — спросил я. — Давай говори мне, а я записывать буду. Старуха с подробностями изложила мне всю механику сватовства. Более часа ушло на запись.

Ауда и Фадоптэ тем временем пригнали упряжку и для меня. Старик уложил мой рюкзак и спальный мешок в нарту, приторочил особый посох, без которого невозможно свататься по всем правилам. Чере-посох представлял собой полутораметровое древко с копьеобразным наконечником и навершием в виде рогатки. Навершие было украшено звенящими колечками. Чере — весьма интересная вещь. С этим посохом раньше совершали разные магические действия. Им прокалывали следы дикого оленя, чтобы он далеко не уходил от мест промысла, с ним охотились на журавлей. Охота на журавлей также имела магический характер. Во время сватовства этот посох следовало воткнуть перед чумом невесты. Наш маленький аргиш тянулся напрямую к камню-хребту у отрогов Бырранги. Там, на изрезанном логами и оврагами лайдах, пас свое стадо Кабюре. В стойбище Кабюре жила Сонаре — невеста Ауды. Аргишить надо было суток двое. Вел аргиш Вау. У него с Аудой олени были отличные. Сильные, свежие животные тащили нарты парней легко, пускаясь вскачь, как только поднимались хореи. Мои олешки были много хуже. Они, видно, все это время находились в работе, и силенки у них поубавилось. Когда мы останавливались, чтобы дать передохнуть животным, олени Ауды и Вау стояли, а если ложились, то на живот, подогнув передние ноги. Мои заваливались почти на бок. По тому, как ложится на остановках олень, можно определить, устал ли он. Если здорово устал, то ложится на бок. Среди опытных тундровиков есть люди, которые по одному виду оленей весьма точно могут сказать, сколько пробежала упряжка. Олени, когда отдыхают, скрипят зубами. Они ведь жвачные животные и начинают тереть челюсть о челюсть, как только останавливаются. Этот зубовный скрежет оленей сопровождает путника всю дорогу. Завалишься на нарте во время остановки, закроешь глаза — только снег шуршит под ветром да скрежещут оленьи зубы. Ночевали мы в «Куропаткином чуме». Сдвинули нарты так, чтобы получился заслон от ветра. Каждый постелил себе на снег шкуру, на нее спальный мешок — готово жилье на одну ночь. К утру мы все же здорово окоченели. Особенно я с непривычки. Разогрелись, собирая оленей, маленько пожевали и тронулись далее в путь. Балки бригады Кабюре были видны издалека. Мы заметили их еще с небольшой горки. Олени порядком устали. Умотались и мы. На длинном подъеме пришлось тащиться сбоку нарт и не жалеть хорея, понукая рогачей. Те хватали зубами снег и сразу же останавливались, как только шест переставал тиранить их зады. У моих олешек на ляжках шерсти почти не осталось. Когда тычешь костяным наконечником хорея в бедную скотину, сам ощущаешь эту боль в натруженных оленьих бедрах. До бригады Кабюре было совсем немного. Там оленей пустят отдыхать, они так и останутся в стаде. До фактории мне запрягут свежих. Сверху балки Кабюре напоминали коробочки на санях. Балочки размером четыре метра на два, окошки в трех стенках и двери. Из крыш торчали трубы железных печек. Балок обтягивается оленьей шкурой — нюком. Изнутри она подшивается ситцем, а снаружи покрывается; палаточной тканью. У Кабюре балочки были белого цвета, чуть темнее снега. Вокруг бродили пузатые важенки, как бочонки на тонких ножках: скоро отел. Мы стали держать военный совет. По обычаю, надо было с возможным шиком влететь на стойбище и сразу воткнуть посох у жилища невесты. — А в каком балке она живет? — недоумевал Вау. — Чере ставить-то надо. Этого никто не знал. Стало ясно, что придется погрешить против правил. Ауда угрюмо молчал. Видимо, вся эта затея его нисколько не радовала. Мы тихонько начали спускаться с горы, решив осмотреться на месте. Кабюре принял нас радушно. Пока его пастухи высвобождали оленей от постромок, старик обошел вокруг всех нарт и внимательно осмотрел их. — Свататься приехали, Юра Борисович? — спросил он меня, когда Ауда и Вау удалились в балок пить чай. — Э-э… — Сват однако кто будет? — Вау-нюо, Вау-парень. — У-га, — удивился Кабюре, — тогда чего чере-посох тебе в санки положили? — Фанда говорит, так целее будет. — Тати, тати, — засмеялся Кабюре, — совсем верно. Вау — парень такой: голова круженный совсем. Чего чере-посох не ставили? Кого брать будете? — Не знаем, где Сонаре балок. Старик опять засмеялся: — Чего не приезжал узнать сначала? — У Вау спроси, чего он не приезжал. — Ладно, чай пить иди. Вау и Ауда уже сидели без парок. Мы с Кабюре тоже разделись и подсели к столу. Народ все прибывал и прибывал в балок бригадира. Пришли отец Сонаре, еще два пастуха с женами. Повернуться в балке было невозможно. Пришли гостевать, как водится, с детьми. Малыши сидели чинно, и только пятилетний внук Кабюре, войдя с улицы, содрал с себя парку и принялся лазить прямо по гостям. Вау делал мне руками какие-то знаки и шептал издали. А что он шептал, я не расслышал. — Сылы ибаху, чего сказал? — спросил я Вау. Тот громким шепотом, явнослышным всем присутствующим, повторил: — Одну бутылку, Юрий Борисович, доставать надо. Люди собрались. — Так ведь свататься же надо, — начал я, да осекся. Перед людьми неудобно стало. Чертов Вау — знает ведь, что на все этапы сватовства выпивки может не хватить. Но делать было нечего. Я вышел из балка и пошел к своему рюкзаку. Веселье у нас развернулось превеликое. Одной бутылки спирта на целую бригаду маловато, конечно. Выпивка носила скорее символический характер, но настроение у всех повысилось до предела. Вау сидел как король на именинах. Он смешил всех и смеялся сам. Особенное внимание Вау уделял Сонаре и ее отцу. Папаша Сонаре уже через час обращался с Вау как с родным сыном. Сама Сонаре хохотала беспрерывно и беспричинно, как мне казалось. С моей точки зрения, Вау держался совсем не так, как подобает свату. Он лез смотреть, как сшиты у Сонаре бакари и даже похлопал ее пониже талии, когда та выходила из балка. Это уж было слишком. Ауда сидел молча. Не поймешь — то ли злится, то ли устал. Старуха Кабюре поплелась за Сонаре. Гости разошлись. Поехал смотреть стадо и Кабюре. — Давай ставь посох у балка Сонаре, — сказал я Вау, — Фанда ведь так велела. — Лучше вы поставьте, — нахально заявил Вау, — а то мне неудобно как-то. Чере вы везли, а ставить я буду. Давайте сделаем, как будто мы оба сваты. Вы посох поставите, а я говорить буду, и делать все, что надо. — Ладно, — согласился я. Вау чего-то совсем разошелся, забыл все наставления старухи. Надо поправлять дело самому, а то перед хорошими людьми совестно будет. Я отвязал от нарты посох, пошел к балку, где жила Сонаре, и воткнул чере перед балком. Вау с одобрением наблюдал за мной из двери балка. — Ну, что дальше будешь делать? — спросил я Вау, войдя в балок. — Теперь надо идти к бойкунанку — старикашке, к отцу Сонаре, разговаривать с ним и с ней тоже говорить. — Давай иди, — сказал я. Вау пошел. По обычаю, он должен был долго говорить с отцом и матерью невесты. Матери не было в данном случае, следовательно, только с отцом. Вау должен был пообещать родителям богатый выкуп за невесту и договориться о приданом. По правилам во время этих переговоров мог присутствовать и жених. Однако Вау почему-то не взял с собой Ауду. Мы лежали с женихом на спальных мешках и курили. Открылась дверь балка, и появился внук Кабюре. Он, пыхтя, перевалился через высокий порог и втащил за собой наш посох-чере. — Ты зачем его взял? — спросил я мальчишку, — его нельзя трогать. Я тебе потом дам его поиграть. — Бойку сказал — играй, — ответил мальчишка. Бойку по-нганасански называют мужчин старше себя. По именам старших называть не принято. — Вау что ли? — спросил я, нарушая этикет. — Э-э! — подтвердил мальчишка. Я взял чере, понес его обратно к балку и воткнул перед ним. Судя по смеху, который раздавался из балка и громкому голосу Вау, который рассказывал о приезде кинопередвижки к ним в бригаду, до сватовства дело еще не дошло. Пока я таскался с чере-посохом, внук Кабюре обжег себе ягодицу о печку. Печки в балках железные. Устанавливаются справа от входа. Они раскаляются сразу же, как только подкинут дров. Мальчишка разбаловался и нечаянно прижался к печке. Для совсем маленьких детей парки делают с зашитыми рукавами. Для таких парнишек, как внук Кабюре, рукава разрезают и к ним пришивают рукавички. Но лет до шести и мальчишки, и девчонки носят одинаковые штаны, которые представляют собой единое целое с бакарями — обувью. У девочек только от штанов на груди идет полоса шкуры, закрепленная за шею. Вроде комбинезончика. У мальчишек штаны кончаются на бедрах. Но у тех и у других сзади имеется вырез. Поэтому о малышах беспокоиться нечего. Снимать и надевать штанишки не приходится. Если чего-нибудь захочется, то надо только присесть. Внук Кабюре стоял передо мной без парки. На ягодице виднелась багровая полоса ожога. Я смазал ожог вазелином, приложил вату и залепил пластырем. Мальчонка терпел все молча, только слезы стояли в раскосых глазах. По окончании процедуры он надел парку и опять пошел гулять. Упрямый тундровик взял с нарт свернутый кусок аркана — маута и ловко, не глядя, забросил на головку стоявшей недалеко нарты. Он снова собрал свой маут в кольца и пошел дальше по стойбищу. Так здесь мальчишки и учатся сложному труду оленевода. Лет с пяти они привыкают обращаться с маутом, и в пятнадцать парнишка кидает маут не хуже взрослых. А запрячь-распрячь оленей, управлять упряжкой, командовать оленегонными лайками умеют уже годам к десяти. Вау пришел очень возбужденный. — Юрий Борисович, — заговорил он сразу же, — надо еще бутылку доставать. Старик говорит — выпить следует. — Ты про Ауду-то начал говорить? — спросил я. — Пока не начал. Рано еще, думаю. Надо, чтобы старик добрей стал и невеста тоже… Очень красивая девка, прямо трястись начинаю, когда смотрю. Ауда демонстративно перевернулся на другой бок, чтобы не глядеть на Вау. — Не дам спирта, — сказал я. — Он еще понадобится, когда договоритесь. — Ну не весь, — настаивал Вау. — Сейчас половину бутылки отнесу, а другая останется. — Ладно, — сдался я. Вау схватил половину бутылки, которую я ему нацедил, и торопливо ушел. Кабюре подобрал своего внука в километре от стойбища. Неугомонный мальчишка ухитрился набросить маут на рога зазевавшегося оленя, и тот поволок его по дровам, по щепкам, по застругам в тундру. Малец не хотел выпускать из рук маут, но олень оказался сильнее. Когда Кабюре подъехал к внуку, тот сидел на снегу и свирепо кричал оленю, чтобы он вернулся и отдал маут. Парнишка ни за что не хотел возвращаться к дому без своего маута. Старику пришлось ловить злополучного оленя. Кабюре втащил внука, как тюк. Малец тут же нагнулся, наступил на рукав, вылез из парки, и нашему взору представилось его ободранное о дрова пузо. — Для чего у тебя кожа, — спросил я его, — чтобы ты ее жег и обдирал, что ли? — Нет, — ответил малец, засунув палец в рот. — А для чего? — Для того, чтобы мясо не пачкалось, — ответил он угрюмо. Пришлось снова лезть за медикаментами и приводить в порядок пузо. Старуха Кабюре, видно, здорово загуляла. Она не возвращалась домой и не кормила нас. Окаянный Вау всех сбил с толку. — Схожу-ка позову старуху, — сказал я Кабюре. — Ходи, ходи, — обрадовался старик, — меня ноги-то мяконькие стали, не крепкие, стоять не хотят. Я пошел. В балке Сонаре царило веселье. Вау сидел в центре компании — здесь были все со стойбища, кроме дежурных пастухов, — и говорил, не переставая. Сонаре сидела уже с ним рядом. Что-то подозрительно все это было. Сонаре, смеясь, хваталась за рубаху Вау и утыкалась лицом ему в спину. Даже парку Вау снял! По обычаю, если ты не собираешься ночевать здесь, то парку не снимаешь, сколько бы времени ни просидел. Что он здесь ночевать, что ли, собрался? Я посмотрел на все это безобразие и сказал старухе Кабюре, что мы есть хотим. Она весьма неохотно вылезла из балка. Придя к себе, торопливо достала мясо, велела самим разогреть чай и снова поковыляла гостевать. Поели все вместе — Ауда, Кабюре с внуком и я. После еды ничего не оставалось, как залечь на свои спальные мешки и наблюдать за Кабюре, занимавшимся воспитанием молодежи. К его внуку пришли еще трое парнишек того же возраста — от четырех до шести лет, и старик плел им разные были и небылицы про диких оленей. Пока дед толковал ребятам о повадках дикарей, о том, как раньше учили собачек загонять оленей на охотника, ребята слушали с интересом. Любопытно было и мне послушать об этих премудростях. Кабюре рассказывал о собаках своего отца. На промысле, завидев дикого, отец Кабюре прятался за какой-нибудь заструг и пускал пса. Собачка бежала к оленю, заходя обязательно под ветер. Дикий олень старался тоже забежать под ветер — это уж такой инстинкт у оленей. Собака двигалась так, чтобы олень описывал дугу, бежал по кругу, и приводила его прямо туда, где находился охотник. А еще у отца Кабюре были олени-манщики. С таким оленем он мог так близко подобраться к диким, что колол их копьем.

— Интерес мальчишек был очень практичным. Как только Кабюре стал толковать об обрядах и требовать, чтобы мальцы заучили несколько заклинаний, терпение их иссякло. — Пусти, дед, — потребовал внук. Он слез с колен Кабюре, натянул парку, и вся орда с восторженными воплями высыпала наружу. Кабюре покряхтел и улегся отдохнуть. Ауда тоже завалился на мешок. Я убрал дневник, улегся рядом с Аудой и стал размышлять о том, что старые и малые везде одинаковые. Кабюре скоро надоело сидеть с нами. Ауда молчал. Я тоже. Кабюре позвал внука и уложил его спать, а сам пошел послушать, что говорит Вау. Ауда забрался в свой спальный мешок. Я из солидарности последовал его примеру. Разбудил меня Вау. Он тряс меня за ногу и тихонько звал по имени. — Что ты хочешь? — спросил я. — Юрий Борисович, — зашептал Вау, — еще спирт надо. — Зачем? — Я сейчас дело говорить буду, Сонаре отцу говорить буду. — Может быть, завтра выпьете, когда договоритесь? — Нет, — запротестовал Вау, — старик говорит — совсем выпить хочется. Я плюнул и разрешил Вау утащить последнюю заветную половину бутылки. Утром Вау заявился, когда мы завтракали. — Ну что? — спросил я, как только он сел к столу. — Четома-няга, — ответил Вау, сияя, — четырежды хорошо! — Что хорошо? — Сонаре говорит, пускай Ауда помоложе девку возьмет. Ведь он совсем молодой. — Что она, замуж не хочет, что ли? — Маленько-то хочет. За меня идти хочет. Это было ни с чем не сообразно. Я и представить себе не мог, как появлюсь на глаза Фанде и Фадоптэ. — Бойку, — обратился я к Кабюре, — пускай мне оленей соберут. Я к Биля аргишить буду. Там погостюю. Мне казалось, что за неделю страсти поутихнут, и можно будет вернуться. Ауда с надеждой глянул на меня и заявил: — Я, однако, тоже к Биля аргишить буду. — Кумосы! — восхитился Вау. — Я тоже у Биля век не был. Я тоже вместе с вами аргишить буду. Вау ехал и пел. — Сначала грудь — источник наслаждения для мужчины. Потом грудь — источник питания для ребенка. А после грудь — одна беда для старухи. Думает старуха: зачем мне грудь? Что толку от нее? Вау горланил на всю тундру. Он был горд. Он был счастлив. — Замолчи! — наконец рявкнул на него Ауда. — Замолчи, лончак глупый. Он ревновал. — Ты же не хотел жениться, — заметил я Ауде. — А теперь захотел, — буркнул Ауда. Вау помолчал и после некоторой паузы рассудительно заметил: — Всегда лучше самому свататься… — Нгандакаичу’о, безмозглый, — снова рявкнул Ауда, чувствуя, что Вау ему не прошибить, — лончак! Лончак — это годовалый олень-самец, который проявляет во время гона крайнюю активность. И в основном без толку. Ауде очень хотелось обидеть Вау. Вау встал на колени на нарте и низко поклонился Ауде. Я поравнялся с его санками и крепко стукнул хореем по согнутой спине. Вау захохотал и рванул упряжку вперед. — Давай закурим заветные, — сказал я Ауде и вытащил из нагрудного кармана неприкосновенную пачку московских сигарет. Ауда смотрел на меня как лемминг на собаку. Потом он сорвал капюшон, потряс головой, вытер лицо снегом, зачерпнув его ладонью. Посмотрел на меня уже трезвыми глазами и рассмеялся. Он перехватил поудобнее хорей, искусно, как опытный биллиардист кием, стукнул своего передового и оставил нас далеко позади.
Об авторе Симченко Юрий Борисович. Родился в 1935 году в Москве. Окончил Историко-архивный институт и учился на историческом факультете МГУ. Кандидат исторических наук, этнограф, работает в Институте этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР. С 1961 года занимается изучением этнографии коренного населения народов Крайнего Севера. Совершил ряд экспедиций на Чукотку, в низовья Колымы, Индигирки и Яны, на Таймыр, Ямал, Канинский и Кольский полуострова. Автор ряда научных и научно-популярных работ. В настоящее время работает над научно-популярной книгой об аборигенах тундровой зоны Старого Света: «Сага о коротконосых, или житие святого Мухунды». В сборнике публикуется впервые.
Б. Иорданишвили
ЧЕРЕЗ ЛЕДЯНЫЕ ПУСТЫНИ ГРУМАНТА

Очерк Заставка Ю. Коннова Фото автора
…Если, превратившись в птицу, пристроиться к чайкам, рано поутру закладывающим прощальный круг над суетой Мурманского торгового порта и берущим курс на север, то уже часа через два в правое крыло ударит холодный всток[12] с Кильдина острова, а левое быстро просолится остывшей за многие тысячи миль пути водяной пылью Гольфстрима. К вечеру, обогнав три-четыре сейнера на серо-зеленом просторе Баренцева моря, шумная ватага сядет переночевать на волны неподалеку от скал Медвежьего острова. Лишь только пелена розоватого тумана поднимется под потеплевшими лучами солнца, снова отправятся чайки в путь. И уже поздним вечером над заштилевшим внезапно морем возникнут вдали черные горы, уходящие под низкие облака, и бело-голубые ледники, сползающие с их крутых плеч прямо в воду. Шпицберген, Грумант, Свальбард — архипелаг на южной границе вечных плавучих льдов, околыш арктической шапки нашей планеты… Уходящая в глубь веков поморская история не оставила нам года, когда малые, но добротные лодьи после долгих скитаний по студеному морю увидели за фонтанами китовых стад белые вершины неведомой земли. Семейные предания древнейшего поморского рода Старостиных повествуют о «плаваниях по на Груланд» еще до основания Соловецкого монастыря, то есть до 1435 года. Тогда думали первооткрыватели, что земля эта, сказочно богатая у берегов своих рыбой и морским зверем, есть часть Гренландии. Отсюда и название — «Груланд», «Грумант». Однако история часто несправедлива к первооткрывателям. Официально открытие нового архипелага относят к 1594 году и приписывают экспедиции, в которой кормщиком был отважный Виллем Баренц. Надпись, появившаяся в судовом журнале, на века определила название главного острова, а с ним — и всего архипелага. «…Земля эта была большей частью разорванная, очень высокая и состояла сплошь из гор и остроконечных вершин, почему мы и назвали ее Шпицбергеном…» Караваны кораблей бороздят в середине семнадцатого века воды Индийского океана, связывая Старый Свет с Индией и островом Явой. Далекий экзотический город голландских купцов Батавия становится меккой торговцев и авантюристов. Другая, менее известная морская дорога тянется к кромке арктических льдов. Здесь, у побережья Шпицбергена, на острове Амстердам, неестественной и порочной орхидеей Севера расцвел город, названный Новой Батавией. Впрочем, мало склонные к экзотике купцы и промысловики чаще величают свое детище Смеренбургом — «городом ворвани». После многонедельного плавания по холодному штормящему морю мимо безлюдных, закованных в ледяной панцирь скал, с вершинами, уходящими в вечные туманы, ошеломленные моряки швартовались в гавани делового и разгульного города с десятками кораблей у причалов и на рейде, кипучей деятельностью салотопен и складов, темным миром трактиров, притонов, игорных домов… Но вот оскудели стада китов от безжалостной руки зверобоев. Все реже посещали северные воды промысловые суда. Кончилась недолгая разгульная жизнь Смеренбурга. Остались развалины жилищ да виднеющиеся далеко с моря сотни крестов на черном со снежными прогалинами мысу… Все реже плавают и поморы к далеким берегам, но остаются верны открытому их предками архипелагу. История Груманта XVIII–XIX веков — свидетель десятков мужественных зимовок русских артелей охотников и рыболовов, а то и смелых одиночек. Навсегда вошло в летописи имя Ивана Старостина — короля Свальбарда, как называли его в Европе. Он тридцать два года безвыездно прожил на острове. В конце XIX века Шпицберген считался еще «ничьей землей», одним из немногих ничьих кусков в поделенном мире. Ему было суждено стать важной опорной базой на пути человека к Северному полюсу. К концу XIX века в основном стало известно физико-географическое строение горных районов Шпицбергена. Исключение составляла область на востоке архипелага, покрытая ледниками. Впервые обнаруженная русской группой, работавшей в составе Русско-шведской экспедиции 1899–1902 годов, она получила на картах мира наименование Русская ледяная равнина или Русская возвышенность. В двадцатых годах нашего века голландские, норвежские, английские компании разрабатывают богатые месторождения шпицбергенских углей, известные зверобоям уже с XVII века. Казалось, начинается пора планомерного освоения арктического архипелага. Но… эхо мирового экономического кризиса докатилось и до Шпицбергена. Остановились подъемники шахт, погасли топки электростанций. Одними из последних покинули зеленые воды Грин Гарбура — южного ответвления Ис-фьорда — корабли голландской компании. Брошенный, разграбленный рудник остался за кормой. Страна Советов гигантскими шагами пятилетки создавала мощную индустрию. На севере нужен был уголь для новостроек Арктики, для освоения Северного морского пути. Наша страна купила у голландцев рудник Грин Гарбур, который впоследствии был переименован в Баренцбург. Сотни тысяч тонн угля потекли в Архангельск и Мурманск на рыболовные суда и ледоколы. С 1925 года Шпицберген принадлежит Норвегии. Современный Шпицберген — четыре поселка: два советских — Баренцбург и Пирамида и два норвежских — Лонгийрбюен и Ню Олесунн. Это птичьи базары на Гусиных островах и грохот айсбергов, откалывающихся от ледяных стен фьордов; стада диковинных овцебыков, нашедших здесь после Гренландии вторую родину, и белые медведи, заходящие весной в поселки; ревущие в полярную ночь шторма и белое безмолвие восточных ледяных равнин.
— Я очень уважаю Географическое общество и его президента, подписавшего это письмо, но поймите меня. Добавлять ко всем шпицбергенским заботам треста «Арктикуголь» еще спортивную экспедицию… Извините, у меня назначено совещание. Корректный худощавый человек, заслуженный полярник, встал, давая понять, что аудиенция окончена. Он был абсолютно прав. Мы тоже. Цвели липы на тихой московской улице у одноэтажного домика правления треста. Шла весна 1966 года. …Объемистая папка с десятками писем, отношений с положительными и отрицательными резолюциями осталась дома в ящике стола. Пять ленинградцев — Александр Дитман, Игорь Васильев, Владимир Соколов, Семен Шульман и автор этих строк — члены научно-спортивной экспедиции Географического общества СССР, в организации которой принимал участие и Институт геологии Арктики, стояли на борту теплохода «Сестрорецк», везущего на Шпицберген смену шахтеров. Полоска холодной Кольской воды, отделяющая борт корабля от причала, медленно расширялась. Вечер 10 августа 1969 года вступал в свои права… Основная цель экспедиции не изменилась: пересечь остров Западный Шпицберген с северо-востока на юго-запад из района пролива Хинлоппен через ледник Ослобреен, горные массивы Ньютона и Чернышева — плато Ломоносова (или возвышенность Ломоносова) и ледник Норденшельда к советскому угольному руднику Пирамида. На необитаемое восточное побережье острова группу должны; забросить вертолеты. По заданию Института геологии Арктики предстояло отобрать образцы пород в центральных, наиболее труднодоступных районах острова, где уже много десятков лет не ступала нога человека. Всю зиму готовилось не совсем обычное и уж явно не современное снаряжение. Удивленные методисты музея Арктики искали в запыленных архивных папках эскизы экспедиционных нарт времен Седова и осторожно (чего доброго, захватит с собой!) подпускали докучливого посетителя к легендарным нартам папанинской четверки. Их опасения были напрасными. Все это были нарты «под собак», а нам требовались «под людей». Стратегический замысел перехода предусматривал бурлацкий способ передвижения нарт по снегу и льду. Вопрос с собаками был решен окончательно еще на первом этапе подготовки. — Ну их, — сказал один из участников. — Они кусаются. Опять же не накормишь, не повезут, а я, может, и огрызнусь, но повезу все равно. Знаю, на что иду… К июню двое нарт были готовы. Разборный дюралевый каркас, поставленный на охотничьи лыжи, выглядел достаточно надежно. Их выкрасили ярко-красной и желтой красками — классическими цветами современных арктических видов транспорта. Дюралевая лестница из двух секций длиной по 180 сантиметров должна была сэкономить время при передвижении в зонах трещин, а также при разведках пути. Остальное представляло собой обычное снаряжение лыжных и альпинистских походов — высокогорные ботинки, капроновые репшнуры, ледорубы, кошки, карабины со страховочными поясами, лыжи, темные очки. Два примуса новой марки «Шмель» и три пятилитровые канистры с бензином — наша единственная надежда на горячую пищу. Костров не будет. Мокрую одежду предполагалось сушить старым, недобрым способом — на себе. Поэтому особое внимание привлекла пропитка ботинок маслом. Кроме того, мы взяли с собой специальные полиэтиленовые чехлы на ноги. Питание из расчета девятьсот граммов в день на человека. Рацион «уплотнен» до предела — каждый лишний килограмм груза усложнит движение группы, особенно по рыхлому снегу. Запас продуктов на пятнадцать — шестнадцать дней. — Если понадобится, растянем еще на пять — семь дней, — улыбается Игорь — наш бессменный завхоз. «Понадобится» — это длительная пурга или непроходимые ледники. Достойно завершает список оборудования экзотический «шагомер» — симбиоз велосипедного спидометра и отжившего свой век колеса от детской коляски с нанесенными на резиновый обод шипами. Укрепленный под нартами, он укажет число пройденных километров, что особенно важно в тумане при отсутствии ориентиров. Говорят, такая ситуация нередка на шпицбергенских ледниках. … Горы встали из моря на вторые сутки нашего плавания, к вечеру. Как безмерно далекие миражи, повисли темные вершины, опушенные белым снегом, и светлые поверхности ледников, уходящих в волны. Дым теплоэлектростанции застыл над пирсом. Медленно проплыл красочный плакат с белым медведем и «Добро пожаловать». Вздрогнул причал. Голосистая толпа кинулась на корабль к родным и друзьям. Грумант.
…Спасательные жилеты плотно пристегнуты поверх штормовых костюмов. Окованные ботинки лязгнули по железному нутру вертолета. Ярко-красные машины (в сложные полеты вертолеты здесь идут попарно) осторожно, точно пробуя, держит ли холодный прозрачный воздух, набирают двести метров высоты и идут на восток над сине-зеленой гладью Ис-фьорда. Девятнадцатое августа. Конец ненадежного арктического лета. Осмысливаю ситуацию, сложившуюся лишь вчера. Нас выбросят значительно южнее пролива Хинлоппен, в бухте Джонстона, иначе у вертолетов не хватит горючего на обратный путь. Это сразу удлиняет маршрут почти в полтора раза. И выбрасывают нас у порога Русской ледяной равнины. Мы должны пересечь ее, прежде чем выберемся к центральным ледникам острова. Суровое и благородное название, еще вчера казавшееся чуть ли не былинным. Завтра эта равнина станет нашей повседневной действительностью.

Никто не пересекал ее и даже не видел вблизи с тех самых пор, когда на три дня высадилась на морены ледника Негри — южную окраину равнины — русская экспедиция. Даже странно как-то. Ведь немало было экспедиций и в двадцатые, и в пятидесятые годы. Чехи и поляки пересекали весь остров с юга на север. Работали на плато Ломоносова и леднике Норденшельда советские геологи, географы и гляциологи. А вот к востоку от плато давно уже никто не был. И никому почему-то не хотелось пересечь остров в районе 79° северной широты. А может быть, хотелось?.. Восточное побережье. Мрачные скалы, айсберги и плавающие льды. Справа за проливом остров Баренца. Впереди ледяной стеной вдается в море ледник Негрй, где-то за ним место нашего старта. Меня вызывают наверх, в светлую обитель летчиков. — Куда кидать будем? — сочувственно спрашивает Николай Уступкин— командир нашего вертолета. Прошу по возможности сесть прямо на ледник. С оглушительным ревом вертолет зависает над крохотным островком камней у края ледника. Колеса осторожно касаются мерзлых валунов. Глохнет мотор. Потом ярко-красная стрекоза, урча, уходит за горизонт. Многовековая тишина, нарушенная двадцатиминутной суетой, степенно возвращается в свои владения. Пять человек, триста килограммов груза остаются на необитаемом берегу. Через два часа собраны нарты. По ледовым застругам нижней части ледника вплоть до начала снежного покрова они пойдут предельно облегченными. Сорокакилограммовые рюкзаки безжалостно придавили плечи, лямки перетянули грудь, мы делаем первые шаги к порогу Русской ледяной равнины. Еще двадцать минут назад мела поземка и туман волнами ходил по снежному склону. А сейчас полный штиль и яркое солнце на голубом небе. Жарко, особенно в нашем бурлацком амплуа. Снимаем штормовки и брюки. В трусах и футболках по ледяной равнине! Впрочем, еще через десять минут статус-кво восстановлено — солнце скрылось в пелене туч, ледяной ветер загнал всех в костюмы и кое-кто уже подумывает о ватнике. А дела — хуже некуда. Подходит к концу третий день перехода. Тяжелая, изматывающая работа по десять — двенадцать часов в сутки. А место нашего старта еще прекрасно проглядывается на фоне серого залива с белыми точками льдин. Пройдено всего около пятнадцати километров — расстояние для легкой прогулки в окрестностях Ленинграда. Позавчера, в первый же час похода, на острых ледяных застругах расщепились носки нарт. Такого удара мы не ожидали. Вечером залатали их железом от консервных банок. Видно, до выхода на снег нарты надо совсем разгрузить. Весь следующий день посвятили «челноку» — в два приема перетаскивали грузы к границе снегов. Челнок: самая противная вещь в альпинизме и туризме трижды проходишь один и тот же путь. За день сделали около тридцати километров, а вперед продвинулись всего на девять. Совершенно обессилевшие, дотащились до места ночлега уже в половине двенадцатого ночи. Впрочем, ночь — понятие здесь чисто формальное. До двадцать пятого августа на Шпицбергене полярный день — солнце только меняет свой угол над горизонтом. Вчера, на второй день маршрута, впервые применили лестницу. Бурлящий поток воды в ледяном желобе, неприветливо урча, преградил путь. С трудом зацепившись за оба берега специальными зубцами, повисает над самой водой колеблющаяся дюралевая конструкция. Надев на концы лыжных палок металлические рогульки и упираясь в перекладины, первый из нас на страховке осторожно перебирается на другой берег. Натянуты перила. Двое «носильщиков» деловито снуют, перенося грузы. Наступает самый ответственный момент — переправа нарт. Ложась плашмя на лестницу, под брызгами ледяной воды мы осторожно передаем друг другу нарты, подстрахованные с обеих берегов веревкой. Техника начинает себя оправдывать… На следующий день с утра двигались в густейшем тумане. Появились скрытые снегом трещины. При переходе одной из них раздался зловещий хруст, и носок у желтых нарт отлетел. Пережили и это «крушение». Поставили запасную лыжу. Под вечер снова начались трещины. Первого выбирающего путь страхуем веревкой. Постепенно вырабатываем ритм движения — пять минут напряженного бурлацкого труда, две минуты отдыха. Затем каждый сдвигается на один номер в цепочке — ведущий берет лямку передовых нарт, а тот, что тянул ее, начинает Толкать сзади… Толкаем за конец лестницы, привязанной под углом к нартам, — на каждых нартах по секции лестницы. Груз упакован в рюкзаки и коробки на случай переноски через трещины. В последний час дневного перехода полегчало — появились широкие поперечные овраги с ненадежными снежными мостиками. Переправа нарт через них требует значительных физических усилий, но дает возможность немного восстановить дыхание. В девять вечера в эфир пошла сокращенная до минимума радиограмма: «Я — РЫЗА, Я — РЫЗА, ЛЕДНИК ОК». РЫЗА — наши позывные, ОК — международный символ «все в порядке», а лаконичность радиограммы определяется как способностями нашего радиста (шесть знаков в минуту), так и ограниченной емкостью аккумуляторов. Кстати, самое серьезное негативное обстоятельство нашего положения, пожалуй, то, что мы третий день никого не слышим в эфире. И не знаем, доходят ли наши позывные. Наша миниатюрная рация — зависть радистов-профессионалов — неделю назад отлично выдержала контрольный сеанс связи из Баренцбурга с Пирамидой. Но в первый же день перехода с ней что-то стряслось. А ведь три дня без связи для Шпицбергена уже ЧП! Утешает одно: у нас просто нет никаких вариантов. Позади в семнадцати километрах необитаемый берег, впереди в ста пятидесяти, за ледяными равнинами и горными цепями, — поселок Пирамида. По законам диалектики всякая ситуация имеет противоположные стороны. Положительная сторона нашей ситуации очевидна: мысли и усилия пяти человек работают только в одном направлении — вперед… Все устали и после ужина проваливаются в мертвый сон. Засыпаю и я. Всю ночь камнем висят на шее желтые (более тяжелые) нарты, пронзительными голосами вопят безымянные болельщики классическую фразу «Давай, Вася», и совсем уже не ко времени загадочно улыбается из тумана сороковых годов Дина Дурбин… Чуть видный перегиб склона раз и навсегда убрал берег бухты. Как будто ничего не изменилось в пейзаже. Но наш маршрут обрел новое качество. Кончился трехсотметровый порог Русской ледяной равнины. Перешагнув его, мы сразу оказались в ее глубине. Серая пелена туч плотно закрыла небо. Холодный, пронизывающий ветер не дает остановиться ни на минуту. А от тяжелой работы футболка, надетая под штормовую куртку, все время мокрая. Такая комбинация жары и холода в домашней обстановке способна вызвать как минимум сильнейшую простуду. Но великая вещь живой организм! Он все «знает» и чувствует. Даже то, что в нашей аптечке почему-то оказалась всего одна пачка сульфадимезина. Благополучие перехода пока что гарантируется внутренними резервами наших организмов. Широкий мир исчез. Он сузился до двух нарт, пяти людей и цепочки следов, теряющихся на серой поверхности снега. В редкие минуты передышки, когда ты — ведущий, а путь прост и его незачем прощупывать лыжной палкой, можно поотстать, чтобы сделать фото- и кинокадры крохотных людей в бескрайнем безмолвном просторе. И нет никакой опасности оторваться от группы, догонишь ее через две минуты, но какой-то древний неодолимый инстинкт торопит руки, сжимающие технику двадцатого века. Скорее к людям, к тяжелой, но ставшей привычной лямке нарт, к живому дыханию в этом сером безмолвии. Пора в спасительную лямку. Она живо возвратит к прозе жизни. Уже через минуту начинаешь считать метры. Струйки пота на лбу, несмотря на ледяной ветер, да тяжелые рывки толкающего — Володи, тоже, видно, считающего оставшиеся до смены секунды. Внезапно становится легче идти. Не проваливаются ноги в рыхлый снег. А ветер все пронзительнее и холоднее. Скудные калории дневного рациона (столовая ложка шпротного паштета, ломтик колбасы, несколько черных сухариков и банка сгущенки на пятерых) не успевают, наверное, дойти до работающих мышц: все отдается борьбе с холодом. Каждые пять минут на сто двадцать секунд замирают нарты. Четверо людей валятся поверх груза, расслабляя мышцы, стараясь хоть немного восстановить дыхание. Пятый медленно снимает петлю со страховочного карабина, бережно вешает на темляк лыжной палки компас, освобождая место очередному ведущему. Идет к концу четвертый день перехода. Августовский вечер опускается на Русскую ледяную равнину. Впереди за пеленой морозного тумана дрожит светлый кружок не покидающего горизонт не греющего арктического солнца. Позади метет поземка, засыпая следы нарт и людей. …Яркое солнце создает в оранжевой палатке вакханалию света. Струя холодного, но приятного воздуха врывается в наш «дом» вместе с нестерпимым сиянием снегов. Гигантский ледопад, четвертый день преграждающий нам путь, сегодня занимает треть горизонта. Вторая треть отдана снежным склонам массивов Андромеды и Кассиопеи, последнюю треть оставили за собой строгие ряды черных трещин в низовьях Квитбреена[13], переходящие в снега Русской равнины. Она распрощалась с нами три дня назад, передав с рук на руки несравненно более могущественному противнику. Последние дни и километры группа все замедляла свой темп, петляя в лабиринте трещин. Вчера вечером ледопад и его соседи властно скомандовали: «Стоп!» Разломы ледника шириной в восемь — десять метров пошли крест-накрест, образуя системы огромных «тортовых кусков». Путь преградили гигантские ледовые сбросы. При всей сложности арктических переходов они имеют летом одно важное преимущество перед маршрутами в южных широтах: в любое время суток светло. Нет проблемы «не успели засветло встать на ночлег», нет забот «эх, не смогли до ночи разведать путь дальше, придется двоих будить ни свет ни заря…». Разведка возможна в любое время, были бы физические и моральные силы. А если сил после тяжелого дня практически нет? Ну что же, тогда выручает самое могучее оружие — юмор. Половина первого ночи. Двойка, с трудом передвигая ноги, вернулась из разведки под самый северный край ледопада. Лабиринт непроходимых трещин ошеломляет и подавляет. Сижу, привалившись к нартам. Лезть в палатку неохота. Протирая темные очки, Семен и Игорь собираются во вторую разведку — с лестницей искать путь в обход ледопада. Я вижу, как мучительно тяжело уходить им от готового ночлега, горящих примусов, расстеленных спальных мешков… Начинает Игорь: — Каждую ночь между двенадцатью и двумя часами доцент Васильев любил отдохнуть от мирских забот. Семен с готовностью продолжает: — Вместе со своим непутевым приятелем этот почтенный глава семьи, отец двухмесячного ребенка берет через плечо любимую четырехметровую лестницу и отправляется на променад, надеясь встретить по пути десятка два шестиметровых трещин… Трагикомическое зрелище представляет эта ночная разведка. Сидящим у палатки не видны трещины, пересекающие путь двойке. Ровное снежное поле уходит к массиву Андромеды, освещенному полуночным солнцем. Два человека деловито переносят лестницу с места на место, вправо и влево. Время от времени они останавливаются, оживленно жестикулируя, потом по очереди становятся на четвереньки, занятые непонятными манипуляциями. И снова, взяв лестницу, снуют туда и сюда по ровной белой равнине. В три часа ночи обессилевшие разведчики вернулись. Система трещин непроходима. Завтра (теперь уже сегодня) мы снова организуем две далекие разведки. Одну на север — последняя попытка пробиться к скалам Андромеды. Вторую на юг — поперек всего ледника. Там, где между двумя крыльями ледопада просматривается что-то вроде полочки, можно попытаться выйти наверх на стратегический простор и оттуда сориентироваться, как выбраться из этой ледяной ловушки. Солнце переместилось на треть дуги по горизонту. Тяжелая усталость прошла, уступив место тупому безразличию. Фантастические кружевные облака повисли в небе. Через зеленые очки тона изменяются до неузнаваемости и придают пейзажу совершенно неземной вид. Восемь часов без перерыва хрустит фирн под нашими ногами. Восемь часов мы с Сашей бродим в паутине трещин, то приближаясь к неподвижному пауку-ледопаду, то удаляясь от него вдоль одного из лучей паутины — очередной гигантской расщелины. Володя давно повернул обратно, ему, радисту, надо успеть на очередную передачу. Каждый день с упрямством глухих мы бросаем в молчание эфира наше «ОК». Бросаем, уже не веря в то, что нас слышат. Каждый день я с опаской гляжу на небо, ожидая появления вертолетов спасательной группы… Убийственный геометрический рисунок. Глубокие рвы шириной в десять — двенадцать метров чередуются такими же по ширине снежно-ледовыми перемычками. Протянувшись на несколько километров, рвы сбегаются к ледяной крепости, превращаясь в ее бастионы. На самом краю ледника мы все же преодолеваем этот веер у основания и выходим выше ледопада. Где-то в сверкающей дали еле виднеется оранжевая точка палатки. Может быть, ребята уже нашли обходной путь? Ведь их разведка в несколько раз короче нашей. Еще немного, и проход будет найден. Но вместо чистого снежного плато мы видим те же системы пересекающихся трещин. Мысль о том, что на пути к палатке надо проделать снова все зигзаги в этом невероятном лабиринте, просто не укладывается в голове. Да и сил уже нет. За восемь часов разведки мы отдыхали всего пятнадцать — двадцать минут. Цепочка следов растягивается на добрый километр, чтобы по узкой снежной перемычке на двадцать метров приблизиться к палатке. Решаем нарушить золотое правило хождения по лабиринтам — возвращаться только по своим следам. Может быть, под самым ледопадом отыщется короткий спуск вниз, который сократит нам десять километров зигзагов. Все ближе подходим к голубым бастионам. Остается триста метров, двести, сто… Огромный сброс, невидимый за перегибом пути, возникает впереди. Далеко внизу громоздятся торосы нижней части ледопада, а за ними ровное поле, путь к которому теперь уже бесповоротно лежит через зигзагообразный маршрут между десятками трещин… После двенадцати часов блужданий буквально вползаем в палатку. По лицам сидящих видим, что и они не нашли обходного пути. Чтобы идти вперед, сейчас надо отступить назад. Обойти это заколдованное место с юга. И прорываться на плато Ломоносова через совершенно неисследованный район. С самого начала расчет делался на безотказную работу каждого человека. Четверо просто не смогут сверх груза тащить пятого. Сейчас условие безотказности становится еще жестче. Ведь мы на несколько дней уходим с трассы, которая известна в Баренцбурге. И мы уходим не оборачиваясь. Солнце скрылось в дымке, и только ледяные скалы с угрюмой усмешкой смотрят нам вслед. В конце следующего дня в абсолютном тумане мы опять поворачиваем на запад, заходя во фланг всему району ледопада. Ориентироваться невозможно. Эти места практически отсутствуют на карте. Ледовые трещины, речки, скрытые водяные ямы… Идут пять человек с двумя нартами, оставляя за собой расщепленные полозья и изрезанные остатки пошедших на- «штопку» консервных банок. Изредка стучит у скал геологический молоток, куски коренных пород исчезают в карманах рюкзаков, добавляя свои сотни граммов к более чем двухсоткилограммовому грузу. Вечер одиннадцатого дня. Окончательно выбившись из сил, ставим палатку на смеси льда и воды, не добравшись до твердого снега каких-нибудь полкилометра. Косые лучи солнца, просвечивая через понижения в черном скалистом гребне, освещают ледник и оранжевое полотнище палатки. Стометровые тени от фигурок людей пересекают белое поле, уходя под темные склоны. Пелена облаков затопила дальние низины и, клубясь, подползает к лагерю. Здесь, среди враждебного всему живому мира, особенно явственно ощущаешь правомерность титула человека как царя природы. Идем, вкладывая все силы в поединок с нартами. Уже давно не помогают двухминутки отдыха. Мучительно ноют мышцы груди и спины. Вторую неделю не просыхают ноги. Вот и сейчас они начинают коченеть, стоит только остановиться. Но проходит два часа, и условия, казалось бы немыслимые для жизни теплокровных существ, меняются. Установлен легкий, но надежный дом-палатка, деловито урчат примусы, идет пар от кастрюль и подсыхающих носков…
Все выше и выше поднимаются ледники. Все больше туч остается под нами. Впереди появляется обширный снежный купол. Неужели это и есть плато Ломоносова? Впервые за дни после «дальней разведки» ясное небо. Ориентировка дает неутешительные результаты. Плато еще километрах в пятнадцати к западу. В тумане мы слишком забрали на юг, К тому же спуск вниз возможен только через саму вершину, В остальных местах снежно-ледовые сбросы. Задыхаясь, втаскиваем нарты на купол. Высота тысяча сто метров. Шпицберген на десятки километров перед нами. Ледник Академиков, легкие облачка над Русской ледяной равниной (она теперь далеко за спиной), а километрах в тридцати невероятно приближенная в прозрачнейшем воздухе парит белая трапеция — уже недоступная из-за недостатка времени гора Ньютона. Советский и норвежский флаги полощутся на древке ледоруба. Игорь Васильев выдает каждому по патрону. Наш карабин (шесть килограммов бесполезного груза — принудительный ассортимент всех групп, уходящих из Баренцбурга) издает пять оглушительных выстрелов — салют в честь высшей точки перехода и, израсходовав, таким образом, половину боезапаса, вновь уютно размещается на нартах. — Чисть его теперь, — угрюмо замечает Игорь. — Ничего, ты ведь на работе. Позавчера торжественно отметили окончание летнего отпуска доцента И. А. Васильева, Теперь каждый норовит подсунуть ему мелкие поручения — «мы-то отдыхаем, а ты уже при исполнении…» Крутой обледенелый спуск. Впервые за много дней блаженствуем, катя под уклон многострадальные нарты. Сладкая жизнь продолжается минут десять, Уклон резко возрастает. Как необъезженные мустанги, нарты рвутся вниз, где их поджидает бергшрунд[14]. Снова остановка с разведкой. Осторожный спуск попарно. Изо всех сил одерживаем нарты. Последний участок — двадцатиметровая морена из крупных камней. Теперь нарты едут на наших плечах. Еще один крутой сброс, и мы на леднике Академиков. Речки призывно урчат в ледовых каньонах, а за ними между двумя массивами виден ледник Петрова — путь нашего выхода на плато Ломоносова. Сотни трещин пересекали наш маршрут. Те из них, которые не удавалось обойти или перейти по снежным мостам, форсировали с помощью лестницы. Когда альпинист, прижав ледоруб к груди, прыгает через полутораметровую трещину или преодолевает по натянутым перилам двух-трехметровую расщелину, в глаза ему светит горное солнце, впереди он видит лица товарищей, а окружающие вершины доброжелательно взирают на попытки пигмея приблизиться к небу. Когда вы, презрев эстетические нормы и заветы далеких предков, вновь становитесь на четыре конечности и, перебирая оными по очереди,зависаете вместе с качающейся конструкцией над четырехметровой трещиной, то оказываетесь с ней один на один. Светлый мир остается за спиной. Перед вами неприятный зелено-голубоватый полумрак, оканчивающийся полным мраком с зовущими шорохами… Нет, серьезно! Если вы обременены житейскими заботами и трагедиями, если диагональ экрана вашего телевизора не может соперничать с соседской, вы не сумели достать моющихся обоев, а один из окончивших школу вместе с вами уже замминистра, возьмите разборную лестницу, совместите (только поаккуратнее!) ее края с краями трещины и не торопясь проделайте на четырех конечностях весь путь, внимательно вглядываясь в «лицо собеседника». По окончании маршрута вы полностью освободитесь от всех вышеупомянутых невзгод… Всерьез и надолго… …Двенадцатая ночевка на льду. Все меньше лыж, подкладываемых под палатку, защищает нас от миллионолетних резервуаров холода. Иду в небольшую разведку вперед к морене посмотреть, не встретим ли с утра снова речек. Полоса тумана дрожит слева, грозя накатиться на ледник. На всякий случай беру по компасу обратный азимут. Одинокая палатка кажется особенно маленькой на фоне скал и снегов массива, с которого мы сегодня спустились. Медленно двигаются вокруг нее четыре точки, отвоевывая у природы кусочек жизненного пространства на ближайшие десять часов. Устали ребята. Обросли. Похудели. Последние дни особенно много воды на ледниках. К вечеру у всех совершенно мокрые ноги. Попытки сушить носки и обувь на себе безуспешны. Весь следующий день наш неверный маяк — скалы Рогачева — ворота на плато Ломоносова. Медленно набираем высоту, столь легкомысленно сброшенную вчера. Ледник Петрова зажат двумя массивами с красивыми разноцветными выходами пород. Волны тумана то открывают их поочередно, то снова накатываются на нас. Сегодня особенно тяжело — тринадцатый день перехода. Закрытые трещины. Ведущий то и дело проваливается по бедра. Впереди в редкие минуты прояснения опять проглядывается что-то вроде системы пересекающихся трещин. Только этого не хватало. К счастью, опасения оказываются напрасными. После двух часовых зигзагов по снежным мостикам и перемычкам выходим на сравнительно ровный участок. При полном отсутствии видимости становимся на ночлег у порога плато Ломоносова. Мы должны пересечь его в южной части, где ширина снежной пустыни двадцать — двадцать пять километров. За ней наш последний противник — ледник Норденшельда. Сегодня в обед две банки сгущенки и по целой пригоршне мелких черных сухариков из последнего мешочка, Плотно прижавшись друг к другу, засыпаем под вьюжный вой ветра и шорох оседающих пластов снега в огромной трещине, на краю которой оказался наш лагерь. …Верхняя граница тумана, осевшего на снежную равнину, где-то совсем рядом. Выше должно быть голубое небо с ослепительно ярким солнцем. Его лучи пронизывают слой взвешенной в воздухе изморози и, отражаясь от снега, буквально насыщают светом пространство. В сверкающем молоке теряется граница между снегом и туманом, между верхом и низом. Это еще не знаменитый шпицбергенский «пинг-понговый шар», когда человек не видит пальцев вытянутой руки, но все же мало с чем сравнимое зрительное ощущение. Приятно чувствовать себя свидетелем особой забавы природы, пока привычно тянешь или толкаешь нарты. Но вот пришло твое время вести по азимуту группу. Стрелка компаса указывает в белое ничто. Через две минуты начинает кружиться голова, заплетаются ноги. Странное чувство охватывает организм. Пропадает ощущение опоры. Любопытно и тревожно смотреть сейчас на ведущего со стороны. То и дело человек начинает странно покачиваться, движения его делаются неуверенными. Все чаще смотрит он на секундную стрелку, стремясь скорее вернуться к тяжелой лямке, где, исполняя свой долг, вполне достаточно смотреть на полозья нарт или на конец свисающей с груди веревки. Проплывают мимо километры плато Ломоносова. Не-увиденные панорамы нунатаков[15] навсегда уходят за горизонт. В слепящем тумане начинается медленное, но уверенное снижение плато. Спуск к Ис-фьорду. Легко и изящно бегут израненные нарты. Можно, наконец, сесть на них и сделать несколько эффективных кинокадров, пока тебя везут товарищи; Наст тверд. Наверное, ты очень красиво, плато Ломоносова! Извини, но у нас нет времени. И потом мы немножко устали и замерзли. Мы получили свою порцию снега, льда и ледяной воды. Двести километров осталось за спиной. Сейчас выходим на финишную прямую длиной километров в двадцать. Наверное, не очень она прямая. Толще становится слой тумана над головой, а впереди уже проглядывается подножие крупной вершины. Это Террьер. Слепой переход окончен. Компас и карта вывели нас в верховья ледника Норденшельда, впереди первые его трещины, переходящие дальше в еще плохо просматриваемый ледопад. Немного поднялись серые облака и далеко впереди показалось темное пространство с еле заметными белыми точками. Ис-фьорд! Бухта Адольфа. Конец пути. В 17.30 через антенну, направленную прямо на Пирамиду, даем радиограмму: «Завтра днем заканчиваем маршрут бухте Адольфа, просим выслать катер». Даем для порядка, для очистки совести. Ясно, что двоим придется идти еще тридцать пять километров в обход фьорда, через болота и речки, за катером. Сегодня прошли около двадцати пяти километров. Это, пожалуй, рекорд однодневного перехода. Но и устали особенно сильно. Ночлег организовали на ноздреватом льду ледника Норденшельда, недалеко от северной его морены. Засыпая, вспоминаем, что сегодня первое сентября, где-то дети вернулись из школы. Подмокли спальные мешки. Капает в палатке со ската конденсирующаяся влага. Тяжел сон в последнюю ночь маршрута. Утром окончили свою недолгую жизнь желтые нарты. На очередном ледяном бугре сломалась (в который раз!) дюралевая стойка. После получасовой починки прошли всего метров двести, и начисто отлетел носок. Решаем, что терять время на починку теперь уже бессмысленно. Рюкзаки взваливаются на плечи. Красные нарты принимают на себя палатку, семь уцелевших лыж с палками, остатки бензина, примусы. Привязываем к поставленным вертикально сломанным нартам памятную записку. Долго виден их уменьшающийся силуэт под серыми рваными облаками. Все круче падает ледник к морю. За очередным его перегибом во всем великолепии предстают голубые айсберги, плавающие на глади бухты. Остаются считанные километры. Последний обед на льду. Последняя разведка прямо к сорокаметровой, обрывающейся в воду стене. Последние шаги по лоснящемуся темному борту ледника. На руках выносим нарты на камни осыпи. Снимаем с плеч рюкзаки. Вот и все. Кажется, мы все-таки пересекли тебя, Грумант! Оставшиеся до побережья два километра не в счет. Ноги пойдут по чудесным острым и сыпучим камням. Камни, земля — фундамент цивилизации, как приятно чувствовать вашу твердость после коварной податливости рыхлого снега и хрустящего льда. Красные нарты, вчера еще именуемые не иначе как «старая черепаха» и «разбитое корыто», сегодня, сейчас превращаются в «нарты-монумент»! Обложенные в своем основании камнями, с искореженными, сточенными льдом полозьями, обращенными к Пирамиде, вы становитесь «филиалом краеведческого музея Баренцбурга»! «Эти нарты сослужили хорошую службу пятерым людям. Не трогай их, товарищ!» пишется в оставленной при них записке. Последние шаги по обточенным прибоем плитам мимо груд нанесенного приливами плавника. Руки погружены в соленую ледяную воду Ис-фьорда. Неожиданный, невероятный в этом мире льда и скал звук раздается с моря. Еле заметный на глади бухты, уверенно движется в нашу сторону катер. Значит, ждали! Значит, слышали нас все эти дни! Пугливая нерпа уходит от наплывающего звука ближе к спасительным айсбергам. Катер сворачивает к берегу, беря курс на зажженную нами дымовую шашку. А свежий ветер, набирая силу, тянет с моря на ледник, торопясь засыпать цепочку глубоких следов, уходящих за горизонт в далекие белые снега.
Об авторе Иорданишвили Евгений Константинович. Родился в 1928 году в Ленинграде.) Окончил физический факультет ЛГУ. Доктор физико-математических наук, автор более пятидесяти научных статей и двух монографий о области термоэлектричества. Участвовал во многих сложных туристских походах в горных районах СССР (Кавказ, Памир, Алтай, Тянь-Шань, Саяны, Камчатка и др.), а также совершил восхождение на гору Килиманджаро, будучи руководителем советской научно-спортивной экспедиции. Побывал в ряде зарубежных стран — Канаде, Танзании, ОАР, Чехословакии, Венгрии и Японии. Публиковался в альманахах «Приключения в горах», «Звезды над перевалом», в журналах «Юность», «Нева». В нашем сборнике выступал с рассказами и очерками три раза (в 1964, 1965, 1970 годах). В настоящее время работает над рассказами приключенческого жанра.
К очерку Е. Иорданишвили «ЧЕРЕЗ ЛЕДЯНЫЕ ПУСТЫНИ ГРУМАНТА»


Шельфовый ледник Негри — место старта группы
«Техника решает все» — первая переправа через ледяную речку

Нелегкими тропами Груманта


Летний вечер на Русской ледяной равнине
Суровые будни перехода


Непредвиденный ремонт
30 августа 1969 года — высшая точка маршрута
Леонид Пасенюк
МЯТЕЖНАЯ СУДЬБА СКИТАЛЬЦА

Очерк Рис. Л. Кулагина
Разговор у подножия Ключевского вулкана
Зимой 1962 года автор этих строк жил на маленькой сейсмологической станции у подножия знаменитой Ключевской сопки. Ночами в ее вулканической утробе глухо погромыхивало и вслед за тем над кратером мутно накалялось и опадало зарево. — Кто же первым взошел на эту громаду? — спросил я однажды у молодого геофизика Андрея Фарберова. — Если верить барону Беневскому, то, очевидно, он. — А кто такой Беневский? — О нем написано у Пийпа в монографии об этой группе вулканов. Авантюрист восемнадцатого века. Отбывал здесь ссылку. В монографии Беневскому была посвящена всего-навсего небольшая сноска. В ней говорилось, что барон будто бы поднялся на пятикилометровую сопку и спустился с нее в течение одного дня, да еще зимой. Более пространно об этом повествуется в мемуарах самого барона. Когда он стоял недалеко от кратера, произошел выброс пепла, и барон свалился вниз. Он неизбежно должен был испечься в пепле, но спутники-камчадалы вытащили его из кратера железными крючьями и смазали ожоги китовым жиром. На Камчатке барон начал заносить в тетрадку свои мысли и наблюдения. В мемуарах об этом сказано так: «Самым ценным сокровищем для меня были перо и бумага. Они успокаивали мою безмерную боль. Милые, милые предметы, они дают нам хоть тень свободы, когда сама она вырвана из наших рук. Они позволяют мне донести мою печаль и жалобы до последующих времен». Трогательные, сентиментальные слова! Будто и не Бе-невским написанные. Потому что в своих мемуарах он решил донести «до последующих времен» не только жалобы и кое-какую правду, но, к сожалению, и ничем не оправданную ложь. Несколько лет назад я еще, впрочем, склонен был найти для него «смягчающие вину обстоятельства». Но если бы вранье барона ограничивалось только анекдотическим падением в кратер вулкана! Увы, барон не знал удержу. Он фантазировал вдохновенно и упоительно, свободно обращался с фактами, именами, сокращал по своему произволу огромные расстояния, якобы убивал тысячи людей, жонглировал историей и географией… Однако, несмотря на эти злополучные мемуары, Беневский был выдающейся для своего времени, хотя и весьма противоречивой личностью. Журнал «Венгерские новости» дал недавно следующий отзыв о нем: «Этот человек попадал в водоворот самых бурных событий, он был необыкновенно смел и охвачен подлинной жаждой приключений. Без опасности впасть в чрезмерный национализм, мы осмеливаемся предполагать, что если бы он был рожден более крупным народом, мир считал бы его, быть может, исследователем на уровне «капитана Кука». Ну что ж, давайте проследим, насколько это справедливо. Итак, барон Беневский и его похождения.Юный генерал-конфедерат попадает в плен
Мауриций Август Беневский происходил из древнего венгерского рода, но чаще всего называл себя поляком. Завершив в Вене аристократическое образование, уже с четырнадцати лет пошел на военную службу. И сразу получил боевую закалку: в 175& году сражался с пруссаками при Любовице, год спустя под Прагой, затем у Домштадта. Неожиданная смерть отца вынудила его возвратиться в родные пенаты. Однако имение, которое он должен был по праву унаследовать, уже захватили его проворные зятья. Юный барон не мог стерпеть такого самоуправства и, по-солдатски прямой и решительный, с помощью слуг вышвырнул зятьев из имения. Посрамленные и побитые, они поехали в Вену и добились заступничества императрицы Марии-Терезы. На барон успел скрыться в Польше. Его давно влекло море, занимали описания морских путешествий. Располагая избытком свободного времени, он сумел побывать во многих портах Европы, а в Гамбурге учился навигации. В 1767 году барон готовился предпринять плавание в Индию. Но в это время получил письма от влиятельных поляков, участников Барской конфедерации[16]. Высоко оценив боевой опыт барона, поляки предлагали ему примкнуть к этому движению. Барон долго не раздумывал. Приехав в Варшаву, Беневский занял в конфедерации почетное место. Между тем он не забывал и о конфискованном Марией-Терезой имении. Со временем имущественный спор должен был потерять первоначальную остроту, а страсти поутихнуть. Рассудив так, барон поехал в Вену, но ничего не добился. Возвращаясь, он захворал в дороге. Пришлось остановиться в районе Высоких Татр у малознакомого помещика Генского. В одну из его дочерей, Сусанну, барон влюбился и предложил ей руку и сердце. Но вскоре, даже не простившись с юной женой, тайно покинул дом Генских. Известно только, что он был вызван конфедерацией в Краков, осажденный царскими войсками. Русские разбили отряд конфедератов, а самого Беневского взяли в плен. Но друзья внесли за него выкуп. Оказавшись среди своих, обуреваемый пылом мщения, барон, как и прежде, командует кавалерией, ищет стычек с русскими, всегда геройски сражается в первых рядах…И что же? Снова плен. Совершенно израненного, Беневского везут в Киев, а оттуда в Казань. Здесь, уже бог знает как далеко от Польши, надеяться было не на что. Оставалось подчиниться обстоятельствам, тем более что в Казани пленным полякам не так уж плохо жилось. А с бароном обращались как с высшим офицером. Человек с европейским образованием, он был принят в лучших домах… Однако не таков барон, чтобы подчиниться несчастливой судьбе и режиму ссылки. Его незаурядный ум требует действия. Впоследствии он напишет в мемуарах, что его деятельность в Казани сводилась к тому, чтобы добиться для татар и прочего населения «тех свобод и гарантий, которыми пользуются иные народы». Словом, барон становится душой заговора, имеющего целью восстание в Казани. Однако заговорщиков предали. В ночь на 7 ноября 1769 года к барону постучались. Он накинул халат и открыл дверь. На крыльце стоял офицер с солдатами. — Здесь живет Беневский? — хрипло спросил он. — Да, он у себя в комнате, — мгновенно оценив ситуацию, ответил барон. Офицер выхватил у него свечу, кивнул солдатам, и они пошли к указанной двери. Тем временем барон, в чем был, выбежал черным ходом на улицу и вскоре ворвался в дом, где жил его близкий приятель швед Винблан, тоже сражавшийся в чине майора в рядах Барской конфедерации. Винблану не надо было ничего разъяснять: ведь и ему грозил арест… А там допросы, пытки… Он впопыхах собрал кое-какую приличную для дороги амуницию, и оба бросились вон из города, в ближайшую деревню. Сейчас у них была только одна мысль: подальше от Казани! В деревушке беглецы наняли лошадей до Чебоксар, потом — дальше и наконец очутились в Нижнем Новгороде. Терять им было нечего, и они выдали себя за офицеров, везущих служебную почту. Светские манеры и приятное обхождение беглецов произвели на местного губернатора выгодное впечатление. Накормив их обедом со стерляжьей ухой, он дал рекомендательное письмо к владимирскому губернатору. Этот клочок бумаги хорошо послужил беглецам: с его помощью они уже безостановочно ехали до самой столицы. Здесь барон познакомился с немцем-аптекарем и осторожно намекнул о своем желании выехать за границу. Немец сказал, что он имеет на примете одного капитана-голландца. Между тем кошелек Беневского был пуст. И капитану не очень-то пришлись по душе заверения барона, что деньги он отдаст в первом же заграничном порту. Капитан счел за лучшее выдать его властям. Друзья были заключены в Петропавловскую крепость. Вскоре барон предстал перед следственной комиссией графа Панина. Тому в общих чертах было уже доложено о казанском заговоре и о том, какую роль в нем играл Беневский. Однако вину свою барон упорно отрицал. И комиссия как будто сочла возможным оправдать барона. Его ознакомили с бумагой, из коей следовало, что вина его только в побеге из ссылки. Барон дал подписку никогда впредь не поднимать оружия против России, а однажды из нее выехав, назад не возвращаться. Он был уверен, что теперь-то ему позволят покинуть пределы России. 4 декабря 1769 года в камеру-одиночку вошел офицер с конвоирами. С барона сняли кандалы, ему велели надеть валенки и овчинный тулуп. Затем он снова был закован, выведен во двор крепости и посажен в сани; в них уже сидел Винблан.Дорога дальняя» казенный дом…
Во Владимире к ним присоединили поручика гвардии Панова, армейского капитана Степанова, полковника артиллерии Батурина. Всех пятерых, как выяснилось, за разную вину ссылали на Камчатку, «чтобы снискивали там пропитание трудом своим». Из мемуаров видно, что, едва сойдясь, узники начали прикидывать и обсуждать возможные варианты побега. В конце мая 1770 года они приехали в Якутск, где барон будто бы познакомился с лекарем Гофманом, тоже пробиравшимся на Камчатку. Посвященный в замыслы ссыльных, лекарь предложил купить за свой счет (?!) в Охотске корабль, на котором его новые друзья смогли бы бежать в Японию или Китай, куда будет сподручнее. Ссыльные заторопились, чтобы успеть в Охотск пораньше и приступить к исполнению задуманного. Конвой вскоре догнал нарочный. Он сообщил, что задержавшийся в Якутске Гофман скоропостижно скончался и что воевода, описывая его имущество, нашел какие-то особой важности бумаги, которые нарочный и везет начальнику Охотского порта. Бумагами Гофмана следовало завладеть. Искали случая. Но вот, переправляясь через Алдан, конвоиры подрались с нарочным, основательно пустили ему кровь и, боясь ответственности, бросили в реку. Умея хорошо плавать, он (разумеется, с помощью барона) достиг берега. Казаки тоже вымокли и остановились просушить одежду. У барона была водка, от которой они не отказались. А когда все, в том числе и нарочный, перепились и уснули, ссыльным оставалось только взять пакет и ознакомиться с его содержимым. В письме воеводы прямо было указано, что Беневский вкупе с Гофманом составили план побега с Камчатки и потому надлежит держать всех ссыльных — под строгим караулом. А там сенат даст знать, как с ними поступить. Переписав письмо в другом стиле, с дифирамбами самим себе и просьбой к охотским властям войти в их горькое положение и особенно не притеснять, ссыльные запечатали пакет и сунули назад в почтовую сумку. Теперь о Гофмане, так сказать, не «мемуарном». Он существовал в действительности. В 1768–1769 годах на Камчатке свирепствовала оспа, «и трупы умерших гнили не преданные земле». Туда и был послан лекарь Гофман, но он приехал после того, как эпидемия прекратилась. По времени его приезд мог совпасть с приездом на Камчатку ссыльных во главе с бароном. Могло случиться так, что ссыльные познакомились с Гофманом еще в пути. Но умер он не в Якутске и вряд ли принимал участие в разного рода замыслах барона. Другое дело, что якутский воевода действительно мог разузнать о замышлявшемся побеге. То, что произошло с его нарочным, полностью отвечает привычным сюжетным канонам авантюрных романов. Можно допустить, что так именно и было на самом деле. Обратимся опять к мемуарам (и во всем последующем рассказе нам придется им довериться). В Охотске ссыльных посадили на судно, груженное товарами для Камчатки. Едва оно вышло в море, как от зюйд-оста налетел свежий ветер. Барон уже подумывал, не использовать ли создавшуюся ситуацию в своих целях. Однако, пока судили да рядили, ветер повернул от норд-оста, пошла крупная волна, затрещала _обшивка. С грохотом свалилась грот-мачта. О побеге не могло быть и речи. В Большерецке ссыльных привели к начальнику Камчатки Нилову. Тот обошелся с ними приветливо, поблагодарил барона за услуги, оказанные капитану судна во время шторма. Ссыльные узнали, что получат на первое время провизию, а уж потом должны будут сами отыскивать средства к существованию. Отныне им была дарована относительная свобода: считалось, что бежать отсюда некуда. Прежде всего барон и его товарищи сошлись со ссыльными-старожилами. Примечательнее других барону показался капитан гвардии Петр Хрущев, сосланный, как явствует из манифеста Екатерины II, за «оскорбление величества» и за то, что «старался других привлекать к умышляемому им возмущению против нас». Хрущев тут же после разговора в канцелярии пригласил новеньких в свою избу и ввел в курс здешней, довольно безотрадной жизни. Само собой получилось, что барон поселился у него. Свободные часы они проводили в задушевных беседах. В конце концов барон сообщил план побега, замышляемого От самого Урала. Хрущев сразу же загорелся этой идеей и предложил избрать комитет для осуществления подготовки к побегу. Хрущев располагал довольно обширной для ссыльного библиотекой, в которой были книги и на иностранных языках. Особо он зачитывался отчетом о кругосветном путешествии английского адмирала Ансона, возглавлявшего несколько морских экспедиций. И однажды признался, любовно листая книгу Ансона: — В мечтах я все время замышлял побег с Камчатки куда-нибудь на Марианские острова. Хотя бы и на остров Тиниан, так очаровательно описанный Ансоном. — Кто же помешает нам до него добраться? — заметил барон, и в голосе его, обычно мягком, пробилось железо; казалось, ему нипочем моря и расстояния. — Да, конечно, — грустно согласился Хрущев. — Понятно, что, обретя свободу, можно добраться и до этого земного рая. Но вдвоем уйти немыслимо. Чем больше нас сможет выбраться отсюда, тем вернее удастся побег. Вскоре избрали комитет из друзей единомышленников. В него вошли Панов, Батурин, Винблан, Хрущев и Степанов. Председателем стал Беневский, заместителем — Хрущев. Барон в который уже раз обратил внимание друзей на условия их нищенского, бесправного существования в ссылке и не пожалел красок, рисуя выгоды предстоящих благословенных странствий. Своим красноречием и логикой доводов он так вдохновил членов комитета, что те поклялись даже под страхом смерти не выдать тайны заговора. После этого заседания ссыльные заглянули в канцелярию, и вот тут-то барон блеснул еще одним своим талантом. Писарь Новожилов азартно играл в шахматы с командиром гарнизона гетманом Колосовым и явно проигрывал. Однако барон видел путь к спасению партии. — Кажется, моя песенка спета, — сказал Новожилов. — Можно попробовать выиграть, если позволите, — неторопливо проговорил барон. Колосов насмешливо хмыкнул: мог ли он предполагать, что эту почти безнадежную партию сел доигрывать за его партнера один из искуснейших шахматистов того времени![17] Разумеется, партию барон красиво выиграл и получил за это десятую долю ставки. Ему представился случай показать в Больщерецке образцы высокого шахматного искусства. При этом он основательно разбогател, что было на руку всему тайному сообществу. Барон стал весьма популярной фигурой в Большерецке. По ходатайству жителей здесь вскоре была организована школа, в которой барон обучал сына Нилова и местную детвору, Преподавали в ней также Хрущев и Панов. Заговорщики неутомимо искали единомышленников среди ссыльных и местных жителей, но вели себя крайне осторожно, дабы замысел побега не всплыл наружу раньше времени. Однажды под рождество ссыльные собрались у барона почаевничать: накануне купец Казаринов подарил ему голову сахару. Вскоре у Панова начались рези в животе и рвота. Остальные вовремя спохватились и начали пить в качестве слабительного китовый жир и оленье молоко. Барон сообщил о печальном происшествии Нилову. Была высказана догадка, что Казаринов дал отравленный сахар, — может, из мести, так как больно уж много денег он проиграл в шахматы барону. Пришлось позвать купца. Пока Нилов толковал с ним о делах зверобойного промысла, подали чай. — Не знаю, как кто, а я большой любитель чаю, — сказал Нилов. — Не откажи откушать. Присаживайся. — Мы тоже, гм, любители чаи погонять, — ухмыльнулся Казаринов, — за день, бывает, по нескольку раз за самовар садимся. — Вот и славненько. У меня и сахару в достатке, не сумлевайся, клади побольше. Барон преподнес мне вчера от той головы, что ты ему подарил. Купец не отпирался и заявил, что, как донес ему некий ссыльный, барон — смутьян и заговорщик. Для такого отравленный сахар в самый раз… До Нилова и прежде доходили слухи о заговоре, но он им не верил. Не поверил он и купцу, а усмотрел в его словах лишь коварный умысел. Потому велел посадить его в острог. Ссыльный же, предавший заговорщиков, был убит своими товарищами: сгинул бесследно. Сообщения Казаринова о заговоре никто более не подтвердил. Но была у барона еще одна заботушка — на сей раз весьма деликатного свойства. Не беда, что она вымышлена задним числом. Напомнить о ней следует хотя бы для пущей занимательности. Все биографы и беллетристы, писавшие о Беневском, не могли устоять перед соблазном потолковать о ней с самым серьезным видом. Дело в том, что прелестная семнадцатилетняя дочь Нилова Анастасия влюбилась в барона по уши. Барон оказался в двусмысленном положении. Он и сам испытывал влечение к Анастасии, пожалуй, даже любил ее, но не забывал, что женат и вторично жениться де может. А ведь хорошие отношения с «московской барышней», предположительное родство с семейством Ниловых лишний раз подтверждали благонамеренность барона, маскировали его подлинную деятельность. Пришлось обратиться за советом в комитет. Ему предложили жениться, доверившись воле господней, ибо вынужден он это сделать не из-за греховного легкомыслия, а по стечению обстоятельств, для общего блага. Однако барон не согласился и решил, сколько можно, с браком тянуть. Но, как ни грустно сие для читателя, не было никакой любви — прежде всего потому, что не существовало в природе Анастасии. У Нилова был только сын, которого барон учил уму-разуму в школе. Жаль, жаль! А то ведь какая была беззаветная любовь — вплоть до того, что Анастасия сломя голову ринулась вслед за бароном в героический вояж, да еще почему-то в мужской одежде, пока не умерла по его сочинительскому произволу в далеком Макао. Наконец, в апреле 1771 года подготовка к осуществлению заговора закончилась. Дело стало за сигналом. В рассказе о большерецком бунте лучше вообще отойти от мемуаров барона. Восстановить картину событий проще и надежнее по документам той поры. Итак, вечно пьяный, благодушный и дряхлый Нилов не придавал значения слухам о готовящемся побеге ссыльных. Между тем даже священник ближнего ичинского прихода Устюжанинов вступил в заговор. Первоначально предполагалось, что он купит у Нилова байдару с целью проповеди слова божьего на островах. Барон же с сообщниками должен был к условленному сроку прибыть к мысу Лопатка (для этого на юге Камчатки затевалась некая земледельческая колония). Ан, и байдара там! Позднее к заговорщикам присоединились работники купца Холодилова вместе со своим приказчиком, который пообещал захватить корабль хозяина. Но, прибыв в свой час в Чекавинскую гавань, где зимой отстаивались суда, барон убедился в непригодности холодидовского корабля: слишком он был ветхим и предпочел захватить казенный галиот «Св. Петр». Кроме священника Устюжанинова, к заговорщикам примкнули его тринадцатилетний сын Иван, казак Рюмин с женой, канцелярист Судейкин и много других людей. Обывателям заговорщики внушали, что, сосланные на Камчатку, они невинно страдают за великого князя Павла Петровича. В сборнике «Русский архив» за 1885 год сказано: «Беневский в особенности показывал какой-то зеленый бархатный конверт, будто бы за печатью его высочества, с письмом к императору римскому о желании вступить в брак с его дочерью и утверждал, что, будучи сослан за сие тайное посольство, он, однако же, умел сохранить у себя столь драгоценный залог высочайшей к нему доверенности, который и должен непременно доставить по назначению». Тем временем было перехвачено письмо барона к священнику Устюжанинову с советом поторопиться, так как все уже готово к побегу. Узнав об этом, барон сразу взял быка за рога, объявив себя правителем Камчатки. И верно: таиться уже не имело смысла. Штурманские ученики Измайлов и Зябликов, втянутые в заговор по недоразумению, решили исправить оплошность: они что есть духу побежали в канцелярию, но не смогли достучаться к пьяным караульным.
В ту же ночь заговорщики обезоружили охрану и ворвались в канцелярию будто бы с криками «имай, хватай, режь, пали, вяжи!». Завязалась драка. Барон утверждает, что Нилов выстрелил в него и ранил в руку. Тогда кто-то и двинул старика так, что тот испустил дух. Барона это расстроило: ему было по-своему жаль Нилова. Забрав казенные деньги, оружие и две пушки, заговорщики пошли к дому сотника Черного (в мемуарах — гетман Колосов). Однако сотник оказал сопротивление, а его сын стрелял по заговорщикам в упор в выломанную дверь. Силы были слишком неравны, к тому же на дом навели пушку. Находившуюся в этом доме лавку разграбили. Отца и сына Черных взяли под стражу. Позже сотника увезли в гавань в качестве заложника. С отходом галиота его и других заложников отпустили по домам. Путь к бегству был открыт. Отплывая на плоту из Большерецка, барон оставил квитанции на взятое снаряжение и провиант. Забавна его подпись: «Барон Мориц Анадар де Бенев, пресветлейшей республики Польской действительный резидент и его императорского величества римского камергер, военный советник и регламентарь». Своим действиям барон старался, сколько мог, придать видимость порядка, хотя его квитанции, как он сам прекрасно сознавал, не имели никакой цены. Небезынтересны в этой связи слова мореплавателя Головнина, посетившего в начале 1811 года Большерецк. Он пишет, что городок сей стал известен «просвещенному свету из повествования графа Бениовского… Но тщеславие заставило Бениовского представить место сие в ложном виде, чтобы более выказать отважность своего подвига. Бывшего в Большерецке во время сего бунта начальника, капитана Нилова, он называет губернатором; казацкого офицера — гетманом; гнилой палисад — крепостью; канавку, чрез которую ребенок может перепрыгнуть, — рвом; несколько человек престарелых казаков — сильным гарнизоном и пр. Я видел в Камчатке стариков из природных русских, которые очень хорошо помнят Бениовского и тогдашнее состояние Большерецка. Они подробно мне рассказывали обо всем этом происшествии. Сравнивая от них слышанное с повествованием Бениовского, видно, что в нем и одной трети нет правды. Надеясь, что в Европе ничего не знают о Камчатке, он лгал без всякого стыда: ему хотелось только показать, что он сделал великое дело. Но если бы он и правду написал, то и тогда довольно было бы чести его уму и отважности! Первым умел он несколько десятков всякого состояния ссылочных и людей распутных удержать от открытия заговора, продолжавшегося несколько месяцев; и, не быв мореходцем, мог он постигнуть сам возможность достигнуть из Камчатки в Китай; а последняя помогла ему предпринять столь опасное морское путешествие без всяких пособий, кроме карты, приложенной к вояжу адмирала Ансона. Но в том, что он овладел и ограбил Большерецк, Бениовский напрасно приписывает себе честь; это могла сделать всякая разбойничья шайка!» Головнин, впрочем, не знал, что барон имел вполне приличное морское образование. Так что, располагая картой, он весьма успешно мог вести корабль куда угодно. А карта у него была, и не только та, что приложил к описанию своего вояжа Ансон. Будучи вхож в большерецкую канцелярию, барон мог скопировать или просто забрать ту карту Камчатки, Командорских, Алеутских и Курильских островов, которую тщательно, в течение многих лет составляли русские мореходы и землепроходцы. В сущности это была секретная карта, хотя еще и довольно неточная. По счастью, в Европу она не попала: штурманский ученик Измайлов при удобном случае выкрал ее у барона. Следует помнить к тому же, что спутниками барона были такие опытные мореходы, как штурман захваченного галиота Максим Чурин и подштурман Дмитрий Бочаров, в свое время плававшие с Креницыным к берегам Америки. И вообще, оценивая большерецкий бунт, нельзя упускать из виду главного — его социальной подоплеки. Во-первых, во главе заговора стояли политические ссыльные, замешанные в разного рода антиправительственных выступлениях. Конечно, им и в голову не приходило добиваться каких-либо существенных социальных перемен в этом глухом краю Российской империи, и все же смириться с положением бесправных ссыльных они не могли. Сами по себе, однако, они никакой активной силы не представляли, их просто было маловато. Во-вторых, бунт потому только и мог произойти, что его поддержали люди обездоленные, восставшие против узаконенного произвола своих хозяев. Такими людьми прежде всего были работники купца Холодилова. Они открыто возмущались и хозяином, который ими помыкал, и покровительствовавшим ему Ниловым. А начался раздор из-за того, что они отказались промышлять морского зверя на ветхой байдаре. Нилов же был заинтересован в промысле, так как ссудил купцу под предстоящий барыш 5000 рублей. Поэтому он решил силой заставить работников подчиниться и для начала нескольких арестовал. Барон воспользовался недовольством этих людей и поддержал их претензии. Арестованных освободили, с тем чтобы они сразу же приняли участие в бурно развивающихся событиях. Любопытно и следующее. Накануне отплытия галиота ссыльные оставили для сената «объявление», Б нем они гневно обрушились на произвол, несправедливости и притеснения властей вообще в России и тем более на ее окраинах («Камчатская земля от самовластия начальников разорена»). Позже свидетели показывали, что зачинщики бунта «говорили между собою о бедственном положении жителей полуострова, переносящих только одни обиды от своих командиров, не имеющих никакого понятия о свободе. И хотели предложить иностранцам, нуждающимся в переселенцах, прислать на Камчатку фрегат и небольшой бот для разъездов по гаваням и увезти камчатских жителей в колонии, где бы они могли иметь во всем изобилие и волю».
Бегство
О плавании Беневского существует документ без домыслов и прикрас, и потому весьма ценный. Написал его «шельмованный казак» Иван Рюмин, состоявший в Большерецке «пищиком». Неутомимый собиратель всяческих материалов, касающихся путешествий и географических открытий, Василий Берх отыскал Рюмина в Тобольске, где ему предписано было жить после возвращения из дальних странствий. В обработанном виде, с комментариями Верха записки Рюмина были опубликованы в 1822 году в журнале «Северный архив». Сейчас они служат тем вполне надежным свидетельским эталоном, по которому всего удобнее сверять мемуары барона. Выйдя из Большерецка, галиот несколько дней плыл мимо Курильской гряды. Наконец подошли к небольшому острову Маканруши. Крестьянин Кузнецов, состоявший адъютантом барона, послан был с официальной бумагой и «пристойным» числом людей, чтобы осмотреть местность и узнать, обитаема ли она. Но повстречалась им только небольшая собачка «курильских родов». Барон распорядился высадиться на берег; жили здесь беглецы дней десять. Пекли хлеб, сушили сухари для дальнего пути, шили флаги ц вымпелы «аглинские». Барон не чуял беды. А между тем штурманский ученик Измайлов, пытавшийся предупредить караульных казаков О бунте и увезенный из Большерецка силой, вместе со своим товарищем Зябликовым решил захватить галиот. К заговору присоединилось человек десять команды и камчадал Поранчин с женою, увезенный якобы за долг Хрущеву. Но, как пишет Рюмин, «из них один сделался пущей злодей, который обо всем том донес». Барон был страшно возмущен этим вероломством и сгоряча хотел казнить зачинщиков, но, человек в сущности покладистый и отходчивый, «сочиня сам письменное определение, приказал высечь кошками». Рядовых участников заговора после экзекуции оставили на галиоте. Измайлова же и камчадала с женою велено было высадить на остров. На пропитание им оставили «несколько ржаного провианта». В тоске и унынии обходили они безлюдный остров. И вдруг встретили русских зверобоев. Те, впрочем, вскоре ушли, взяв камчадала с женою на промысел. Измайлов остался и, прежде чем попасть на Камчатку, долгий год жил здесь робинзоном, кормясь «одними морскими ракушами, капустою и кореньями». Впоследствии он водил корабли шелиховской компании у берегов Русской Америки, имел даже встречу с Джеймсом Куком, во время которой потчевал его сухой лососиной и ягодами. Английский мореплаватель отозвался о нем с большой похвалой. Тем временем беглецы, испытав все муки затяжного плавания, страдая от скверной еды, жары и нехватки пресной воды, достигли в начале июля берегов Японии. Страна эта к чужеземцам относилась тогда очень строго. В виде особого исключения в ее порты заходили только голландцы, через которых и осуществлялись все связи с внешним миром. Понятно, что галиот был встречен настороженно, хотя в первой же бухте беглецам удалось сойти на берег, и простолюдины водили их в свои жилища, угощали рисом и вином. Однако галиоту нужна была вода, и ради нее рискнули зайти еще в одну бухту. Но высадиться беглецам здесь не дали. Все же воды японцы привезли, а сверх того рису, но оставили неподалеку в джонках с зажженными бумажными фонарями свой караул. Японцы же допускались на галиот без помех — и обыватели, и должностные лица, и монахи, у которых на поясе были привязаны «деревянные черные, также и костяные белые вырезанные болванчики или идолы». Запасшись водой и провиантом, барон велел поднимать паруса. Увидев эти приготовления, караульные всполошились и стали уговаривать барона остаться переночевать. Получив отказ, японцы в джонках подплыли к якорному канату и ухватились за него. Это насторожило русских. Видно, их хотят захватить в плен, смекнули они. Барон приказал дать пушечный залп. Караульные пали ниц, джонки кинулись врассыпную. Теперь ничто не мешало выйти из бухты. Зато беглецов очень хорошо приняли на одном из живописных южных островов, скорее всего в архипелаге Рюкю. Местные жители отнеслись к гостям истинно по-братски, варили для них еду, несли и рыбу, и кокосовые орехи, и водкой рисовой угощали… В этом месте мемуаров барон опять не удержался от соблазна рассказать о невесте, придуманной, как и Анастасия. Островитяне якобы привели однажды к барону семерых красавиц — выбирай в жены любую. Барон не стал обижать островитян и накинул покрывало на голову самой милой, самой стеснительной… Таким образом, он избрал свою суженую. Счастливицу Тинто-Волангту окружили подруги, и начались вокруг нее пляски. Со своей стороны барон угощал старейшин табаком и чаем. Но дело кончилось лишь свадебным пиром. Вероятно, барон предвидел, что Сусанна когда-нибудь да прочтет его мемуары. Но, как говорится, шутки в сторону. Покончив с ремонтом галиота и выпечкой хлеба, беглецы подняли паруса. И опять больше недели шли по пустынному морю, пока не увидели землю. Как позже выяснилось, то был остров Формоза[18]. Но первая же высадка на берег привела к стычке с аборигенами, по Рюмину, «индейцами». Был легко ранен один из русских. Ходили в поисках удобной и безопасной бухты долго. Однажды к галиоту приблизилось на громадных лодках человек до ста островитян. Всех их, по установившемуся обычаю, одарили деньгами и одеждой, а просили об одном: ввести в подходящую гавань. Что и было исполнено. В дальнейшем островитяне привозили на галиот фрукты, снабжали и мясом — свининой, курятиной. Но едва лишь снаряженная с галиота команда в поисках воды решилась проникнуть чуть дальше в глубь острова, как вновь произошло столкновение. Были убиты поручик Панов и два матроса. Барон относился к поручику с большой симпатией. Вместе пуд соли съели. Он был вне себя от гнева и приказал открыть в отместку огонь по проходившей мимо лодке. Пятеро ни в чем не повинных островитян пали замертво, а часть остальных настигли на берегу. Не удовлетворись этим, барон возвратился туда, где несколько дней назад был ранен один из беглецов. Высаженный здесь отряд уничтожил все лодки. Продвигаясь дальше, он достиг селения. «Индейцы» не дали захватить себя врасплох и вступили в бой, но были разбиты и отогнаны. Захватив опустевшие жилища, победители сожгли их. А для пущей острастки стрельнули с галиота ядрами. Вот что В действительности здесь произошло. Однако барон пишет, будто убил в «сражениях» на Формозе 1500 (?!) Островитян. Вовсе не будучи по натуре кровожадным, он Почему-то не стыдился выставлять себя этаким чудовищем В мемуарах. Между тем задача беспристрастного биографа, которого от этих событий отделяют уже ровно два века, состоит в том, чтобы спокойно во всем разобраться и даже обелить барона,если ему самому нравилось мазать себя черной краской. Нет, не было никаких великих сражений на Формозе, которыми руководил бы Беневский! Вспыльчивый по натуре, он сгоряча мстил за товарищей. Об этом без всяких Затей и выдумок пишет опять-таки Рюмин. Но речь может идти о единицах, а не о тысячах убитых. От Формозы барон направил галиот к берегам Китая.Из Китая во Францию
Проследим, какой резонанс произвело это бегство в России. Царица Екатерина II, конечно, всполошилась. Получив известие о камчатском бунте, она тотчас написала иркутскому губернатору: «Как здесь известно сделалось, что на Камчатке, в Большерецком остроге, за государственные преступления, вместо смертной казни, сосланные колодники взбунтовались, воеводу до смерти убили, в противность нашей императорской власти, осмелились людей многих к присяге привесть по своей вымышленной злодейской воле, и потом, сев на суда, уплыли в море в неизвестные места; того для повелеваем вам публиковать в Камчатке, что кто на море или сухим путем вышереченных людей или сообщников их изловит и приведет живых или мертвых, тем выдано будет в награждение за каждого 100 рублей». Вскоре царице донесли, что барон прибыл во Францию и готовит там фрегаты к какому-то плаванию. Царицу серьезно беспокоили его намерения. Куда он вздумает направить фрегаты? Не для завоевания ли Камчатки или других земель того края, о котором он смог получить довольно полные сведения?^ Поэтому она повелевает графу Панину, уже знакомому с. бароном, проследить через русского посланника в Лондоне, «какую дорогу выберет этот сумасшедший Беневский». Одновременно царица шлет иркутскому губернатору секретное предписание об усилении обороны Камчатки. Ему велено отправить туда потребное количество солдат, пушки и боеприпасы.Идя своим путем, барон достиг берегов Китая и зашел в порт Макао. Здесь он нанес визит губернатору-португальцу, после чего на галиот поступили хлеб и фрукты, Вскоре вся команда была переведена на берег. «Присланы ж были к судну несколько португальских ялботов, которые сделаны наподобие наших барж с балдахинами из шелковых и шерстяных европейских материй, для взятия с судна и перевозки на берег людей и экипажа, — пишет Рюмин, — на коих были перевезены в отведенную нам квартиру особливую, в которой жили и имели довольную пищу от губернатора, а предводитель наш, быв с нами в одной квартире… сошел, неведомо для чего, в квартиру к губернатору, которому вышеписанное наше российское судно со всем такелажем, якорями, пушками, ружьями, порохом, свинцом и ядрами и другими артиллерийскими припасами и с провиантом продал; а за какую цену, знать нам не дано». Вскоре барон разругался со своим приятелем Винбланом и Степановым. Они были недовольны и продажей галиота, и тем будто бы, что барон соблюдал в Макао только свои интересы. Беневский осветил их поведение таким образом, что якобы они замышляли чуть ли не бунт с последующим овладением городом. Винблана и Степанова с сообщниками рассадили по тюрьмам Макао. Они вынуждены были подчиниться воле барона. Только Степанов решил лучше отсидеть свое в тюрьме, чем дать подписку о верности барону. Оставшись в Макао, он поступил на службу в голландскую компанию, которая и послала его в Батавию. Он умер там, оставив рукопись о путешествии с бароном, публиковавшуюся в ряде европейских журналов. Между тем Беневский, стремясь успокоить своих людей, обратился к ним с воззванием: «Барон Мориц Анадар де Бенев, его императорского римского величества обрист и его высочества принца Альберта, герцога саксен-тешинского действительный камергер и советник, его же высочайшего секретного кабинета директор и прочее, всем господам офицерам и всей компании. …Вы знаете искренность мою. Из того одного заключить можете, что я, будучи в чужом еще государстве, все надобности для вас предусмотрел. То, что я вам обещал, можете требовать у меня, когда я в моем отечестве буду. А здесь хитрость заводить смешно и вам самим вредно. Я сим письмом напоминаю вам: образумьтеся, не давайте себя в обман людям, которых лукавство вам уже известно». Это воззвание, по-видимому, примирило его с теми из беглецов, кто еще оставался в живых. А надо сказать, что они чужды были всему укладу города, в котором оказались волею судьбы, и умирали не столько от перенесенного в плавании нервного напряжения, лихорадки и желудочных заболеваний, сколько от великой тоски. Как бы там ни было, странники российские покинули наконец Макао, оставив в здешней душной земле пятнадцать своих товарищей. Справедливости ради надо отметить, что барон старался по мере сил и возможностей не оставлять в беде своих спутников, которые так или иначе были ему верны. Не оставил он их и в Макао; продав губернатору галиот, он уплатил ост-индской компании крупную сумму за перевозку его команды в качестве пассажиров до Франции. Сказать, что он продал галиот ради личной выгоды, как это утверждали Винблан и Степанов, — значит погрешить против истины. У барона был определенный кодекс чести, и он старался ему следовать. Рюмин свидетельствует, что, прибыв во Францию, «переехали чрез залив в Порт-Луи, где определена… была квартира, и пища, и вина красного по бутылке в день, и денег по некоторому числу из казны королевской, и жили мы в том городе… восемь месяцев и девятнадцать дней». Почти девять месяцев русские беглецы жили за чей-то счет, едва ли за королевский! Надо полагать, и здесь барон позаботился о товарищах, прежде чем уехать в Париж. Все же бедолагам приходилось туго. Иные лежали в госпитале, изнуренные затяжным плаванием. Кое-кто и умер. Наконец, не вынеся этой неприкаянной жизни, они решили написать барону о желании вернуться на родину. Он ответил им короткой записочкой: «Ребята! Я ваше письмо получил. До моего приезду ваша командировка отменена есть. После всякий мне свое намерение скажет. До моего приезду живите благополучно. Я есмь ваш приятель барон де Беневский». Чем же барон эти девять месяцев занимался в столице Франции? О, здесь он был принят радушно. Кое-что о нем уже слышали, а больше рассказал он сам. Естественной реакцией на такие сногсшибательные приключения молодого польского офицера, как будто даже генерала, было предложение поступить на французскую службу. Барон принял его. В глазах света он выглядел чрезвычайно экзотически — солдат, путешественник, искатель приключений, открыватель неведомых земель. Особым успехом барон пользовался у дам: при всем своем образе жизни он остался блестящим кавалером (легкая хромота от старой раны придавала ему некий дополнительный шарм). Однако вся эта шумно-бестолковая жизнь мало тешила барона.

Он входит в правительство сначала с проектом завоевания либо подчинения французскому влиянию Алеутских, Курильских островов и Формозы. Но этот проект не встретил поддержки: до Формозы, не говоря уже о других островах, было далеко. Вряд ли стоило рисковать. Однако Версаль прикинул, что барону можно доверить устройство колонии на Мадагаскаре. Наконец-то пришло время вспомнить и о Сусанне, которая, верно, и думать уже забыла о том, что где-то на белом свете есть у нее муж. Барон посылает за ней нарочного. В марте 1773 года барон получил последние инструкции, касающиеся управления колонией на Мадагаскаре, и уехал в Порт-Луи. Здесь он намеревался включить своих русских «ребят» в экспедиционный корпус. К нему примкнули только одиннадцать человек. Петр Хрущев в чине капитана поступил на французскую службу. Майор Винблан вскоре возвратился в Швецию. Восемнадцать же самых непреклонных и истосковавшихся по родине, несмотря на все уговоры барона, решили пробираться пешком в Париж к русскому резиденту. В конце концов они возвратились домой. Но прежде чем это случилось, барон был уже на Иль-де-Франсе (ныне Маврикий — один из Маскаренских островов). После нескольких бесед с местными администраторами Тернеем и Мальяром барону стало ясно, что в его проекте колонизации Мадагаскара сии «государственные мужи» видят только конкуренцию и возможный упадок собственной торговли. Ему грубо ставили палки в колеса: не выдавали положенной амуниции, жизненно важных грузов… С огромной затратой энергии все это было бароном улажено. Сперва отчалил корабль с большей частью солдат. Потом выехал и он со всеми остальными людьми. С ним ехала также Сусанна, у которой на Иль-де-Франсе родился сын. Правда, ему не суждено было долго жить. Малыш не перенес губительного климата Мадагаскара, от которого умирали и взрослые члены экспедиции.
Король Мадагаскара
В феврале 1774 года барон высадился в Антонжильском заливе Мадагаскара. Солдаты встретили его с радостью: страдали они от жары, трепала их лихорадка. Жили все за палисадом форта — единственной здесь французской «твердыни», имевшей жалкий вид. Вдобавок соседнее племя сафиробаев было настроено по отношению к пришельцам враждебно. Барон, как мы знаем, не привык отступать перед обстоятельствами. Иль-де-Франс, судя по всему, намерен игнорировать колонию-крепость на Мадагаскаре. Что ж, не станет церемониться и он. Первым делом барон силой забрал с корабля, доставившего ненужные ему грузы, мастеровых для строительства жилищ. Из селений, расположенных поблизости, пригласил на работу лояльных островитян. Заложенный город-крепость он назвал Луисбергом — в честь Людовика XV. Сафиробаи пришли однажды, посмотрели на дружно кипевшую работу и молча ушли. Барон расценил их молчание как согласие с тем фактом, что отныне добрый кусок этой земли принадлежит французской короне. Однако не в одночасье можно было решить все неувязки и трения, возникавшие между пришельцами и коренным населением. Барон не рубил сплеча. Он относился к местным жителям если и не совсем терпимо, то все же избегал ненужных притеснений и таким образом находил в их среде все больше сторонников. Мало-помалу добившись более тесного общения с ними, он пытался на свой манер их просвещать, восставал против варварских обычаев… Вскоре за Луисбергом выросли два форта, между которыми пролегла дорога. Появились плантации, где произрастали злаки, сахарная свекла, хлопчатник… Огибая мыс Доброй Надежды, совсем неподалеку в Индию из Франции и обратно пролегал путь торговых судов, не упускавших случая заглянуть в залив Антонжиль, Барон грузил на них продукты плантаций, пряности, ценное дерево, а взамен брал текстильные и металлические изделия. Беневский вынужден был на первых порах покрывать дефицит немалыми суммами из своего кармана. Этим пользовались его враги на Иль-де-Франсе, доносившие в метрополию, что затея барона с колонизацией Мадагаскара терпит полный провал. Да и сам барон в их доносах фигурировал подчас как пират, ловец невольников, истязатель мальгашей и расхититель королевских средств. А тут еще умер благоволивший барону Людовик XV. Из Парижа повеяло отчуждением. Вероятно, доносы Мальяра и Тернея делали свое дело. Бессильный против их интриг, Беневский готов был махнуть на все рукой. Однако с этим не могло смириться его честолюбие. Если рвать с французами, так с музыкой. Если на то пошло, он вообще выйдет из-под власти и контроля французской короны. Он может стать верховным вождем Мадагаскара и будет вести самостоятельную политику с учетом интересов мальгашских племен. Эта идея все больше овладевала им. Вскоре представился случай осуществить ее, возможно им же и подстроенный. В Луисберге жила мальгашка, которая много лет была невольницей на Иль-де-Франсе. Вдруг она распустила слух, что барон не кто иной, как сын одного белого и ее приятельницы, дочери Рамини — последнего короля Мадагаскара. Значит, он прямой наследник Рамини. Мальгаши стали к ней прислушиваться: им нравился деятельный, справедливый по натуре барон, к тому же зарекомендовавший себя храбрым солдатом. Очень хорошо, если он станет представлять их интересы, защищая от посягательств европейцев. И вот в Луисберг явилась делегация вождей ближних племен. Они стали произносить длинные и проникновенные речи, упрашивая барона принять королевский титул. Барон обещал подумать. Месяц спустя из Франции прибыли давно ожидаемые инспекторы. Не сходя на берег, они прислали барону письмо с приказом явиться на фрегат. Беневский не знал, какие претензии имеет к нему двор. Не уполномочены ли эти инспекторы и впрямь арестовать его, как о том носились слухи? Барон ответил, что ему-де поручена защита колонии, из которой нельзя отлучаться. К этому официальному ответу приложил личное письмо, в котором приглашал инспекторов к себе. Само собой разумеется, их безопасность он гарантирует. Комиссары Белькомб и Шевро сошли на берег и провели инспектирование деятельности барона в качестве главы колонии и коменданта гарнизона. Результаты инспекции оказались в общем в его пользу. Какова бы ни была его деятельность, доходы с острова в казну метрополии уже начали поступать. Барон как будто свой хлеб даром не ел, хотя, с другой стороны… Впоследствии, отчитываясь двору об этой поездке, Белькомб писал с предубеждением: «Трудно найти человека с более эксцентричными идеями и странными замыслами, нежели барон Беневский». Комиссары на берегу не очень-то вмешивались в его распоряжения, тем более что обильный обед с пряными приправами и превосходным фруктовым вином волей-неволей привел их в благодушное настроение. Но, оказавшись под защитой пушек фрегата, они прислали ему приказ, что за дела колонии по-прежнему отвечает он. В следующем послании, выдержанном в более мягких тонах, они убеждали барона не слагать полномочий, пока не придет соответствующее указание короля. Барон пренебрег их просьбой и поставил в известность вождей, что ушел с французской службы. Итак, барон стал королем на одном из крупнейших островов мира. Он, конечно, понимал, что сама по себе его попытка выйти из-под власти Франции не останется безнаказанной. Король Людовик XVI вряд ли признает независимость острова. Он не удивился, если бы вдруг в заливе появилась французская эскадра. Но в ту эпоху требовалось длительное время, чтобы организовать какую-либо карательную экспедицию к дальним берегам. Да и зачем дожидаться карательной экспедиции? Ведь если он хочет упрочить свое положение на Мадагаскаре, поездки в Париж все равно не избежать ради того, чтобы добиться определенного модус вивенди. Варясь в собственном соку, без помощи извне, без денег, которые на первых порах не мешало бы у кого-либо заполучить в кредит, особенно не развернешься. Поездка в Париж, предпринятая бароном в условиях, когда он фактически порвал с Францией, была шагом, потребовавшим трезвого и мужественного расчета. Датой 14 декабря 1776 года, когда барон уехал с Мадагаскара, кончаются его мемуары. Тем лучше, пожалуй. Они достаточно внесли путаницы в книги авторов, не пожелавших отказаться от заведомых вымыслов барона. Дальнейшую его жизнь можно проследить пусть по немногочисленным, но более или менее точным свидетельствам очевидцев, письмам и документам.Барона осыпают милостями, но не понимают
Против ожидания во Франции барона встретили с еще большим интересом, чем прежде: к славе человека, испытавшего необыкновенные приключения, теперь добавилась новая — завоевателя Мадагаскара. Как-никак он провел там три года! В нем видели человека с широкой натурой, обаятельного, умного. Ему были рады. Но не так хорошо, как можно было надеяться после приема в обществе, обстояли его дела в министерстве, ведавшем колониями. Он представил туда проект постепенного овладения Мадагаскаром не с помощью войск, а осваивая его силами местной знати. Собственно, он предлагал Франции такое административное и политическое устройство на Мадагаскаре, при котором метрополия смогла бы осуществлять более действенное влияние на мальгашей. Правда, правительство должно было признать барона единственным главой этого острова-государства. Но его доводы французских чиновников не убедили. Надо сказать, что в те годы их колониальная политика вообще не отличалась гибкостью, какая, скажем, была присуща в подобных вопросах англичанам. Раз за разом они теряли позиции то в Индии, то в Канаде, а потом и в ряде других пунктов на колониальной карте мира. Отчаявшись найти общий язык с французами, барон оказался вроде бы не у дел. А между тем его так чествовали за прошлые заслуги на Мадагаскаре! И это невзирая на все доносы! Людовик XVI жалует ему титул графа. В прошлом польский генерал, теперь он и во Франции получает чин бригадного генерала, орден св. Людовика, крупное денежное вознаграждение. В 36 лет «дважды» генерал! Но служить в каком-нибудь захудалом французском гарнизоне, деля свое время между картами, вином и казарменной муштрой, — нет, это не для него. Хоть бы уж сражаться на поле брани. Но во Франции тихо — затишье перед началом революционных бурь. Однако война не заставила себя долго ждать. Мария-Тереза, уже одряхлевшая, но не утратившая воинственного пыла, рискнула еще раз попытать счастья, двинув войска против своего заклятого врага Фридриха Великого. Дух неутомимого вояки взыграл в бароне. Правда, он имел кое-какие счеты о австрийскими властями, но кто старое помянет… Увы, эта война не принесла ему ни славы, ни душевного удовлетворения. Он задыхался в тисках никчемных забот и унылой повседневности. В письмах жаловался на недооценивающую его Марию-Терезу. Правда, за боевые заслуги она простила барону старые прегрешения и даже велела возвратить ему часть конфискованного когда-то имущества. Немного разбогатев таким образом, барон отдается хлопотам по хозяйству, в свободное время гостит у соседей и родственников. Однако голова его уже переполнена мыслями о неведомых островах Тихого океана, о наполненных ветром парусах, воспоминаниями о друзьях-мальгашах. Бросить бы опостылевшее хозяйство и двинуться туда, где разворачивались великие события, накалялись страсти. Сказано — сделано: в середине 1779 года барон опять в Париже. Здесь он пытается возвратиться к разговору о Мадагаскаре, о проведении в жизнь начатых там преобразований. Но, как и Прежде, натыкается на стену непонимания и равнодушия. На счастье, в это время в Париже находился знаменитый ученый, писатель и философ Бенджамен Франклин. Здесь он довольно успешно выступал в качестве дипломата, представлявшего Северо-Американские Штаты. Франция в пику англичанам поддерживала нарождавшуюся заокеанскую республику военными поставками, большим денежным займом, Посылала инструкторов для обучения войск. Думал ли барон прежде о заокеанской стране? Трудно сказать. Все же мы можем допустить, что думал, что ему небезразличен был исход борьбы янки против англичан. Несомненно, его место на стороне угнетенных. Можно допустить, кроме того, что тут не обошлось без влияния Франклина, с которым барон познакомился. Человек живого и острого ума, много повидавший и переживший, барон, разумеется, не мог не привлечь внимания великого американца. Франклин играл в шахматы, писал об этой игре. Им было о чем толковать, даже если бы они ограничились одной только шахматной темой. Однако Франклина должны были интересовать не столько способности барона как игрока, сколько его рассказы о землях на северо-востоке России и о других местах. В глазах Франклина барон был прежде всего путешественником, проплывшим неведомыми морями. Добавим к этому, что барон иногда' склонен был выдавать себя и за первооткрывателя, хотя, увы, ничего он не открыл (путать — путал). Однако первое путешествие в Америку, судя по всему, барон совершил на свой страх и риск, не заручившись поддержкой такого влиятельного человека, как Франклин.Неудачи в Америке
Барон выехал в Америку из Гамбурга вместе с тремястами гусарами, завербованными Франклином. Англичане задержали корабль и высадили добровольцев в Портсмуте. Отныне им предстояло тянуть лямку пленных. Барону каким-то образом удалось этой участи избежать. Что ж, мы-то уже знаем, что роль пленного — не для Беневского. Уж если с Камчатки он совершил воистину фантастический побег, то в Европе он и вовсе чувствовал себя как рыба в воде. Словом, барон достиг-таки берегов желанной Америки. Правда, он оказался здесь в довольно незавидном положении. Денег у него не было. Но, пожалуй, хуже то, что в Новом Свете он не имел решительно никаких знакомств, а вдобавок не располагал и рекомендательными письмами. Безвыходных положений, как известно, для него не существовало. Он заявил, что приходится родственником генералу Пуласскому[19] и хотел бы его увидеть. Конгресс скрепя сердце распорядился выдать ему 1000 долларов. Барон поскакал в прерии и едва успел застать генерала в живых. Хирург госпиталя, в котором произошла встреча земляков (возможно, даже в самом деле родственников), свидетельствовал потом, что они беседовали о совместной борьбе на полях любимой отчизны и ее страданиях. Но генерал вскоре скончался, и пришлось барону возвращаться в Филадельфию ни с чем. Здесь он засыпал конгресс планами военного характера. На них просто не обращали внимания. Никому не было никакого дела до того, кто такой в действительности этот Беневский. То ли по легкомыслию, то ли по досадной оплошности барон не захватил с собой королевского декрета о присвоении ему звания бригадного генерала. Точнее, у него вообще не оказалось никаких документов. Военный отдел представлял его в свое время конгрессу как «господина, называющего себя бароном Беневским». Не располагая деньгами для экипировки, не имея возможности показать себя в лучшем, выгоднейшем свете, он ничем не выделялся в толпе прочих искателей военного счастья. Словом, попытка вступить в армию американцев успеха не имела. Пришлось возвратиться в Европу. Сусанна утешала его как могла. Ей бы, конечно, жить заботами об урожае в родовом поместье под Бескидами, нянчить детей, растить цветы на клумбах. Но она умела подчинять себя интересам мужа, которого боготворила. Летом 1781 года супруги едут в Париж. Здесь барон изредка навещает Франклина, беседует с ним. Ученого поражает широта его взглядов, свобода суждений в вопросах политики, экономики, военного дела. Он действительно кое в чем поднаторел за эти годы. Однажды барон привел к Франклину и Сусанну с дочерьми. В дневнике ученого есть запись: «Граф Бениовский, шляхтич венгерский, будучи пленником, взятым в числе сражавшихся за свободу своего края конфедератов, был сослан русскими на Камчатку, откуда бежал на захваченном корабле, на котором… блуждал у берегов Америки. Счастливо доплыл до Японии и Китая. Пришел ко мне представить жену. Хочет ехать в Америку, чтобы сражаться за ее свободу… Сказал, что имеет для конгресса рекомендацию от французского министерства. Выглядит как человек активного и дельного характера». Как видно из этой записи, барон с первых же дней пребывания в Париже начал стучаться во все двери, чтобы добиться рекомендаций для возвращения в Америку. Можно только подивиться упорству, с которым, невзирая ни на что, он шел к своей цели. И вот барон опять в Филадельфии. Но на сей раз не как безродный авантюрист. Ему, видно, крепко помогла торговля, которой он было занялся, в расстройстве чувств возвратясь из Америки. Теперь он располагал кое-каким капиталом. Остановился в лучшей гостинице, был прекрасно одет. Да, господин, имеющий деньги, называющий себя графом, кавалер одного из высших французских орденов, безусловно, производил выгодное впечатление. Теперь он уже не вымаливает какую-нибудь должность в армии Штатов, нет, он вынашивает более значительные планы. Он горит желанием организовать из завербованных в Европе людей так называемый Американский легион численностью до нескольких тысяч солдат, с кавалерией и артиллерией. После войны легионеры должны получить в Америке землю. А право на эту привилегию они оплатят собственной кровью. Друзья советуют ему обратиться прямо к Вашингтону. Однако тот интуитивно не доверял барону и от встречи уклонился. В это время в Филадельфию приехал посол Людовика шевалье де ла Люзерн. К счастью, барон был знаком с ним еще во Франции, встречался на светских приемах и тотчас нанес ему визит. Посол согласился написать Вашингтону письмо с просьбой терпеливо вникнуть в существо проекта создания Американского легиона. И лед тронулся: Вашингтон изменил отношение к упрямому барону. Он со всей серьезностью ознакомился с его проектом, рукописный экземпляр которого до сих пор хранится в архивах министерства иностранных дел Америки, и ответил письмом, в котором подробно касался военно-технической стороны дела. Однако прежде всего отметил, что проведение в жизнь идеи барона будет зависеть от многого. Например, от политической обстановки в Европе; от того, как долго будет длиться война… Если барон уверен, что его люди смогут стать под ружье не далее, чем через год, такой легион может принести существенную пользу борьбе за независимость. Ответ Вашингтона окрылил барона. Теперь, казалось ему, путь к успеху открыт. Его наконец примут в армию не ниже чем в звании генерала. Под его начало отдадут три корпуса Американского легиона. Правда, по этому вопросу должен был еще сказать свое слово конгресс, но это уже мало беспокоило барона, тем более что вскоре Вашингтон принял его, имел продолжительную беседу, после чего пригласил домой отобедать. Барон, конечно, обворожил жену главнокомандующего прекрасными манерами, столь несвойственными большинству военных, истинно польской галантностью, тактом, образованностью… и, надо полагать, рассказами о своей невероятной одиссее. Особая комиссия утвердила проект Беневского по всем пунктам. Никогда за всю свою жизнь барон не был так оживлен, энергичен, откровенно счастлив. Теперь он почти не вспоминал о Мадагаскаре. Нет, кажется, его судьба определилась раз и навсегда! И тут, как снежная лавина, на него обрушилось известие, что конгресс не утвердил решение комиссии. Предстояло повторное рассмотрение проекта. Как? Почему? Чьи это происки? Но не было ничьих происков. Как и предупреждал Вашингтон, к этому времени просто-напросто изменилась политическая ситуация. 19 октября 1781 года войска английского генерала лорда Корнвалиса капитулировали, что оказалось равнозначным поражению англичан в этой войне. Железные нервы Беневского не выдержали. Он слег в постель. Все чаще он вспоминал старую Европу, где у него было немало огорчений. Но там по крайней мере осталась хоть одна страждущая по нему душа — Сусанна. Там у него были милые дочурки. Он пишет жене письма, полные горечи и сожалений. Ведь он был далек от какой-либо корысти, разве что тщеславен… О, как понимала его Сусанна! Впрочем, способны понять и мы: барон действительно хотел помочь сражающимся Штатам в их справедливой войне. Это дополняет облик Беневского еще одной симпатичной чертой.Барон знакомится в Лондоне с потомком Магеллана
Ступив на палубу корабля, отходившего в Европу, барон едва ли мог представить, что ему суждено возвратиться в Америку еще раз. В апреле 1783 года он высадился во Франции. Не для того, впрочем, чтобы отдохнуть после всех бед и неприятностей. Ныне опять пришла пора действий. Но каких? В Европе никто ни с кем не воевал. Вот и хорошо: такая обстановка может способствовать привлечению внимания монархов к белым пятнам на карте мира. Если уж и ныне ему не удастся серьезно заинтересовать кого-либо Мадагаскаром, то, видно, и впрямь не судьба… Для начала Беневский пишет в Австрию Иосифу II. Тот дал барону бумагу с указанием строить на Мадагаскаре крепости, но не посулил никакой финансовой помощи. А без денег не стоило и затевать дела с какими-либо крепостями, барону ли было не знать… Относительно Франции он давно уже не питал иллюзий. Оставались только две страны, которые в состоянии были освоить столь грандиозное предприятие, — Англия и Россия. Но с Россией по известным причинам барон не хотел бы связываться. Осенью 1783 года Беневский в Лондоне. Довольно быстро он завязал знакомства в высших правительственных сферах. Здесь много слышали о бароне. В журналах о нем печатали пространные статьи, особенно после того как из третьей кругосветной экспедиции возвратились корабли Кука. Правда, самого Кука уже не было в живых, но остался его отчет, содержащий и рассказ о встрече с Измайловым на острове Уналашке. Измайлов, понятно, много наговорил англичанам о неистовом бароне, высадившем его на необитаемый остров. Знали в Англии также о деятельности барона на Мадагаскаре. К его предложению отнеслись не без любопытства. Короче, он обрисовал все выгоды Мадагаскара — сырьевой, торговой и стратегической базы. Он гарантировал эти выгоды в обмен на поставки военного и прочего снаряжения, а также финансовые займы. Но отвергал при этом всякую мысль о диктате со стороны Англии. Нет, нет, мы и сами с усами! Мадагаскар должен быть суверенным. В результате переговоры зашли в тупик. Возможно, еще и потому, что англичан пока мало привлекало восточное побережье Африки. Почти маниакальный в устремленности к цели, не понятый ни во Франции, ни в Австрии, ни в Англии, барон решает обратиться к частным лицам. Барон стал искать свободный капитал, который можно было бы вложить в такое предприятие, как освоение Мадагаскара. Но прежде он встретил своеобразную личность — Жана Магеллана[20], потомка знаменитого португальского мореплавателя. Давно уже Магеллан оставил свое отечество и подвизался в Лондоне в качестве воспитателя юных аристократов. Здесь он стал известен как ученый. Беневский обрадовался столь неожиданному и как бы даже знаменательному знакомству. Уже сама фамилия Магеллан звучала для барона сладкой музыкой. Под ее аккомпанемент мерещились ему каравеллы с косыми парусами, круто кренящиеся на борт, и ощущался в руках чуть подрагивающий штурвал. Еще в Париже барон читал Франклину первые наброски мемуаров. Должно быть, Франклин дал ему те или иные советы. Магеллан же взялся способствовать публикации мемуаров. Ему не чужды были и торговые дела. Он сочувственно отнесся к идее цивилизации Мадагаскара, представлявшейся вполне осуществимой. Он готов был помочь барону собственным капиталом и обещал найти других компаньонов. Впрочем, заметил он, вряд ли следует ориентироваться в таком деле на Англию или Францию. Лучше связать свои надежды с только еще встающими на ноги, но весьма предприимчивыми янки. 14 апреля 1784 года барон навсегда покинул берега Европы. С ним ехали жена и ее юный брат Генский, товарищи по торговому союзу — все близкие ему люди. В кармане у барона лежали рекомендательные письма в лучшие торговые дома Америки. В Балтиморе многие предприниматели пошли ему навстречу. Они и впрямь не прочь были основать торговый филиал на каком-либо из берегов Мадагаскара. Похоже, что капитал в тех местах способен обернуться сторицей. Оставалось только купить корабль, загрузить его товарами и продовольствием. Итак, барон Мауриций Август Беневский, он же граф, генерал польской конфедерации, камчатский узник, почти кругосветный путешественник, король Мадагаскара, замечательный шахматист и автор забавных мемуаров, стоял на пороге последней, увы, трагической страницы своей биографии.Последнее сражение барона
25 октября 1784 года барон вышел в море. Однако плавание началось под дурным знаком. Не успел его «Лэнтрэпид» отойти с полсотни миль, как поднялся жестокий шторм. Сусанну мучила морская болезнь. К тому же она ждала ребенка. Барон вынужден был повернуть назад. Сусанна решила больше не испытывать судьбу: она осталась в Америке. Вскоре в Штаты возвратился престарелый Франклин. Обрадованная Сусанна тотчас написала ему письмо. «Пребывание госпожи в Мериленде меня удивило, так как совершенно не представляю, что могло заставить ее приехать в Америку, — отвечал он. — Значит ли это, что господин Беневский решил остаться среди нас вместе с семьей? С госпожой он, либо госпожа его ждет? Если бы госпожа собралась приехать в Филадельфию, мне было бы весьма приятно увидеть ее с детьми». Бедный барон! Если бы он знал, что капитан его корабля Дэйвис — предатель! Но кто мог подумать, что посольство, двумя годами раньше всячески поддерживавшее проект создания Американского легиона, на этот раз будет ставить ему палки в колеса? А получилось именно так. Франции, например, не очень улыбалось присутствие американцев в Индийском океане (хотя бы и в качестве торговых агентов). Потому-то в тиши посольских кабинетов в самой Америке французы решили помешать барону. Тут годились и подкуп, и измена, и тайное убийство. Дэйвис должен был разбить корабль. И у берегов Бразилии он посадил его на мель. Отремонтировав «Лэнтрэпид», барон встал за штурвал сам. Теперь ничто не должно было ему помешать. Ураганов он не боялся. «Летучих; голландцев» тоже. Бывший камчатский ссыльный, он легко находил язык с любым человеком, и в этом смысле едва ли не все матросы «Лэнтрэпида» были его друзьями. В вантах свистел ветер, и мачты постанывали под его напором. Косые дожди хлестали в лицо. А дни летели, летели… Вот и долгожданный Мадагаскар! На всякий случай барон высадился не в знакомом Луисберге, а на северо-западной стороне острова, в заливе Антангар. Здесь он рассчитывал наметить план действий. Французы уже вели против него подрывную работу, настраивали соответственно население. Однако большинство племен ожидало, что с его появлением на острове начнется некая новая эра. Лагерь барона в заливе Антангар был окружен толпами мальгашей. Пронесся слух о привезенных им всяческих товарах. Но однажды Дэйвис воспользовался тем, что на корабле остались преданные ему люди, поднял паруса и вышел из залива. Вне себя от гнева и досады, что не сумел раскусить этого подлого Дэйвиса раньше, барон послал вдогонку за ним лодки. Но было уже поздно. Беневский попал в западню. Он остался почти без оружия, которое не успели выгрузить, да и продовольствия было мало. Однако и тут он не поддался унынию. Главное, он достиг все же Мадагаскара! А здесь не пропадет. Частью по берегам знакомых речек, частью по им же некогда построенной дороге барон добрался в местечко Ангонтси. Островитяне везде отдавали ему почести. Его пушки, оружие, товары они перевозили на пирогах. В Ангонтси, где хозяйничали французские купцы, барон, уже не терзаясь угрызениями совести, забрал все запасы оружия, европейских товаров, угнал скот… Когда-то на острове были гарнизоны в Луисберге, Фульпуэнте и форте Дайпине. Но стоило барону уехать — и все стало расползаться. Экспедиционный корпус был расформирован. Однако едва барон возвратился, по распоряжению губернатора с Иль-де-Франса вновь был прислан гарнизон в Фульпуэнте. Но он пока еще мало беспокоил барона, с головой ушедшего в строительство нового городка-крепости Мавритании. Жизнь здесь закипела. Возводились новые дома и магазины. Барон ездил по округе, наносил визиты местным вождям, толковал с ними на высшем, так сказать, уровне — словом, делал все для того, чтобы упрочить свое положение и наладить старые связи. Ведь он не был на Мадагаскаре больше восьми лет! Однако что-то получалось не так, не было прежней милой атмосферы в этих разговорах, духа взаимопонимания, что ли. Барон чувствовал, что откуда-то на него наплывают грозовые тучи. «В чем тут дело?»— недоумевал он. И конечно, не мог знать, что людей против него настраивает старый его переводчик Майер. И подсказали ему делать это с Иль-де-Франса. Вот и сбивал он туземцев с толку, нашептывал им, что скоро на Мадагаскар прибудут несметные войска короля французов и выбросят отсюда всех сторонников барона вместе с ним самим. В такой обстановке Беневский решил действовать круто и приказал барону д’Адельгейму, примкнувшему к экспедиции, по-видимому, в Америке, захватить Фульпуэнте. Лодки с отрядом д’Адельгейма напрасно плыли двести километров, ловя попутный ветер: на рейде в Фульпуэнте стоял военный корабль. Пришлось возвратиться ни с чем. Беневский огорчился. Надо было самому возглавить экспедицию. Возможно, для него не стал бы помехой и военный корабль. А уж с комендантом крепости он сумел бы потолковать накоротке. Однако и вылазка д’Адельгейма убедила французские власти, что они имеют дело с серьезным противником. Но пока у них не было сил справиться с ним. Пользуясь передышкой, барон начал разрабатывать залежи серебра, заложил плантации и уже собирал богатые урожаи. Но не забывал, впрочем, и о дипломатии. Так, он сделал несколько попыток убедить губернатора Иль-де-Франса, что не будет вредить его интересам на Мадагаскаре, и предлагал мир. Но только при одном весьма немаловажном условии: никакой торговли невольниками! Нет и нет! Раз и навсегда! Он мог снабжать острова Маскаренские рисом, фруктами, овощами, мог продавать скот… Губернатор не торопился с ответом. Ему доносили, что барон полон опасных замыслов. Резиденцию перенес из жаркого приморского Ангонтси в симпатичный уголок, выбранный им в глубине острова для своей столицы Мавритании, Соорудил там форт, окружил его частоколом, за которым на возвышенности установил две пушки и каронады. Его люди находились и в других укрепленных городках. Его власть простиралась от мыса Амбр почти до Таматаве, включая и некоторые густо заселенные острова. Словом, барон устроился на этой земле капитально и уходить не помышлял. Послания к вождям подписывал: «Мауриций Август, милостью божией король Мадагаскара». Наконец французы решили, что пришла пора дать понять этому «милостью божией королю», кто здесь настоящий хозяин. И вот с Иль-де-Франса был отправлен карательный отряд капитана Ларшера, чтобы не только разгромить барона, но и уничтожить всякий след его нововведений. Но и барон не дремал. Ему, конечно, уже донесли о высадке Ларшера. Ну что ж, война так война, он к ней готов. Стоял май — своеобразная мадагаскарская осень, — а сердце барона было переполнено думами о семье, о родине, о цветении ее вишневых садов. Все-таки он старел помаленьку, и ему уже было сорок пять… Может, его все же томили нехорошие предчувствия? Кто знает! Во всяком случае Беневскому и в голову не приходило уйти в глубь острова, выждать время, а может, и разбить отряд Ларшера исподтишка. Нет, так поступать не позволяло ему врожденное рыцарство. Точной дороги к Мавритании никто в отряде Ларшера не знал. Шли ночью, пробираясь через девственный лес на ощупь, и случайно наткнулись на замаскированную тропинку. Вот уж барон не предполагал, что французы ее обнаружат! Ведь его укрепления были возведены большей частью со стороны моря, откуда вела открытая и удобная дорога. Таким образом, Ларшер беспрепятственно достиг с тыла первых домов Мавритании. Отсюда отлично просматривались форт и жилище самого барона. Беневский всю ночь не смыкал глаз. На рассвете он вышел на крыльцо и увидел бегущих к форту солдат. Он схватил мушкет и крикнул: «Всем к частоколу!» Еще ничего не потеряно, атаку можно успешно отразить. С ним рядом верные друзья: барон д’Адельгейм, юный Генский… четыре матроса-американца с «Лэнтрэпида» заняли во главе солдат-мальгашей места; чуть дальше кто-то из русских, кажется Ваня Устюжанинов, надежный парень. И барон грозно предупредил атакующих: кто сунется к форту — пуля в лоб! Но получилось так, что пуля попала не в кого-нибудь, а именно в него: она прошила его грудь навылет. И барон, тело которого было покрыто ранами в сражениях и стычках тридцатилетней боевой жизни, начал медленно опускаться на землю, скользя рукой по брусьям частокола. Он пытался сказать какие-то слова, но их никто уже не понял. Так погиб этот неустрашимый человек.
Известный польский путешественник и писатель Аркадий Фидлер пишет в книге «Горячее селение Амбинанитело»: «Если на Мадагаскаре так и не образовалось государство под управлением Беневского, то в этом целиком повинен непредвиденный случай. Французская пуля сразила его в самом начале стычки. Это был удивительный каприз судьбы. Никто не погиб, кроме него, невластвовавшего короля Мадагаскара». Казалось бы, продержись барон еще два-три года, грянула бы французская революция, и кто знает, как потом развернулись бы события? И все же сам по себе Беневский никогда не смог бы удержаться на острове без поддержки какой-либо могущественной державы. Фидлер удивляется: «Однако во всем этом есть какая-то нелепая, тревожная загадка. Нынешние мальгаши совершенно не помнят истории Беневского, не знают ни легенд, ни былин о нем». Вряд ли это заслуживает удивления. Какой бы яркой личностью ни был барон, пребывание и деятельность его на Мадагаскаре выглядят всего лишь рядовым эпизодом в богатой событиями истории острова. Здесь не место вдаваться в подробности, однако следует заметить, что только в 1895 году, в результате двух кровопролитных войн, остров попал под французское владычество. Целое столетие ему удавалось сохранять независимость благодаря мудрости и прозорливости своих вождей. Воистину пример единственный в истории! Первыми русскими людьми, проникшими на Мадагаскар, можно с полным правом считать тех путешественников поневоле, которых увез с собой барон. Скорее всего они сгинули там бесследно. Впрочем, судьба одного из русских сподвижников барона, Устюжанинова, немного прослеживается. В комментариях к «Запискам канцеляриста Рюмина» В. Верх сказал о нем одну-единственную фрасу: «М. М. Булдаков сказывал мне, что сын протопопа Алексея воротился по убиении (курсив наш. — авт.) Беневского с Мадагаскара в Сибирь около 1789 года и служил впоследствии при Нерчинских горных заводах». Примечательная фраза! Она свидетельствует, что Устюжанинов находился при своем кумире от начала и до конца его деятельности на Мадагаскаре. И был свидетелем его смерти. После этого уже ничто более не удерживало его на чужом острове. Еще два-три года он добирался домой… Вот кто мог бы написать о бароне пусть пристрастное, но все же в основе своей достоверное повествование! Тогда бы мы имели более полное представление, в чем именно заключалась деятельность барона на Мадагаскаре. Потому что самому барону верить, как известно, можно не всегда. Правда, существуют на французском языке донесения купца Мейера, связавшего свою судьбу с предпринимательскими замыслами барона. Как пишет историк Мадагаскара Пьер Буато, они, «к счастью, более точны, чем донесения его друга, обладавшего пылким воображением». Но насколько ценнее было бы для нас свидетельство соотечественника, тем более такого,который прошел с Беневским сквозь огонь и воду! Жаль, но пока этого свидетельства нет. А может быть, оно еще будет найдено?
Посмертная слава
Спустя несколько дней Беневского похоронили. На его могиле посадили две пальмы. Много позже видели на этой могиле плиту, положенную родственниками барона. Франклин просил свою приятельницу в Балтиморе, чтобы не обходила Сусанну вниманием, опекала ее и помогала чем может. Узнав, что муж погиб, Сусанна уехала в родные края. Его она пережила почти на сорок лет. Весть о смерти барона лишила душевного равновесия и его друга Жана Гиацинта Магеллана. В предприятие барона ученый вложил почти все свое состояние и не хотел верить в эту смерть, все ждал, что придут другие, более благоприятные известия. Посмертная слава Беневского велика. О нем написаны десятки книг, и в сотнях изданий его имя вспоминается в той или иной связи. В России первое произведение о нем написал драматург Коцебу, который, пожалуй, известен скорее тем, что был отцом русского мореплавателя Отто Коцебу. Что касается его пьесы «Граф Бениовский, или Заговор на Камчатке», то это плод вполне ремесленный, основанный на мнимой связи барона с Анастасией Ниловой. Писали о бароне и позже. Дважды до войны издавалось у нас историческое повествование Н. Смирнова «Государство солнца», где барон представлен чуть ли не социалистом-утопистом, последователем Кампанеллы, мечтавшим претворить в жизнь его теории. Известно, что романтическая и бурная биография барона привлекла внимание Вячеслава Шишкова. В одном интервью он сказал: «Возьмите, например, похождения корнета Беневского, сосланного на Камчатку, поднявшего там восстание, захватившего военный корабль и отправившегося «основывать республику» где-то на Зондских островах, по дороге обстреляв японские города. В дальнейшем Беневский и уцелевшие его спутники попали в Париж. Этот совершенно невероятный, но исторически точный эпизод я включу в роман: одним из спутников Беневского будет член той помещичьей семьи, которая непосредственно связана с сюжетной осью романа». Из этого видно, что Шишков еще слабо представлял в подробностях эпопею нашего героя («корнет», «Зондские острова», «обстреляв японские города»). Но характерно, что, даже мало зная о похождениях барона, он считал их «совершенно невероятными». Замысел включить в роман о Пугачеве материалы камчатского бунта так и остался неосуществленным. Солидная литература о бароне существует в Польше. Там хорошо известна поэма выдающегося романтика Юлиуша Словацкого, современника Мицкевича. Горячий патриот, человек байронического склада, он все же не рискнул принять участие в польском вооруженном восстании 1830 года и ограничился только стихотворными призывами к борьбе. Впоследствии, терзаемый укорами совести, он навсегда покидает родину и уезжает сперва в Дрезден, а потом в Париж. Тяготея всю жизнь к героико-романтическим персонажам, Словацкий не мог не заинтересоваться приключениями барона и написал о нем поэму. К сожалению, многие авторы, как уже было сказано, добросовестно повторяют все выдумки Беневского. Слишком доверчиво отнесся к его мемуарам и Фидлер, утверждая: «Вопреки бешеной клеветнической кампании, которая велась против него в течение полутора веков шовинистическими кругами Франции, доброе имя и слава Беневского победили. Большую услугу оказали его дневники. В конце восемнадцатого столетия они были переведены на многие европейские языки и были очень популярны. Немало поэтов, писателей, драматургов всех стран брали темы для своих произведений из жизни Беневского». Вызывает возражение здесь ссылка на дневники барона. Литераторам — и вообще кому бы то ни было, в том числе и Фидлеру, — они оказали сомнительную услугу. Вряд ли это нужно лишний раз доказывать. А впрочем, слово самим полякам. В 1957 году в СССР вышел перевод книги Ядвиги Худзиковской и Яна Ястера «Люди великой отваги». В предисловии к ней авторы пишут: «В этой книге все достоверно — и люди и их приключения. Поэтому читатель не найдет в ней ни рассказа о Яне из Кольно… ни о Беневском — авантюристе и лжеце конца XVIII века, воспоминания которого изобилуют фантастическими вымыслами». Если же Беневский не лжец, то как же все-таки отнестись к тому факту, что он якобы свалился в кратер Ключевской сопки и камчадалы вытащили его оттуда крючьями? Между прочим, глубина этого кратера — четверть километра… Но можно рассматривать мемуары барона не с точки зрения достоверности описанных в них событий, а лишь как не лишенный занимательности литературный памятник, оставленный человеком «с пылким воображением». Скажем, мог же барон использовать приключения на Камчатке и в других краях как благодарный материал для написания авантюрной повести в духе рассказов барона Мюнхгаузена, с которым он, кстати сказать, жил примерно в одни и те же годы! Тогда все станет на свои места и все претензии к барону отпадут сами собой. Так кто же он был на самом деле, этот удивительный человек? Сказать, что всего лишь авантюрист, — значит судить о нем предвзято и поверхностно. Нас, людей двадцатого века, могут привлечь в нем многие замечательные черты. Прежде всего мужественный, неустрашимый, волевой характер, стремление к защите правого дела, униженных и оскорбленных. Вспомним хотя бы Большерецк, где он сумел умно подготовить и почти бескровно осуществить восстание, нагнавшее страху на Екатерину II. Правда, далеко не всегда его благие замыслы успешно завершались, но ведь он старался как мог. Вспомним, наконец, что он решительно воспротивился работорговле на Мадагаскаре и виновных в этом сурово карал. Авантюрист? Как говорится, немного есть. Но, заметьте, от всех своих «авантюр» он не нажил палат каменных и в общем всегда был беден. На многих его поступках и начинаниях отразилось знакомство со взглядами передовых людей своего времени. Похоже, что когда-то он действительно почитывал и социалистов-утопистов. Недаром англичанин У. Эллис, один из многих историков Мадагаскара, писал: «Взгляды Беневского опередили его эпоху, а обращение с мальгашами было справедливее и лучше, чем обращение других европейцев, прибывающих на этот остров». Этими своими чертами и поступками Беневский резко выделяется из ряда прославленных молвой авантюристов XVIII века, таких, как небезызвестный медик-шарлатан Калиостро, или граф Сен-Жермен, или любимец прекрасного пола Джакомо Казанова, или унесшая свою тайну в могилу княжна Тараканова. Скиталец и воин, Беневский не ровня им. Он выше их и цельнее. Он социально значимее. И прежде всего этим для нас интересен.Об авторе Пасенюк Леонид Михайлович. Родился в 1926 году в с. Великая Цвиля Городницкого района Житомирской области. Член Союза писателей СССР. Автор совершил много путешествий по нашей стране. Им опубликовано одиннадцать сборников рассказов и повестей («Хозяйка Медвежьей речки», «Нитка жемчуга», «Съешьте сердце кита», «Семь спичек», «Отряд ищет алмазы», «Перламутровая раковина», «Четверо на голом острове», «Люди, горы, небо» и другие), роман о вулканологах Камчатки «Спеши опалить крылья» и три книги путевых репортажей («Лед и пламень», «Иду по Огненному кольцу», «Путешествие на белой шхуне»). В настоящее время работает над книгами об освоении русскими и советскими людьми окраин нашей страны: Камчатки, Курильских, Командорских островов и островов Северного Ледовитого океана. В сборнике выступает впервые.
ДЯДЮШКА ПИНЬЯР И ГРАФ БЕНЕВСКИЙ Вместо послесловия
Дядюшка Пиньяр не прочь был и приврать. Но как не простить старику эдакую малость? Ведь Пиньяр и вправду видывал Яву и Коромандельский берег, Борнео и мыс Доброй Надежды. Они были большими приятелями, этот седой консьерж и начинающий музыкант Гектор Берлиоз. Будучи знаменитым композитором, Берлиоз вспоминал: «Я всегда очень любил старых путешественников, у которых есть в запасе какая-нибудь давняя история. Я слушаю их со спокойным вниманием и необъяснимым терпением. Я следую за ними во всех их отступлениях, за всеми малейшими подробностями эпизодов в передаваемых ими событиях». По-моему, есть некое сходство между приятелем Берлиоза и героем очерка Леонида Пасенюка. Как и дядюшка Пиньяр, Беневский странствовал годы и годы. Как и дядюшка Пиньяр, Беневский подчас «увлекался», вспоминая минувшее. Однако меж ними есть и различие. Старика консьержа слушал один Берлиоз да еще пара собутыльников, ибо Пиньяр, не скроем, любил-таки пропустить стаканчик. А Беневский написал книгу. За несколько десятилетий до выхода этой книги свифтовский Гулливер сообщал своему родственнику: «Вы уговорили меня опубликовать весьма небрежный и неточный рассказ о моих путешествиях». Не думаю, что Беневского уговаривали. Скорее, напротив, он сам уговаривал издателя. Издатель не промахнулся: книга разошлась быстро. Вскоре ее перевели на несколько языков. Ею зачитывались поколения. Промахнулся не типограф. Промахнулся… автор. Он не прикрылся, как Гулливер, этим «небрежный» и «неточный». Больше того, он храбро назвал свое повествование мемуарами. Не берусь судить, что понудило Беневского привирать. Пылкая фантазия? Желание славы? Или и то и другое вместе?.. Но вот что и впрямь обидно: с течением времени к отважному страннику присмолилась репутация отчаянного лгуна. В печатных материалах о Беневском (а материалы эти велики: даже пишущий эти строки, специально не занимавшийся Беневским, мог бы привести больше сотни названий) имя его и слово «авантюрист» встали рядом, тесно. Гм, авантюрист… Каждое время по-своему окрашивает слова. Загляните в словари. Вы увидите не только уничижительное толкование, но и такое: «Человек, ищущий приключений». А Владимир Иванович Даль прибавляет — «землепроходец». И вот в этом старинном смысле слова Беневский, несомненно, авантюрист. Леонид Пасенюк не пересказывает Беневского. Автор добротного, документированного очерка неспешно и вдумчиво отсеял плевелы. И, читая очерк, нет-нет да и пожмешь плечами: черт дернул барона «домысливать»! Да, ей-богу, побег с края Азии в Европу, одно плавание через океаны избавило бы от зевоты любого книгочея. Однако ограничься Леонид Пасенюк мемуарами своего героя, дело было бы сделано лишь наполовину, если не меньше. Ведь Беневский взялся за перо не на закате своих земных дней, а задолго до трагического финала. И особая ценность очерка в том, что биография — мятежная, переменчивая, многоцветная — прослежена до той роковой точки, которую поставила французская пуля, хотя недостаток места, к сожалению, сдерживал биографа… География приключений и злоключений Беневского обнимает три континента и три океана. Он был подлинным путешественником и настоящим мореходом. Читатель познакомился с человеком ярким, необычайным. С судьбой Удивительной. И главное, изложенной правдиво.
Юрий Давыдов
Э. Вадещкая
СКАЗЫ О ДРЕВНИХ КУРГАНАХ
Очерк Заставка худ. В. Найденко Фото автора
Поблекшая степь залита солнцем. Воздух прозрачен, сухо, жарко. Степь безбрежная, лишь на горизонте вырисовываются голубоватые силуэты сопок. А посреди степи, словно застывшие волны, курганы. Они то возвышаются одинокими большими насыпями, то скучиваются обширными кладбищами. Многочисленность их отражена в местных названиях. Нет-нет, да и упомянет в разговоре старик чабан «могильную степь», «долину смерти» или «долину царей». Больше всего мне нравятся курганы вечерами. Днем я их исследую: измеряю насыпь, ограды, определяю время сооружения, раскапываю. Днем они для меня следы некогда существовавших древних племен. При лунном же свете очертания холмов и окружающих их высоких стел[21] выглядят таинственнее, степные запахи становятся более терпкими, пьянящими. Реальность отступает перед воображением. В такие минуты я люблю сидеть у подножия кургана, облокотившись о его каменную ограду, и смотреть на поблескивающий вдали Енисей. И мне чудится глуховатый голос: курган повествует о тех, кто покоится под его насыпью. А порой здесь же, на кургане, или у затухающего костра я сама охотно рассказываю подросткам различные легенды о курганах, об их сокровищах, о загадках сибирской археологии. И вновь во мне борются два человека. Как археолог я пытаюсь объяснить реальную основу передающихся из поколения в поколение легенд, но в то же время мне жаль разрушать этим поэтическую фантазию.
Мифы о могильном золоте на Енисее
Обилие курганов в степях по среднему Енисею издавна привлекало внимание, возбуждало любопытство и порождало различные слухи. Самый устойчивый из них — о несметных богатствах, якобы хранящихся под древними полу-развалившимися насыпями. До сих пор нас, археологов, часто спрашивают, находим ли мы золото в могилах. А иные даже полагают, что ради него и раскапываются курганы. На чем основаны подобные слухи и действительно ли так богаты золотом курганы Енисея? В XVII веке на «вольные земли» Сибири переселились русские крестьяне. Они не скоро обжились на новом месте, не скоро научились осваивать непаханые земли, и в слободах сибирских городов и острогов того времени всегда были обнищавшие «гулящие люди», готовые взяться за любую работу. Они вскоре открыли новый источник доходов — раскопки «бугров», то есть земляных курганов, сооруженных над древними могилами. Создатель первой истории Сибири Г. Ф. Миллер сообщает, что «люди для гробокопательства отправлялись прежде в Сибирь большими партиями, будто на соболиный промысел, и многие от того имели пропитание». В 1669 году из сибирского губернаторства (г. Тобольск) сообщали российскому правительству о массовом ограблении сибирских могил: «В Тобольском уезде около реки Исети и во окружности оной русские люди в татарских могилах или кладбищах выкапывают золотыя и серебряныя всякия вещи и посуду». Докладывают и проезжающие в Китай и Монголию послы и путешественники: «На реке Иртыше русские разрывают бугры и сыскивают золотые стремена и чаши, а в могилах недалеко от г. Томска находят среди праха покойника значительное количество золота, серебра и меди, драгоценные камни, в особенности же рукоятки мечей и оружие». В 1715 году уральский заводчик А. Н. Демидов преподносит Екатерине I по случаю рождения царевича Петра Петровича своеобразный подарок — ювелирные золотые предметы из древних могил Алтая. Вскоре еще две подобные коллекции присылает в подарок Петру I сибирский губернатор М. П. Гагарин. Через несколько лет сибирский губернатор князь А. М. Черкасский запрашивает Петра I, покупать ли добываемые из древних курганов золотые вещи. Петр издает несколько указов, в которых запрещает расхищать курганы, а все «курьезные вещи, которые находят в Сибири» обязывает покупать «настоящей ценою». Причем имеются в виду не только золотые вещи, но и «каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские… старые надписи на каменьях, железе или меди, или какое старое необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно — також бы приносили, за что будет довольная дача, смотря по вещи». Не ограничиваясь указами, Петр отправил в Сибирь датского ученого Даниила Готлиба Мессершмидта описывать природу, население, древние памятники. Шесть лет ездил по Сибири датчанин, лишенный привычных удобств, зависимый от проводников. Переводчиком был живший в сибирской ссылке плененный под Полтавой швед Ф. И. Табберт (Страленберг). Он отмечает, что раньше сибирские градоначальники сами снаряжали отряды для грабежа могил и получали за это десятую часть найденного золота, серебра, меди, камней. «Найдя такие предметы, отряды эти разделяли добычу между собой и при этом разбивали и разламывали изящные редкие древности, чтобы каждый мог получить по весу свою долю». Добыча была так велика, что могильное золото и серебро составляли предмет торговли и имели на рынке определенную цену. У красноярского же воеводы Д. Зуева могильного золота, по слухам, было более чем на несколько тысяч рублей. Подобные слухи вызвали у Мессершмидта желание приобрести что-либо ценное для царя, но ни одной золотой или серебряной вещи он так и не смог купить. В Минусинских степях он встречал курганы, изрезанные, словно ранами, свежими шурфами бугровщиков, но, как говорили, в них ничего ценного не нашли. В канун нового 1722 года к Мессершмидту, находившемуся в Абаканске (село Краснотуранское), приехал казак и доложил, что знает поблизости курган, вокруг которого находятся камни с различными знаками. На другой день Мессершмидт с денщиком, слугой, художником и переводчиком Страленбергом поехали к этому кургану. Ночевали на берегу Енисея у костра, а утром Мессершмидт отправил денщика, художника и слугу к могиле. Возвратившись, они сообщили, что нашли в могиле большие камни и дерево, под которыми, очевидно, лежит покойник, и что господину доктору (то есть Мессершмидту) следовало бы самому поехать туда для вскрытия могилы. Мессершмидт последовал совету и отправился вместе со всеми на «могильные работы», но оказалось, что придется много копать. Стояли сильные морозы, и датчанин вернулся в острог. С рабочими остался Страленберг. Шестого января они нашли человеческий скелет, несколько обломков серебра и меди и, решив, что могила разграблена, бросили работу. Метод раскопки кургана ничем не отличался, как видим, от грабительских шурфов, но цели были научными. «Заставил же доктор копать здесь потому, что хотел узнать, каким образом эти язычники в старину устраивали свои могилы». Поэтому день шестого января 1722 года считается началом сибирской археологии. Но, несмотря на слухи, экспедиция Мессершмидта золота из могил так и не видела. После Мессершмидта все ученые, путешествовавшие по Енисею, стали обращать внимание на археологические памятники, собирая встречающиеся им на пути древности и раскапывая, где представлялся случай, древние могилы. Среди таких покупок и находок золотых вещей не было, а между тем слухи о «могильном золоте» продолжали распространяться. Считали, что его особенно много в могилах близ Абаканского и Саянского острогов. По Енисею же и его притокам якобы находили даже целые золотые шахматы и большие золотые пластины, на которых лежали погребенные. Были и живые свидетели богатства курганов — бугровщики. С одним из них беседовал историк Г. Ф. Миллер. Это был бродяга из Селенгинска по имени Селенга. Тридцать лет он прожил в землянке, вырытой среди курганов огромного древнего могильника у деревни Абакано-Перевозной. Селенга раскапывал подряд курганы разных эпох, не расставаясь с лопатой и киркой. Жил один, отлучаясь с кладбища лишь за тем, чтобы пропить в кабаке кое-что из своих находок. Под старость у него онемела левая рука, тогда он стал привязывать к ней лопату и грудью вдавливать в землю. Местные жители думали, что его постигла божья кара за то, что он тревожит покой их предков. Говорили также, что он нашел большие сокровища. В XIX веке раскопки на Енисее стали проводиться под контролем Археологической комиссии, организованной в Москве и Петербурге. Был основан музей в городе Минусинске со своими специалистами-археологами. Комиссия требовала подробного отчета о раскопках и выдавала специальный документ на право их ведения на той или иной территории. Местным чиновникам вменялось в обязанность содействовать археологам. Так были раскопаны курганы, относящиеся к разным тысячелетиям. Странный мир раскрылся перед исследователями. В могилах оказалось много посуды, оружия, украшений и других вещей, но золотыми были единичные бусинки, сережки и тоненькие листочки, которыми обтягивались глиняные и деревянные пуговицы и бляшки, деревянные ножны, древки стрел. Сколько-нибудь значительной рыночной ценности эти кусочки золотой фольги иметь не могли. Осмотрев всю археологическую коллекцию Минусинского музея, в 1898 году золотопромышленник археолог-любитель И. Кузнецов-Красноярский пришел к заключению, что золото для древних могил по реке Енисею и его притокам, в частности Абакану, нехарактерно. Но бугровщики продолжали свою хищническую деятельность и показывали золото в слитках, будто бы добытое ими в могилах. Бугровщиков давным-давно нет. Раскопаны тысячи могил, но найти неразграбленную — редкая удача. А если курган с приметной насыпью, то на ее вершине, как правило, большие воронки — следы грабительских шурфов. Потому-то и бытует до сих пор версия, что все зло в бугровщиках, искавших в царстве мертвых золото. А факты твердят свое. За последние десять лет Красноярской археологической экспедицией АН СССР раскопано более трех тысяч могил энеолита, бронзового и раннего железного веков. Золотая серьга, два золотых и два серебряных кольца, множество обрывков золотой фольги, тонкие золотые пластинки, несколько золоченых бусин — вот и — весь «урожай» драгоценных металлов, хотя встречались могилы и неразграбленные или ограбленные частично. Правда, до сих пор встречаются сокровища в курганах Енисея, но только поздних, с каменными насыпями. Эти курганы относятся уже к средневековью, к VII–XII векам нашей эры. В них находят золотые серьги, бляшки, железные стремена, инкрустированные серебром, серебряные обкладки луки седел, золотую, серебряную посуду. Один серебряный кубок и чаша были найдены в 20-х годах археологом С. А. Теплоуховым. Серебряное позолоченное блюдо с четырьмя золотыми кувшинами и золотая тарелка обнаружены в 1936 году профессором С. В. Киселевым в том самом могильнике, который грабил бугровщик Селенга. В 1964 году у села Батени Красноярской экспедицией найдена серебряная позолоченная чарка. Ценность этих сосудов не только в материале, из которого они сделаны. Это высокохудожественная, ювелирная работа. Некоторые из них покрыты богатой накладной или чеканной орнаментацией. В орнаменте — растительный узор и ушастые грифоны, терзающие рыбу, птица феникс, львы, лани, мотивы иранского Запада и китайского Востока. Эти сосуды, по-видимому, не местного изготовления. Орхоно-енисейские надписи на сосудах говорят о том, что эти уникальные вещи преподносились племенной знати в виде даров и дани: «Золото — дар Ача» или «Бэгское серебро мы дали», «Держа сверкающую чашу, я сполна обрел свое счастье». Во времена средневековья в степях Енисея жили разные кочующие племена, которых объединяют общим названием кыргызы. Упоминающиеся в надписях бэги — племена, жившие между реками Юсами и Уйбатом. Золотые и серебряные вещи, принадлежавшие кыргызской знати, высоко ценились, и их старались зарывать не в могилах, а в тайниках, подальше от глаз грабителей. Бугровщики, конечно, могли находить эти тайники, но очень редко, в исключительных случаях, и, уж бесспорно, это не могло служить источником систематического обогащения. Бугровщики к тому же копали все подряд, а не только эти каменные кыргызские курганы, золото же, как хвастают грабители, находили… в слитках. Вот это-то и послужило причиной их разоблачения. В конце прошлого века в разговоре с бугровщиками минусинского археолога И. Т. Савенкова осенила догадка. Грабители крайне путано рассказывали о раскапываемых ими курганах, часто не могли указать их признаки и не находили ничего, кроме золота в слитках. Сопоставя все это, археолог решил, что за «могильное золото» выдается добываемое в тайных приисках. Золотых россыпей на Енисее обнаружено много. В ряде случаев на территории, арендуемой золотопромышленниками, оказывались и древние курганы. Добыча золота разрешалась «с платежом в казну подати». С «могильного золота» подать не взималась, добыча его практически не каралась, и ею было легко прикрыть истинный источник — тайные прииски. Таким образом, вполне вероятно, что мифы о сказочных богатствах курганов Енисея породили сами грабители-бугровщики, желая сохранить в секрете истинные источники своих доходов. Однако как объяснить в таком случае почти полное ограбление древних курганов? Как понять поведение бугровщика Селенги, в течение тридцати лет не прекращавшего свои раскопки?Грабители могил
К сожалению, бугровщики были не единственными и не самыми серьезными грабителями курганов. Большинство захоронений ограблено еще в древности. Мотивы ограбления не всегда ясны. Непонятно, например, зачем современники грабили бедные коллективные могилы рубежа нашей эры, заполненные берестяными, деревянными, глиняными сосудами и не содержавшими почти совсем металлических предметов. Погребенных, правда, хоронили в овечьих, оленьих и даже соболиных шубах и полушубках, клали им, по-видимому, ковры и другие не сохраняющиеся мягкие вещи. Но в те времена все это не шло ни в какое сравнение с драгоценными металлами. В 1958 году наша экспедиция раскопала могилу древней колдуньи или шаманки, жившей четыре тысячи лет назад. На ее одежде было много различных амулетов: костяные пластинки, изображающие медведя, мраморные шары, бисеринки, клыки и зубы животных, а на ступнях ног плотным рядом лежало по 130 зубов соболя — украшение туфелек. Оказалось, что все они — третьи коренные верхней челюсти. Этому зубу придавалось значение амулета-оберега. В другой раз мы обнаружили в захоронении 91 такой зуб на каждой туфельке. Видно, соболи были тогда далеко не редкостью. Если грабежи подобных захоронений вызывают недоумение, то причины ограбления могил родовых или племенных вождей вполне понятны. Тут, очевидно, было чем поживиться. В 65 километрах к северо-западу от города Абакана на плоской котловине (урочище Салбык), окруженной с трех сторон увалами, а с севера горным хребтом, отрогом Кузнецкого Алатау, есть, как и повсюду на Енисее, древнее кладбище. На нем выделяются пять огромных «царских» курганов. Самый большой раскопан в 1954–1956 годах профессором Сергеем Владимировичем Киселевым. Первоначальная земляная насыпь кургана достигала 25 метров в высоту, окружность по подошве 495 метров, а под насыпью оказалась ограда 70x70 метров из массивных плит весом до пятидесяти тонн. Подобные плиты издавна поражали исследователей. Вышеупомянутый Ф. И. Миллер, проезжая здесь в 30-х годах XVIII века, писал: «Особливого удивления достойны превеликие камни, коими некоторые могилы обкладены, и притом в таких местах, в коих поблизости не видно никаких каменных гор, из которых бы оные камни брать можно было, так что сии камни с неописанным трудом из весьма отдаленных мест привозить надлежало». В углах ограды кургана, раскопанного Киселевым, под плитами найдены скелеты взрослых людей (возможно, это «закладные жертвы»), а в середине ограды вырыта могила площадью в 16 квадратных метров. Стенки ее укреплены тыном и срубом. В камеру с поверхности земли вел вход в виде дромоса, облицованного бревнами. Поверх камеры — пирамидальная деревянная крыша, крытая берестой. В этом доме мертвых была похоронена, видимо, царская семья. Грабители проникли внутрь сооружения еще до того, как обвалилась крыша. В камере археологи нашли лишь останки шести людей, бронзовый нож и массивный глиняный сосуд. Все остальное унесли грабители, очевидно современники захороненных. Наибольшую ценность для них, вероятно, представляли бронзовые изделия, которые переплавляли в ножи, кинжалы и другое оружие, в различные украшения.Скоро полдень. Солнце печет нещадно, но здесь, в древней могиле, в такую жару сидеть приятно. Прохладой веет от каменных стенок ящика-гроба. Август, основные землекопные работы завершены. Предстоит самое интересное — расчистка скелетов и вещей на дне могилы. Сижу согнувшись в три погибели. В песке виднеются венчик горшка и глазницы черепа. Нетерпеливые руки тянутся поскорее расчистить горшок и череп, но… нельзя, надо все по порядку. Я присыпаю горшок песком, чтобы случайно его не раздавить, обметаю сначала все стенки ящика, потом беру нож и начинаю за черепом скелета тонкими вертикальными пластами срезать землю, подгребая ее к себе. Расчищаю осторожно то ножом, то пинцетом, то кисточкой. Не только кости, но и мельчайшие бусины, пронизки, пуговицы должны оставаться на своих местах. Иначе, выражаясь археологическим жаргоном, «могилу зарежешь». На фотографиях и чертежах все должно быть изображено так, как найдено — в первоначальном положении. Особые трудности у меня всегда с фалангами пальцев рук и ног. Чуть нажмешь посильнее — и тонкие косточки выскакивают, а поправлять уже нельзя. Так и запечатлевают брак моей работы фотографии и чертежи. Чего только не передумаешь за день, пока руки механически двигаются. Вот и сейчас невольно обращаешь внимание, что на височных костях черепа следы зелени — окись меди. Они и на пальцах, первых шейных позвонках, у кисти рук. Значит, эту женщину похоронили в бронзовом ожерелье, браслете, кольцах. К волосам были прикреплены височные кольца, а где они? Похищены… Здесь более 500 курганов XIII века до нашей эры. Многие ограблены тогда, когда земля еще не просочилась сквозь щели могильных плит, когда не рассыпались еще связки и сухожилия рук и ног. Где же у древних грабителей страх перед мертвыми, о котором говорят этнографы? Воображение рисует такую картину. Они крадутся бесшумно, озираясь. В руках бронзовые топорики, на поясах кинжалы. Лицо закрыто маской, чтобы его не видели духи усопших. На шее — ожерелья из колечек, клыков марала, когтей медведя — амулеты, защищающие от потусторонних сил. Ох, если бы не месть духов! При мысли о них деревенеют руки, лихорадочно разрывающие гробницу. Эти руки знают, где шарить. Они сдвигают плиту — крышку гроба, выхватывают серьги, бусы, браслет. Остается найти нож. Нож кладут покойнику в ногах, на кусок бараньего мяса. Грабителям и это известно. Нащупав нож, они прекращают поиски, поспешно закладывают плитами каменный гроб и переходят к следующему. Их не интересуют глиняные сосуды, инкрустированные белой пастой, бисер, костяные гребни. Им нужна только бронза — золото бронзового века. Бронза — это богатство, власть, рабыни, скот. Скользят тени между курганами, наполняются награбленным сумки. Не ведают, не гадают эти люди, что их собственный прах будут осквернять потомки в поисках той же бронзы или другого металла. И не уберегут от этого ни глубокие срубы, ни каменные ограды, ни огромные земляные насыпи.
Сокровища не мнимые» а истинные
Курганов в Абакано-Минусинских степях много. Наиболее древние надмогильные сооружения незаметны. Они представляют собой небольшие задернованные камни, и различить их могут только специалисты. Курганы не ломятся от «сокровищ», они сами по себе сокровища, чудом сохранившиеся до наших дней. Археологи не охотники за золотом, а следопыты прошлого. Восстановить прошлое, оживить для истории многочисленные племена, жившие некогда на Енисее, можно лишь благодаря курганам. Это основной исторический источник, так как здесь, к сожалению, почти не сохранились древние жилища. Курганы дают нити ко многому. Каждый предмет, каждый горшок, найденный в них, расскажет больше, чем слитки золота, если бы они и были там. Ни одна деталь не пропускается учеными. Как сделана гробница и окружающая ее ограда? Каков антропологический тип погребенных, их пол и возраст? Мясо каких животных клали умершему? Почему некоторым связывали руки и ноги, а других сжигали? Чем объясняется разная форма сосудов и украшений? Откуда приходили на Енисей древние племена, когда и кем вытеснялись? Подобные вопросы не дают покоя нескольким поколениям историков первобытного общества. Кое-что разгадано, многое неясно, но, коль скоро сотни древних кладбищ еще не раскопаны, есть надежда на дальнейшие победы археологической науки. К счастью для археологов, в этих степях для сооружения могил в древности использовали камень, песчаник или гранит, а не дерево, дерн, землю, как это было в других местах. Но тем горше видеть, что продержавшись до XX века, погребальные сооружения сотнями исчезают на глазах. Иногда эти потери неизбежны. Распахиваются целинные степи, большие площади затопляются при сооружении ГЭС. А вот случаи неоправданного уничтожения древних памятников просто возмутительны. Аскизский тракт в Хакасской автономной области перерезает огромные древние кладбища. Высокие камни курганов тянутся по обе стороны шоссе, создавая особый ландшафт степей и сливающихся с ними гор. Но до чего неприятно видеть торчащие вдоль обочины стенки каменных гробов из-под частично снесенных насыпей! В 39 километрах от Абакана на повороте дороги к совхозу «40 лет Октября» сохранилось 50 курганов со значительными насыпями, до двух метров высотой. Рядом берут гравий для строительных работ, и два кургана уже снесены бульдозером. Мне довелось не один год ездить и бродить по степям. Случаев уничтожения курганов немало, несмотря на правительственные постановления об их охране. К сожалению, еще находятся люди, проявляющие неуважение к старине и истории нашей Родины. Однажды, еще в студенческие годы, моими попутчиками оказались топографы, возвращавшиеся из Тувы. И вот эти» казалось бы, культурные люди интересовались только оплатой труда студентов-практикантов в археологических экспедициях, а потом задали такой вопрос: «А зачем вы вообще нужны, археологи, какие вы производите материальные ценности?» Стало обидно не только за себя и коллег, но и за ребятишек, прибегавших из дальних селений наблюдать, как мы ведем раскопки, за романтиков, проводящих у нас с лопатой в руках свой отпуск. Помню, что тогда в защиту археологической науки я произнесла страстную речь, а в заключение привела слова известного революционера Дмитрия Александровича Клеменца. После длительного заточения в Петропавловской крепости народоволец Клеменц был сослан в Сибирь на пять лет, но прожил там втрое больше. В Сибири он обрел вторую родину, друзей, стал ученым. Он занимался геологией, этнографией, археологией. «Уважение к прошлому страны, — говорил Клеменц, — все равно, что уважение к родителям. Общество, пренебрегающее этой обязанностью, стоит на уровне непомнящего родства. Общество, отказывающееся от издержек на охрану и изучение своей старины, указывает не столько на свою нищету материальную, сколько на нищету духовную. Издержки ничтожны для того, кто понимает важность старины и изучения прошлого, кто любит свою страну».Портреты из глины
Слухами, как говорится, земля, полнится. Сибирская земля сама порождала слухи. Русские поселенцы осваивали ранее не паханные земли, плуги разрушали сровнявшиеся с поверхностью почвы древние могилы. Крестьяне с пашен собирали обильный «урожай» бронзовых вещей: котлов, кинжалов, клевцев, зеркал, фигурок оленей. Эти вещи охотно покупали у них коллекционеры, Минусинский музей. Красота этих предметов привлекала многих. Редки были дома в Минусинске, где не нашлось бы какой-нибудь древней вещи. Кроме того, местные литейщики скупали доисторическую бронзу на вес и переливали на колокольчики. Известно, что какой-то зажиточный купец пожертвовал около 200 килограммов меди в церковь на колокол. Предметы из камня, — кости, глины обращали на себя внимание меньше, но и о них ходило много разговоров. В 1770–1772 годах на Енисее побывал Петр Симон Паллас, который в качестве профессора естественной истории при Академии наук возглавлял ученую экспедицию, снаряженную Екатериной II, в различные области Российской империи. В Сибири Паллас услышал о «живых лицах» — попадающихся в древних могилах — человеческих головах в натуральную величину, сделанных из материала наподобие фарфора. Эти рассказы выглядели фантастично. Однако позже легенда о «живых лицах» подтвердилась. Один крестьянин принес в Минусинский музей обломки глиняной маски человеческого лица, найденные в размытом кургане на берегу реки Абакан. В 1883 году на Тагарском острове у Минусинска А. В. Адрианов исследовал несколько курганов. В яме, обложенной бревнами в виде высокого сруба, лежали шесть скелетов, несколько десятков человеческих черепов, обмазанных глиной, горшки, стрелы, амулеты, деревянный ковш, одежда из бересты, но самое любопытное — двадцать глиняных масок. Некоторые из них отличались необыкновенным изяществом, имели узоры, нанесенные красной краской. Вслед за этими раскопками стали один за другим попадаться курганы с масками, вызывая живейший интерес научных кругов. Погребальные маски были известны в Египте, Месопотамии, Финикии, Карфагене, Кипре, Микенах, в южной России — в царских курганах у Керчи и Ольвии, а теперь вдруг и на берегах Енисея. Был ли это местный обычай, или же он занесен сюда из далеких стран? Прошли годы, накопился материал. Выяснилось, что маски появляются в могилах в III–II веках до нашей эры и исчезают в III–IV веках нашей эры. Обычай этот, по-видимому, местный. Маски не все одинаковы. Есть лицевые и маски-бюсты, портретные и условно передающие черты человеческого лица. Они часто раскрашены: синей, черной и красной красками нанесены спирали на лбу, висках, щеках. Узоры передавали татуировку или раскраску лиц похороненных людей. О назначении масок высказано немало предположений, подчас противоречащих одно другому. Перечислю наиболее существенные. Маску изготовляли, стремясь сохранить черты лица умершего, оставить нетленным его образ. Маска должна была помочь умершему благополучно достичь загробного мира, охраняя его от демонов, облегчить душе возможность отыскать тело, хотя бы и подвергшееся уже тлению, чтобы соединиться с ним для новой жизни. Маска была вместилищем души покойного, изготовлялась для того, чтобы во время путешествия в царство мертвых душа не заблудилась и не была похищена духами. Последнее было бы уроном для сородичей, поскольку, по их представлениям, души умерших вновь возвращались на землю, воплотившись в новорожденных. Маска предназначалась для «изоляции» умерших от живых, чтобы душа покойного не могла выйти из тела и не принесла вреда живым. Все гипотезы заслуживают внимания. Понять мировоззрение человека, жившего две тысячи лет назад, — нелегкая задача, и пока остаются в силе слова Д. А. Клеменца по поводу первых находок загадочных глиняных портретов: «Адрианов нашел много нового, маски, например, но честь будет не ему, а тому, кто объяснит, что это за маски».Загадки горы Оглахты
…Ранняя осень 1902 года. Моросит дождь, степь окутана туманом, от резкого ветра пригибает голову всадник. Неприятно в такое время в поле, но куда-то запропастился жеребенок, и Егор Какашкин из улуса Какашкина (ныне совхоза «Советская Хакассия») уже полдня скачет по горе Оглахте, всматриваясь в отдаленные темные точки. Вдруг под задними копытами коня земля осела. Конь пугливо метнулся в сторону. Слез Егор с коня. Подошел ближе. Подивился. То, на что наступил конь, оказалось потолком древнего склепа. Рухнул потолок под копытами, в земле зияло отверстие. Заглянул в него Егор, но влезть побоялся. О происшедшем он рассказал теще — Домне Ивановне Хубековой. Та, видно, была женщиной храброй и наслышанной о могильных сокровищах. Она проникла в склеп и увидела два скелета. Один, по ее словам, сидел на лавке, устроенной в могиле, его череп лежал на полу. Другой стоял в противоположном конце склепа как бы на коленях, прислонившись к лавке. На нем была глиняная маска, плотно прилегавшая к черепу. Домна сняла маску, под которой оказалась зеленоватая шелковая ткань, покрывавшая лицо покойника. На лавке нашла замшевый кошелек с кисточками и черепки горшка. На полу склепа валялось чучело человека, набитое травой, на чучеле — замшевая куртка. Чучело Хубекова оставила, а маску и кошелек снесла домой и продала за 15 копеек в соседний улус Егору Чебачакову, который долго потом показывал вещи любопытным, пока эти вещи не попали в руки археолога А. В. Адрианова. Не подобные ли находки стали источниками легенд о заживо погребенных в срубах хакасах? Через год А. В. Адрианов произвел раскопки могильника на горе Оглахте. В ямах стояли хорошо сохранившиеся срубы. Поверх гробниц толстым слоем лежала береста. Сохранились деревянные чаши, бочонки, черпаки, корытца, берестяные ведра, куски ткани. Но главные находки — части человеческих мумий, глиняные маски на лицах умерших, остатки погребальных кукол в рост человека. Они были набиты травой и наряжены в одежды из привозного китайского шелка. Спустя много лет вновь разнеслась весть об удивительной сохранности этого кладбища. Летом 1969 года московский археолог профессор Л. Р. Кызласов нашел здесь человеческие мумии и куклы в шубах и куртках с масками на лице, разную утварь. Сохранились вещи хорошо, хотя и пролежали они в земле две тысячи лет. Мы, конечно, тоже мечтали найти сохранившийся могильник этого времени в зоне водохранилища, в частности под горами Барсучиха и Тепсей. Встанешь на гору и видишь — весь ее склон испещрен небольшими впадинами» Так выглядит Оглахтинский могильник, так выглядят все кладбища I века до нашей эры. Копать было трудно. Каждая яма размером 3x3 метра и почти трехметровой глубины. Лето стояло дождливое, подтапливало наступающее море, отчего порой приходилось расчищать скелеты, стоя по колено в воде. Нам не повезло. Могилы оказались разграбленными, меховые и деревянные вещи не сохранились. Все же нашли много ценного: глиняные сосуды, маски, украшения. Особенно редкостной оказалась булавка с навершием в виде двух горных козлов. Это изящное, высокохудожественное изделие стало одной из редкостей Эрмитажа. Кроме того, в склепе под горой Тепсей профессор М. П. Грязнов обнаружил деревянные обугленные дощечки с рисунками, вырезанными острием, ножа. Изображены бегущие олени, лоси, медведь, волк, а также всадники, пешие воины с луком и стрелами, иногда в боевых доспехах. Они. бегут, стреляют, мчатся на конях, падают раненые. Представлены картины битвы, угона добычи, погони и другие композиции на темы героического эпоса и исторических повестей.Как бывают важны «мелочи»
Начальник нашей экспедиции Михаил Петрович Грязнов — известный ученый, крупнейший специалист по сибирской археологии. Он обладает удивительной наблюдательностью, подмечает детали, ускользающие от внимания окружающих. Взяв в руки глиняный горшок, он по едва заметным следам накипи определяет, варилась в нем каша или молочная пища, зарывали ли при варке горшок в золу или ставили на очаг. В пышном орнаменте сосуда разглядит мотивы аппликации одежды племени, а по кучкам человеческого пепла, смешанного с травой, установит, что пепел был положен внутрь манекена-куклы, заменяющей умершего. Умениевидеть «мелочи» позволило Михаилу Петровичу Грязнову однажды при раскопках на реке Кара-сук проникнуть в еще одну тайну — объяснить причину древнейших коллективных захоронений. Древнейшие кладбища, найденные пока на Енисее, относятся к концу III тысячелетия до нашей эры. Здесь тогда жили высокие люди, европеоидного облика, и пришли они сюда с запада. Селились небольшими поселками, пищу добывали охотой и рыболовством, но уже начали заниматься земледелием и разводить домашний скот. Умерших хоронили в больших ямах, которые перекрывали бревнами. Вокруг могилы сооружали круглую ограду. В могилах часто лежат по одному или по два скелета, но встречаются и такие, где похоронено пять-шесть и даже восемь человек. Как объяснить подобные коллективные могилы? Одно время ученые предполагали, что в них похоронен какой-то знатный человек со своими приближенными, которых убили, чтобы они сопровождали в загробном мире своего повелителя. Однако наши раскопки на реке Кара-сук установили полное социальное равенство людей, чьи останки покоятся в могиле. Дело в том, что обычно останки лежат в одной половине ямы, а в другой стоят вещи: остродонные глиняные сосуды для жидкой пищи, каменные орудия. Для всех погребенных клалась общая пища и общие вещи. Быть может, то убитые в бою воины? Но тогда были бы следы насильственной смерти: пробитые черепа, застрявшие в костях наконечники стрел. К тому же здесь похоронены не только мужчины, но и женщины, дети. А может быть, это жертвы эпидемий? Не исключено, но нашлось и другое объяснение. В одной из могил, где похоронено пять человек, расположение скелетов оказалось необычным: старая женщина и ребенок десяти лет лежали вдоль стенки ямы параллельно друг другу. Кости остальных были сложены аккуратными продолговатыми кучками. Кто и зачем их сложил? Вряд ли грабители: могила, по-видимому, была не ограблена, так как у двух черепов около ушного отверстия сохранились серебряные серьги. Разгадка была найдена после выяснения одной небольшой детали. М. П. Грязнов заметил, что у всех сложенных кучками скелетов недоставало многих мелких костей, а на тазовых костях, лопатках и ребрах заметны следы клыков собаки или волка. Отсюда он сделал вывод, что тела этих людей до погребения находились где-то в другом месте и были объедены собаками или волками. Позже кости сложили в мешки или узлы и в таком виде положили в могилу. При этом часть мелких костей была утеряна. Однако головы этих людей хранились отдельно и высушивались. Они остались совершенно целыми, сохранились даже серьги в ушах. Что же из этого следует? Обратимся к этнографии. Если человек умирал зимой, далеко в тайге, кеты клали его на пень срубленного дерева или на высокий помост-лабаз, а весной отвозили туда, где уже было несколько могил. Когда тундровые ненцы находились за сотни километров от своей родовой территории, умерших также зачастую не хоронили, а, завернув в берестяные «тиски» иди в шкуры, укладывали на нарты. Лишь весной, откочевав к северу, на свою родовую территорию, ненцы хоронили покойника на одном из кладбищ. Похожие обычаи существовали и у индейцев Северной Америки, которые во время праздника мертвых торжественно перехоронивали знатных людей племени.Древние жители Енисея, видимо, также хоронили мертвых разными способами, в зависимости от времени года. Было трудно зимой деревянными лопатами рыть окаменевшую землю. Легче завернуть труп в мех, тряпки и подвесить к дереву либо временно спрятать его в каком-нибудь другом месте, где на него посягали лишь голодные волки. Но вот приходила весна, а с нею голод, эпидемия, уносившие много людей, особенно подростков и детей. С новыми жертвами часто хоронили ранее умерших. Так возникали древние братские могилы.
Там, где работала крупнейшая в стране Красноярская археологическая экспедиция Ленинградского отделения Института археологии, теперь, после сооружения Красноярской ГЭС, располагается гигантское водохранилище. Но изучение истории племен, некогда живших на Енисее, не окончено. В степи Хакассии и Красноярского края будет приезжать еще не одно поколение археологов. Ведь здесь так много древних курганов, хранящих удивительные тайны — подлинные сокровища для науки.
Об авторе Вадецкая Эльга Борисовна. Родилась в 1936 году в городе Пржевальске. Окончила исторический факультет МГУ и аспирантуру Института археологии АН СССР. Кандидат исторических наук, сотрудник Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. Автор пятнадцати научных работ по археологии Сибири и научно-популярной книги «Древние идолы Енисея». В сборнике публикуется впервые. В настоящее время работает над монографией «Каменные изваяния эпохи бронзы Южной Сибири».
К очерку Э. Вадецкой «СКАЗЫ О ДРЕВНИХ КУРГАНАХ»


Вид «могильных» степей
Кладбище XIII в. до н. э.


Золотой кувшин из могил VII–VIII в. н. э. (раскопки 1936 г.)
Глиняный сосуд из могилы XIII в. до н. э.


Глиняная погребальная маска из могилы I в. до н. э.
Самые древние могилы Приенисейского края (ограда, внутри ее могилы)
Б. Леонов
К СОКРОВИЩАМ АЛЖИРСКОЙ САХАРЫ

Очерк Заставка худ. В. Найденко Фото автора
Услышав слово «Сахара», обычно представляют себе колоссальную песчаную пустыню, море песков, дюнных полей, с ним ассоциируются нестерпимый зной и мучительная жажда. В действительности же Сахара многолика и разнообразна. Отделенная от побережья Средиземного моря горными цепями Атласа и ограниченная на юге саваннами Судана, она включает в себя безжизненные каменистые равнины и плато — гамады, щебнистые пустыни — рэги, поля песчаных дюн — эрги и крупные горные массивы с вершинами, вздымающимися до 3000 метров над уровнем моря. В Сахаре бывают морозы, а ливневые дожди иногда вызывают настоящие бедствия. Здесь есть леса финиковых пальм, крупные поселения — оазисы. Недра богаты черным золотом — нефтью и другими полезными ископаемыми. Молодая Алжирская Республика именно в Сахаре видит базу своего экономического развития. Нам, группе геологов-экспертов из Советского Союза, было предложено ознакомиться с этой частью Алжира и дать свои рекомендации о необходимых геологических исследованиях и поисковых работах. Путешествие через Сахару начиналось от небольшого городка Тиндуф, расположенного на крайнем западе Алжира, там, где он граничит с Марокко, Испанской Сахарой и Мавританией. Путь лежал на восток, в глубь Сахары, или, точнее, Саары, как называют ее арабы. Маршрут поездки был разработан после тщательного изучения карт и описаний, когда мы долго пытались увязать почти несовместимое: желание увидеть как можно больше с реальными возможностями передвижения по Сахаре. Мы знали, что имеется хорошая автомобильная дорога от города Алжира до Тиндуфа, знали о существовании двух транссахарских магистралей, пригодных для передвижения на автомобилях, и ряда второстепенных дорог. Но вместе с тем мы отчетливо представляли себе, что дороги идут по наиболее доступным местам, а нам хотелось охватить маршрутом как можно большую площадь и не ездить дважды одним путем. На обзорных картах Алжира наше внимание привлекли несколько нанесенных штрихами дорог, идущих в широтном направлении, вдоль средней части Алжирской Сахары. Так возник план проехать от Тиндуфа на западе страны к Айн-Салаху, расположенному на основной транссахарской магистрали. Эти 2000 километров как будто обещали обстоятельное знакомство с Сахарой. Правда, на расспросы о том, возможен ли такой маршрут, нам отвечали: «Встретится много трудностей». Но соблазн был слишком велик, чтобы отказаться от этого плана. К Тиндуфу, как уже говорилось, от столицы ведет прекрасная дорога. Последний отрезок ее от Бешара, где располагаются каменноугольные копи, построен совсем недавно. К Тиндуфу подъезжали поздним вечером. В зимние дни (дело было в середине января) темнеет рано. Уже в шесть вечера звездами усыпано все небо. Из-за сухости воздуха они кажутся исключительно яркими. Едем в полной темноте. Кроме светлой полосы обочины, ничего не видно, но чувствуется, что дорога идет по очень ровной местности. Потом спуск, и показываются огни селения. В полосу света от фар попадают стены домов, заборы. Все из глины, желтовато-коричневого цвета. Тиндуф невелик, здесь нет гостиницы, и, видимо, проблема размещения на ночь беспокоит алжирцев, сопровождающих нашу группу. Автокараван долго стоит на небольшой площади среди лабиринта узких уличек. Идут длинные переговоры. В конце концов нас приглашают в какое-то строение. Со скрипом открывается массивная дверь. Мы попадаем в небольшой внутренний дворик, а затем и в дом. Тускло горит электрическая лампочка. Пол выстлан каменными плитами. Комната пуста, но вдоль стен располагаются невысокие возвышения, на которые положены тюфяки, покрытые очень тяжелыми покрывалами обычного здесь светло-коричневого цвета. Ткань украшена ярким геометрически правильным орнаментом. Мы развертываем наши спальные принадлежности и быстро засыпаем. Встаем около семи утра, когда блекнут звезды. На улице очень свежо, и, хотя мы почти в тропиках, теплые куртки весьма кстати. Мы осматриваемся. Тиндуф лежит в широкой котловине, врезанной в идеально плоскую равнину. Склоны круты, а местами просто обрывисты. Они увенчаны скалистым уступом известняков. Пласт известняка носит название известкового панциря и покрывает большие пространства. Кое-где видны останцовые вершинки, поверхности которых тоже как бы «бронирует» плотный пласт известняка. Перед домом, где мы ночевали, стоят четыре лендровера — английские автомобили повышенной проходимости. Это наиболее популярные в Северной Африке «работяги». Высоко поднятая труба с фильтром воздухозаборника, закрепленные на бамперах канистры с водой и бензином придают им весьма своеобразный вид. На бортах наших машин висят еще и бурдюки, сшитые из целых бараньих шкур, наполненные водой. Наша экспедиция организована солидно. Надо сказать, что в Алжире к Сахаре вообще относятся серьезно, и все, что связано с работой в пустыне, делается весьма добротно. Машины загружены лагерным снаряжением, продуктами питания. Передняя и задняя машины снабжены радиостанциями. Мы везем с собой газовую плиту, баллоны с газом, походную электростанцию. Стало совсем светло, поднимается солнце, но дует резкий северо-восточный ветер. Холодно. Подходит Ахмед Баба — организатор нашей экспедиции; Как и все, он в спецодежде, на нем ярко-синий хлопчатобумажный костюм, £ на ногах кеды тоже «повышенной проходимости» (с толстыми литыми резиновыми подошвами). У него характерная, свойственная арабам внешность: смуглое лицо, чуть вытянутый череп, черные, слегка курчавые волосы, темные, быстрые глаза. Он приветливо улыбается и начинает быстро говорить. Месье Баба рад видеть нас бодрыми и готовыми к путешествию, но, к сожалению, отряд пока задерживается из-за некоторых формальностей. К тому же надо получить дополнительный грузовик для перевозки бензина и воды, так как до следующего пункта, где мы сможем пополнить запасы, почти 1500 километров. Конечно, мы больше догадываемся, чем понимаем, о чем он говорит. Но надо сказать, что при большом желании объясниться нашего более чем скромного французского словарного запаса, десятка арабских слов и примерно того же количества русских слов, которые знал месье Баба´, как правило, вполне хватало (конечно, при условии, что в случае необходимости переводчик устранит все неясности). Используя вынужденную задержку, геологическая часть нашей группы отправляется изучать известковый панцирь. Карабкаемся по склону. В нижней его части обнажаются рыхлые розовато-серые глины и мергели, а вверху выходит мощный пласт светлого известняка. Отбить образец оказывается нелегким делом. Сливная очень плотная порода только звенит, а геологический молоток отскакивает от нее, как от наковальни. Такая прочность обычно свойственна очень древним породам, возраст которых исчисляется сотнями миллионов лет, а тут продукт почти нынешней геологической эпохи. Эта плотная корка возникла за счет привноса извести поднимающимися к поверхности водами. На поверхности плато находится множество обломков того же известняка. На сотни километров может простираться подобная каменистая пустыня, носящая название гамады. По гамаде пролегает наш дальнейший путь. План в общих чертах таков: от Тиндуфа следовать на юг в район железорудного месторождения Гара-Джебиле, далее посетить плато Эль-Эглаб, где выходят древнейшие архейские породы, побывать у источников Авинет-Легра, Шенашан, Бу-Бернус. Потом предполагалось пересечь Эрг Шеш, попасть на останцовый скальный хребет Кахаль-Табельбала и в районе оазиса Адрар выбраться на транссахарскую дорогу. Длинное, сложное путешествие. Зимние дни коротки, предстоит много работы, да и само передвижение, видимо, займет много времени. Из Тиндуфа выехали поздно. Но зато с нами движется грузовик с водой и бензином. Наш проводник — житель Тиндуфа, очень симпатичный араб с живым, выразительным лицом и мягким голосом. Он очень хорошо знает район. Хочет быть по-настоящему полезным экспедиции. Он без труда показал по карте «дорогу» от Тиндуфа на Гара-Джебиле. Причем показанное им направление оказалось более близким к действительному, чем линия дороги, нанесенная на карту топографами. Вообще говоря, понятие «дорога» здесь весьма относительно. Скорее оно означает, что между такими-то пунктами можно проехать. При этом, оказывается, необходимо миновать поля движущихся песков, скалистые обрывы, солончаки. На трудных участках следы автомашин жмутся друг к другу, а там, где проехать легче, разбегаются по большой площади. Наш путь идет по плоскому каменистому плато, где автомашина может развить скорость шестьдесят — восемьдесят километров в час. Плато пересекают уэды — ложбины, по которым после ливней стекает вода. Здесь начинается тряска, и стрелка спидометра не уходит от цифры 10 или 20. Голо, растительности нет. Лишь местами встречаются клубки ксерофитов, напоминающие серо-зеленых ежей, и очень редко в понижениях видны маленькие деревца песчаной акации. Дует сильный ветер, лицо обжигают уколы песчинок. Становится понятным преимущество несколько неуклюжих, сшитых в виде широких халатов арабских бурнусов, в которые можно плотно закутаться, не оставив песку никаких лазеек. Непременной принадлежностью одежды является и шеш. Это полотнище длиной в два-три метра, которым наподобие чалмы обертывают голову и закрывают шею, щеки, нос. Остается только узкая щель для глаз. Излюбленный цвет шеша — синий. Бурнусы обычно коричневые или серые. Бурнусов у нас нет, но шеши закрывают наши физиономии. Машины движутся на юго-запад, к плато Эль-Эглаб. Местность чрезвычайно однообразна. Пятьдесят, сто, двести километров тянется плоская равнина, выстланная щебнем. Ни травинки. Монотонный серо-желтый, колорит. Водители выбирают дорогу так, чтобы не попасть в пыльный шлейф идущей впереди машины. При таком однообразии пейзажа трудно ориентироваться не только в пространстве, но и во времени. Как-то неожиданно темнеет. Проводник уверенно ведет дальше, и мы достигаем брошенной французской базы Гара-Джебиле, с которой велись геологические работы в 1957–1965 годах. В пустыне несколько низких длинных домов, собранных из металлических листов. В самом большом доме зал, видимо бывшая «кают-компания» и столовая, а также целая анфилада маленьких индивидуальных комнат: одно окно, столик, койка, умывальник, душ. В других строениях помещения для камеральных геологических работ, механические мастерские, электростанция. База, так же как и форты, окружена проволочными заграждениями. В благодатном климате Сахары металл долго не ржавеет. Мы быстро освоили заброшенные помещения, а потом собрались в главном зале. На стенах картинки с видами Франции стойка бара, огромная бочка для напитков более крепких, чем вода, холодильники. Наш повар орудует на кухне. Пущена в ход электростанция, и в голой пустыне стало вполне уютно. А за стеной грохочет жестяными листами ветер, тонкая песчаная пыль сочится в окна — Сахара. Небо черно и звездно. В следующие два дня по утрам выезжаем с базы на двух лендроверах в геологические маршруты, вечером возвращаемся. Дни насыщены до предела, впечатлений масса. Лишь далеко за полночь удается привести в порядок необходимые записи, а на рассвете мы уже вновь на колесах. Вначале решили осмотреть железорудное месторождение. За день проехали не менее сотни километров. Пласты черного с вишневым оттенком гематитового железняка выходят на поверхность. Везде развалы обломков тяжелой коричневато-черной руды. Это огромное природное богатство оставляет большое впечатление. Мой коллега геолог Владимир Александрович Фараджев с упоением отыскивает уникальные образцы руд: массивный гематит с крупными блестящими кристаллами, своеобразные натечные формы в виде шарообразных вздутий, отчетливо слоистую или столбчатую породу. Из-за непрерывного перемещения песчинок, влекомых ветром, на поверхности обломков иногда возникают скульптурные формы, поражающие изяществом и сложностью рисунка. Сначала едем вдоль бровки плато, по тяжелой рудной плите. Затем находим спуск вниз и движемся вдоль подножия уступа. Вдруг шофер что-то говорит и показывает вперед. Обе машины резко сворачивают влево и, прибавив скорость, мчатся на юг. Впереди метрах в пятистах изящными широкими скачками несутся две газели. На спидометре «60», но животные легко уходят от нас. Прибавив газу, начинаем их нагонять. И вот газели совсем близко от машины — две небольшие козочки, менее метра высотой, с точеными головками, увенчанными небольшими рожками. Удивительно нежная светло-палевая окраска корпуса, почти белое брюшко и темные пятна у глаз. Газели легко вскидывают свои длинные тонкие ноги и скачут, едва касаясь земли. Шофер, негр Фужима, улыбается, довольный тем, что сумел показать нам интересное. Разворачиваемся. Не исключено, что в пылу погони мы проехали где-то вблизи государственной границы Мавритании. Но никакими осложнениями это не грозит — места абсолютно безлюдные. Возвращаясь к краю плато, берем курс на своеобразное одинокое строение. Издалека оно кажется крошечным. Вблизи это сооружение оказывается высотой с добротный пяти-шестиэтажный дом и напоминает элеватор для зерна. Это корпус обогатительной фабрики, построенный французами перед самым началом освободительной войны в Алжире. Фабрика не эксплуатировалась. Внутри помещения гуляет ветер, хлопают и скрипят листы железа, которыми обшит корпус. Оборудование фабрики в хорошем состоянии и, видимо, еще послужит своим новым хозяевам.

На месторождении Гара-Джебиле исключительно удобные горногеологические условия для разработки железной руды. Запасы ее велики и оцениваются цифрой в два — два с половиной миллиарда тонн. Качество руды высокое, чистого металла в ней 55–60 процентов. Но освоение месторождения представляет очень большие трудности. Безлюдье, отсутствие воды и топлива, а главное — сложности транспортировки. До экономически развитых районов страны, до морских портов — более полутора тысяч километров. Следующий день был посвящен осмотру золоторудного проявления в районе источника Авинет-Легра. Место проводника занял человек огромного роста (в пустынной части Алжира вообще много высокорослых людей) в сером бурнусе и черной чалме. Он еле поместился в кабине автомобиля. Свою каменистую пустыню наш проводник знал «назубок». Километров двести ехали мы по бездорожью, как нам казалось, без каких-либо ориентиров. Но отыскали среди необозримых однообразных пространств небольшую горную выработку — канаву, секущую кварцевую жилу с золотом. Золото, что мы видели, особой ценности не представляет. Хотя содержание этого металла в породе богатое и его тонкие пластинки можно было различить невооруженным глазом в кусках кварца, но сама жила очень невелика и лишь свидетельствует о наличии золотоносных пород в этом районе. Наш геофизик Борис Романович Юманов отобрал серию литохимических проб, чтобы определить наиболее рациональные методы поисков. Целый день осматривали выходы древнейших горных пород, относящихся к цоколю Африканского материка. В геологической литературе эта область известна под названием Регибатского щита. Обычно щиты (то есть площади, где на поверхность выходят древнейшие кристаллические породы) представляют собой возвышенности, здесь же это обширные равнинные пространства. Наш путь долго шел по гранитному массиву, сплошь закрытому обломками и мелкой дресвой разрушенной породы. Такие области, где оглаженные выходы коренных пород сменяются россыпями их обломков, в Сахаре носят название рэгов. Голо, лишь местами можно заметить небольшие стебельки трав. На глубине полуметра песок влажный. Возможно, ближе к весне пустыня слегка зеленеет. Днем тепло. Можно снять рубашку, загорать. Источник Авинет-Легра — это маленький оазис в пустыне, пожалуй, именно такой, какими нам представляются оазисы. Это группа финиковых пальм (два-три десятка деревьев) у небольшого ключа. Вода бьет из-под земли, стекает по лотку в небольшой бассейн и далее иссякает в песке. Близ бассейна полузасыпанный песком глинобитный забор, а рядом сложное сооружение из ящиков и полотнищ, в котором находит временное прибежище семья кочевников, пасущих небольшое стадо верблюдов и черных длинношерстых коз. Этот островок жизни в пустыне виден издалека. От Гара-Джебиле мы двинулись на восток через Эль-Эглаб к источнику Шенашан близ границы Алжира и Мали. В дорогу тронулись все четыре лендровера и большой дизельный грузовик с запасами воды и бензина. Нас сопровождают три проводника, знающие на Эль-Эглабе решительно все. Постепенно привыкаем друг к другу. Незнание языка почти не мешает. Я хорошо усвоил несколько слов, необходимых для руководства движением («прямо», «направо», «налево», «остановитесь»), трогаемся же в путь под команду «по-е-ха-ли!», которую знают все. Народ веселый — шутки и смех не смолкают. Особенно любит разыгрывать своих товарищей шофер Хач. Великолепна белозубая улыбка негра-шофера Фужимы, который пользуется особым уважением за свой большой опыт работы в Сахаре и веселый характер. Иной раз этому долговязому парню хочется побегать, и он устраивает кросс вокруг лагеря на полтора-два километра. В нашем интернациональном коллективе есть и француз — геолог Пьер Рифо. Он родился в Алжире и недавно окончил Алжирский университет. Студенческие песни, которые он поет вместе с Ахмедом Баба, вносят немало веселья. Несколько дней мы работаем на плато Эль-Эглаб и постепенно двигаемся в восточном направлении. Ландшафты — каменистая пустыня. Поверхность плоского плато здесь разнообразится отдельными останцовыми вершинами и даже целыми хребтами в десятки километров длиной и высотой в двести — четыреста метров. Хребты скалисты, совершенно голы. В долинах вдоль сухих русел иногда видны отдельный деревца песчаной акации. И все-таки это наиболее обжитые места — на площади в несколько десятков тысяч квадратных километров кочует несколько семейств с небольшими стадами верблюдов. На своем пути мы дважды встречали кочевников. Верблюды, презрительно оглядев нас, величавой походкой удалялись в сторону, а люди приветливо здоровались. При этом чувствовалось истинное человеческое доброжелательство. Здесь, на Эль-Эглабе, пришлось узнать, что такое эрг. Пересекли Эрг Игиди — целую полосу песчаных гряд высотой до ста — ста пятидесяти метров и шириной от километра до двух-трех. Гряды разной высоты и несут на себе пирамидообразные песчаные вершины с резко очерченными ребрами, гранями. Песок имеет ярко-оранжевый цвет. Межгрядовые понижения лишены песка. Это голая, сплошь каменистая равнина с выходами коренных пород. Она многоцветна, так как усеяна обломками серых и розоватых гранитов, зеленоватых гранодиоритов и почти черных базальтов. У окраины песков появляется скудная растительность. Здесь растут небольшие округлые кустики с жесткой мелкой листвой. Небо всегда безоблачно, днем очень тепло, по ночам прохладно. Чувствуется, что в пустыне начинается весна — кое-где пробивается свежая травка, на кустиках появляются сочные листики. Видели муравьев, бабочек, саранчу (все это среди голых камней), много мух. Распорядок дня у нас твердо установился. Встаем на рассвете. Завтрак, как это принято у арабов, ограничивается маленькой чашечкой крепкого кофе. Общими усилиями быстро свертывается лагерь, и примерно через час после подъема машины уже бодро пылят по целине. Начинается работа: остановки у обнажений горных пород, подъемы на останцовые вершины, отбор образцов, записи наблюдений. «Обеденного перерыва» все ждут с нетерпением. Трапеза не отличается особой изысканностью, но, учитывая зимнее время, весьма привлекательна. Это помидоры, свежий вареный картофель, сладкий лук, сардины и обязательно сыр. На десерт мандарины или апельсины. А далее снова почти до темноты работа, потом разбивка лагеря. Сообща ставим палатки. В центре лагеря под открытым небом появляются стол, стулья. Походная электростанция исправно дает свет. Повар готовит сытный ужин. После еды приходится возиться с образцами и записями. В конце третьего дня пути по Эль-Эглабу достигли источника Шенашан. В узкой щели сухого уэда — выход подземного источника. Около него пышно разросшаяся группа финиковых пальм. Но вода сильно минерализована и для питья непригодна. Зато помыться можно. Режим экономии воды у нас был установлен уже по выезде из Гара-Джебиле, и поэтому купание «даром» оказалось очень кстати. От Шенашана начался наиболее сложный этап пути. Предстояло пересечь песчаный массив Эрг Шеш и выехать на транссахарскую магистраль к Адрару. В Шенашане остались грузовик, везший бензин и воду, и проводники. Дальше они не знали местности. Получилось так, что, пока ездили по сравнительно доступному Эль-Эглабу, нас надежно опекали проводники, а когда предстояло выехать в пески, пришлось полагаться на собственные силы. Выяснилось, что и алжирцы наши не имеют определенных сведений о дальнейшем пути. Ситуация осложнялась тем, что если бы мы не сумели найти дороги к Адрару, то на возвращение к Тиндуфу бензина бы не хватило. В нашем распоряжении были хорошие топографические карты Французского географического института. Во время работы на Эль-Эглабе мы убедились в их точности. И вот теперь, перед выездом из Шенашана, все наши надежды на успех были возложены именно на них. Мы в деталях изучили этот десяток белых листов, на которых в сетке географических координат были нанесены песчаные гряды, сухие русла уэдов, солончаки, брошенный форт Бу-Бернус, один колодец и в семистах километрах к северо-западу от Шенашана транссахарская магистраль. Естественно, что наибольшее внимание привлекли дороги и тропы. Но далеко не все в этом отношении было понятно. От Шенашана к Бу-Бернусу на карте вела грунтовая дорога, далее к горам Кахаль-Табельбала были показаны лишь отдельные отрезки дороги, разделенные промежутками в десятки километров. При этом отдельные участки дорог замысловато извивались, и не было ясности, одна ли это дорога или части разных дорог. План передвижения разрабатывался долго и достаточно бурно. Борис Романович как человек решительный предлагал двигаться по возможности прямо, используя понижения между песчаными грядами. Владимир Александрович и я считали более правильным и надежным по возможности следовать отрезкам дорог, нанесенным на карту, полагая, что все разрозненные отрезки так или иначе соединяются друг с другом. Окончательное решение надо было принять уже в пути. При выезде из Шенашана место во главе автокаравана занял наш лендровер, а единственным проводником стала географическая карта. До Бу-Бернуса доехали благополучно. Дорога была достаточно заметна, а в сомнительных местах обозначена вехами. Но мы сознавали необходимость все время точно ориентироваться. В песках или на солончаках ничего не стоит потерять едва намеченную колею. Поэтому, взявшись за штурманское дело, я весь день не отрывался от карты и облегченно вздохнул только тогда, когда вдали показались очертания форта Бу-Бернус. Когда-то он был одиноким французским фортом на южной окраине песчаной пустыни. Вокруг песчаное море Эрг Шеш, полнейшее безлюдье на сотни километров. Форт стоит в широкой долине между двумя высокими дюнами. Это настоящие горы песка высотой сто пятьдесят — двести метров ярко-оранжевого цвета с пирамидальными вершинами. Это огромные массивы рыхлого сыпучего песка. Понижение между песчаными грядами занимает совершенно плоская каменистая равнина. В центре ее в виде сухого озера солончак — яркая белесо-зеленая низина с крутыми склонами. Стены форта поднимаются прямо над ними. В целом создается изумительно красочная картина: на переднем плане зеленоватая светлая гладь солончака, далее темный уступ и на нем красновато-коричневая полоса стен форта с белой башней, далее золотисто-оранжевая гряда песков с пиками вершин и, наконец, яркое синее небо. Полная тишина. Форт старый, с высокими зубчатыми стенами и бойницами. В плане он четырехугольный. В центре фронтальной стены башня — церковь с колокольней, напоминающей минарет. Внутри форта квадратный двор. В северо-западной стене большие открытые ворота. К крепостным стенам примыкают жилые постройки в виде келий-камер, в которых жили французские солдаты. Сейчас здесь пусто. Свой лагерь мы разбили во дворе крепости. Поражает полное отсутствие песка. Рядом гигантские гряды, горы сыпучего песка, но ни в долине, ни у форта его нет. В полукилометре источник — небольшое углубление, прикрытое досками. Около него две финиковые пальмы. Вот и все. Не случайно, вероятно, на стенах помещений, в которых жили солдаты, своеобразная «настенная живопись»: излучины реки, яхты, лодки. Отчетливо представляется жизнь в оторванном от мира форте среди камней, леска и солнца. Форт отлично гармонирует с пустыней, подчеркивая заброшенность этих мест. Тихая теплая ночь. Небо совсем черное, с яркими звездами. Большой Медведице как-то не хватает места на небосводе, и над горизонтом видна лишь ручка ее ковша. Полярная звезда совсем низко. Во дворе крепости ровно стрекочет движок. Еще раз внимательно просматриваем по карте предстоящий завтра путь через Эрг Шеш. Еще в темноте машины уходят к источнику пополнить запасы воды, и на рассвете мы покидаем этот отчетливо запомнившийся нам кусочек сахарской земли. От Бу-Бернуса едем на север к горам Кахаль-Табельбала. Это массив древних останцовых гор, рассекающих поперек пески Эрг Шеш. Надеемся под прикрытием скальных возвышенностей преодолеть песчаную пустыню. Теперь начались настоящие пески. Эрг Шеш, вероятно, одно из самых примечательных мест на земле. Высота песчаных гряд достигает здесь двухсот пятидесяти — трехсот метров. Это настоящие песчаные горы. Отдельные гряды тянутся непрерывно на сто, двести километров, ширина Эрг Шеш — двести-триста километров. Он состоит из многих десятков гряд, вытянутых параллельно друг другу в направлении с северо-востока на юго-запад. Слово «горы» как-то не очень вяжется с понятием песчаной пустыни. Но это настоящая горная страна с высокими грядами — хребтами и разделяющими их широкими долинами. Гряды несколько более узки, чем межгрядовые понижения, у них зазубренные гребни и своеобразные острые грани на склонах. Местами дюны пересечены поперечными понижениями, но почти нигде они не рассекают гряд до основания и поэтому, как правило, непроходимы для автомашин. По межгрядовым понижениям можно двигаться легко и быстро, так как они лишены сыпучих песков, но, к сожалению, время от времени песчаные гряды смыкаются друг с другом и образуют непроходимые песчаные перемычки. Поэтому дорога сложно петляет, приноравливаясь к тем немногим сквозным проходам, которые позволяют попасть из одного понижения в смежное с ним. Двигаемся вперед успешно, помогают отлично составленные карты. Даже в поле бесконечных и однообразных дюн топографы сумели передать детали, дающие возможность очень точно определяться на местности и быть уверенными, что с дороги не сбились. Здесь, видимо, несколько раз проходили колонны автомашин. Местами проезжая полоса отчетлива, местами сохранились едва приметные следы. И наконец, внешние признаки дороги исчезают, когда приходится покидать межгрядовые долины и, используя поперечные понижения, форсировать гряды. Выбираем участки, где песок из-за сильных ветров уплотнен и держит автомашину. Правда, при этом надо двигаться не останавливаясь. А ведь далеко не всегда можно определить, в каком направлении держать путь, но остановиться, осмотреться нельзя. В двух местах пески форсировали удачно. А в третий раз, следуя как будто по центральной части сквозного понижения, наша машина зарылась в песок и остановилась у самого края огромной котловины. Машину удалось вытащить, а затем отыскать проезд близ склона песчаной гряды. О том, что мы на правильном пути, свидетельствовали брошенные металлические решетки, которые, вероятно, укладывались под груженые машины. Лендроверы проходят без решеток. Итак, миновали еще одну преграду. Наши спутники, серьезные в трудных местах, вновь веселы, улыбаются, что-то поют. Все с восторгом воспринимают команду завтракать. Во второй половине дня из-за песчаных дюн показалась высокая темная гряда каменистых громад Кахаль-Табель-бала. У геологов появляется работа. Надо осмотреть выходы древних песчаников, определить характер их залегания. Сверху хорошо видно, как узким черным клином каменистая гряда врезается в поле золотистых песков. Следы автомашин здесь теряются совершенно, но мы решаем двигаться вдоль границы песка и камней, так как только здесь есть шансы пробиться на восток. Видимо, мы не первые подумали об этом и через несколько десятков километров встретили следы прошедших здесь же автолюбителей. Потом мы узнали, что нашим путем последний раз автомобили прошли семь лет назад (а следы хорошо сохранились!). Очень живописный пейзаж: оранжевые пески, коричневые скалы, бледно-зеленые солончаки и синь неба. За день прошли 280 километров. Остановились на ночь среди огромной каменистой равнины у гор Джебель Уэд-Сиди (восточные отроги Кахаль-Табельбала). Здесь на многие километры тянутся остатки древних хребтов. Собственно, хребет Уэд-Сиди — это узкая гряда, шириной всего в километр, но вытянутая на 50 километров. И всюду только камень. Ни кустика, ни травинки. Сухие русла, в которых, кажется, никогда не бывает воды. Лагерь разбили без какого-либо укрытия. Но ветры щадят. Появилась уверенность, что наш прорыв на восток удастся. На следующий день вдоль подножия хребта движемся быстро — 50, 60 и даже 70 километров в час. Не обошлось и без серьезных препятствий. В одном месте пришлось форсировать сыпучие пески. Правда, полоса песков здесь оказалась неширокой — не более сотни метров, но застрять можно и в ней. Наши водители, разогнавшись на твердом грунте, эффектно проскакивали препятствия. Первым, как всегда, был негр Фужима. Более трудным оказался следующий участок пути. Колея дороги начала постепенно забиваться песком, потом появились песчаные «сугробы», а затем поперек дороги встали барханчики высотой до двух — двух с половиной метров. Начались объезды. Засыпанную песком дорогу проследить очень трудно, тем более что остановиться нельзя, так как тронуться с места в песке невозможно. Вскоре дорога бесследно исчезла. Мне только и оставалось показывать водителю общее направление, а он вел машину через песчаные гряды и появившийся неожиданно мелкий кустарничек. Местами машина продавливала рыхлую корку солончака. Местность казалась непроходимой, но машина шла не останавливаясь, а за ней двигались и три других лендровера. Наконец, мы вырвались на плоскую каменистую равнину и с облегчением вздохнули, хотя и не очень представляли, где находится потерянная дорога. Впрочем, проявив настойчивость, мы вновь отыскали ее и быстро поехали на восток. Песчаные гряды скрылись на западе за горизонтом, а впереди показалась темно-зеленая полоса. Не мираж ли это? После многодневной жизни в голой пустыне не верилось, что это лес. Но это действительно оказался лес финиковых пальм. Он тянется на две с половиной сотни километров в виде полосы шириной в несколько километров. Это почти сплошная полоса оазисов с поселениями Керзаз, Сба, Адрар, Регган. Здесь много культурных плантаций, но есть участки естественного леса. Деревья стоят среди песка. Нижние части стволов обычно засыпаны, но деревья упрямо тянутся вверх и не сдают своих позиций. Показалось первое селение, состоящее из глинобитных построек, а затем наши заслуженные автомашины вышли на асфальт первой транссахарской магистрали, идущей здесь от Бешара к Адрару. Трудно передать радость водителей, вырвавшихся из сахарского бездорожья на надежное полотно дороги. Физиономии их сияли, кто-то исполнил замысловатый танцевальный пируэт, а особенно экспансивный Хач поцеловал теплый асфальт шоссе. Затем подъезжаем к Адрару. Это небольшой городок — оазис в Сахаре. Для нас Адрар новый необычный тип поселения. Прежде всего своеобразен цвет глинобитных построек — все они коричнево-красные разных оттенков: бордовые, кирпично-красные, терракотовые. Бросается в глаза очень нарядный вид домов. Вероятно, много делается в расчете на туристов. В центре городка огромная квадратная площадь. Основную часть ее занимает парк. С трех сторон к площади примыкает высокая живописная стена с нишами. За ней расположены жилые дома, лавки и другие строения. С четвертой стороны на площадь выходят наиболее красивые здания: мэрия и другие государственные учреждения, гостиница. Эти здания также глинобитные, но очень представительны. Главная их архитектурная особенность — своеобразные башни. Они широки в основании и, постепенно закругляясь, сужаются кверху. Дверные и оконные проемы имеют форму сводов. Чуть в стороне базар — сравнительно небольшая площадь, огороженная забором. Примерно половина ее отведена для торговли скотом, в основном это длинношерстые и длиннорогие козы. На второй половине — мясо, овощи, фрукты. Близ входа женщины продают кустарные бусы, искусно собранные из бисера подвески. После двухнедельного путешествия в пустыне с большим удовольствием принимаем душ в отеле «Джамилия». Вместе с сахарской пылью уходит усталость. Вообще кажется, что сухой и чистый воздух просто живителен. Ведь дни проходили в напряженном труде, ночной отдых был очень короток, а по утрам мы вставали свежими и бодрыми. Адрар живет на подтоке подземных вод. Они поднимаются по контакту древних палеозойских и более молодых мезозойских пород. В Адраре сложная система колодцев, обеспечивающая нужный расход воды и поддерживающая уровень грунтовых вод на необходимом горизонте. Шеренги колодцев, расстояние между которыми всего пять — десять метров, проходят через весь город. Ливневые дожди страшны для глинобитных построек, но выпадают не чаще чем раз в пять — семь лет. Из Адрара мы едем на вторую, главную транссахарскую магистраль к селению Айн-Салах. Это еще примерно пятьсот километров пути по Сахаре. Правда, прежних трудностей здесь уже нет. От Адрара через Регган (городок в ста километрах к югу) к Айн-Салаху идет вполне проезжая дорога. Места и здесь удаленные, диковатые, но по сравнению с Эль-Эглабом или Эрг Шеш вполне цивилизованные. Айн-Салах стоит на магистрали, идущей от города Алжира через главные оазисы Сахары — города Лагуат, Гардая, Эль-Голеа на Ахаггарский горный массив и далее в государство Нигер. Добравшись до Айн-Салаха, мы выполнили свое основное задание и могли бы возвращаться в Алжир. Однако нам хотелось осмотреть легендарный Ахаггар, находящийся в тысяче километрах отсюда. Месье Баба вежливо улыбнулся, услышав просьбу, и… согласился. Нам предстояло увидеть горную Сахару. Ведь отдельные вершины Ахаггара[22] поднимаются до 3000 метров над уровнем моря. Подобно Эль-Эглабу он представляет собой часть кристаллического щита, носящего название Туарегского. На поверхность здесь выходят древнейшие породы, слагающие центральную часть горного массива, на которую по краям налегают пласты более молодых пород. Это высокие гряды, обращенные крутыми склонами к центру горной страны, они придают особое своеобразие местности, носящей название Тассилин-Ахаггар. Особенно грандиозны гряды и обрывы на востоке и северо-востоке. В этой области были обнаружены пещеры с изумительной живописью на стенах — знаменитые фрески Тассили. К сожалению, у нас не было возможности добраться до этих мест. Та часть Тассилин-Ахаггар, которую пересекала наша дорога, менее выразительна, хотя и здесь шоссе несколько раз уходит в узкие ущелья. Они увенчаны отвесными скалами. Горы черные, коричневые, иногда склоны присыпаны красноватыми песками. Но все это лишь периферия, обрамление Ахаггара. Когда же наши машины попадают в ту местность, где на поверхность выходят кристаллические породы, дорога идет по узким долинам, прилипая то к одному, то к другому склону, а над ней нависают скальные обрывы розовых гранитов, вишневых андезитов, зелено-черных габбро. Вот машины вырываются на открытое пространство. На десятки километров тянется плато, полого поднимающееся к югу. Среди почти плоской равнины вздымаются руины древних горных сооружений: отдельные гряды, конусообразные, столбообразные вершины, поля глыб-обломков. Здесь фантазия природы проявилась в полной мере. Отдельные глыбы напоминают фигуры людей, другие — своеобразные строения, третьи — зверей. Можно увидеть льва, филина, носорога, кабана. По мере приближения к центру Ахаггара растет высота. Вершины поднимаются на две-три тысячи метров над уровнем моря. Здесь они покрыты базальтовыми лавами — очень молодыми образованиями с геологической точки зрения: им всегонесколько десятков тысяч лет. Черные потоки застывшей лавы навечно заковали долины. Вода по ним стекает не часто, хотя в Ахаггаре зимой иногда выпадают дожди и даже снег. Как правило, все долины совершенно сухи. На всем пути мы не видели ни струйки текущей воды. Но видимо, существует скудный подземный сток, так как по долинам местами встречаются небольшие заросли кустарников, деревца акации, пучки травы. На вершинах лавовые покровы сильно расчленены и образуют бастионы, пики. Эти горы голы, безжизненны. Примерно в ста километрах к северу от города Таманрассета, центра Ахаггара, у обочины дороги стоит щит с черным силуэтом Африканского материка, пересеченным в северной части прямой белой линией. Надпись гласит: «Tropique du Cancer» — тропик Рака. Таманрассет — большой оазис в центре Ахаггара. Здесь еще и сейчас живут туареги — племя гордых кочевников, дольше всех сохранявших независимость. Это очень крупные, стройные люди. Рост в 190 сантиметров здесь не редкость. Даже мужчины не открывают лица и носят голубые или синие повязки. Строения в Таманрассете, как и повсюду в Сахаре, глинобитные. Много зелени, есть сады. Сейчас этот город привлекает туристов. Сюда летят на самолетах, едут на автомашинах. Таманрассет — конечный пункт нашего путешествия. Отсюда мы возвращаемся в столицу.
Об авторе Леонов Борис Николаевич. Родился в Томске в 1920 году. Окончил географический факультет МГУ, кандидат географических наук. С 1943 года работает в геологических экспедициях в горах Средней Азии, в пустынных районах Приаралья и больше всего в Сибири. Участвовал в работах по открытию сибирских алмазов, является одним из авторов монографии «Алмазы Приленской области». Им опубликовано свыше сорока научных статей и сообщений, посвященных главным образом геологии и географии Сибири. В 1968–1969 годах в составе группы советских геологов-экспертов посетил Алжирскую Народно-Демократическую Республику, где проделал ряд геологических маршрутов. В нашем сборнике публикуется впервые.
К очерку Б. Леонова
«К СОКРОВИЩАМ АЛЖИРСКОЙ САХАРЫ»


Селение Тиндуф, расположенное в долине сухого узда, — отправная точка путешествия через Сахару
Плато Гара-Джебиле. Экспедиционные машины стоят на пласте железной руды. Пласт мощностью 10–20 метров протянулся на десятки километров. Кругом полное безлюдие


Эрг Шеш. Песчаная пустыня. Экспедиция форсирует одно из понижений между крупными песчаными грядами. Царство песков. До ближайшего населенного пункта более 500 километров
Лес финиковых пальм, вытянутый полосой вдоль зоны подтока подземных вод. Арена нескончаемой борьбы растительности и песка


Город Адрар — оазис в пустыне. Очень интересен своеобразный стиль построек, сделанных из красно-коричневых глин. На фотографии гостиница «Джамилия», место отдыха экспедиции после прорыва через пески.
Оазис Гардая на дороге Алжир — Таманрассет. Жилые строения лепятся по склонам останцовой возвышенности. Наверху в виде башни — мечеть
В БРАТСКОЙ БОЛГАРИИ
Фотоочерк
Болгария… Ласковые черноморские волны и золотистый песок всемирно известных пляжей, живописные лесистые вершины гор, красота древних храмов и неповторимая прелесть старинных городов, тонкий аромат плантаций роз и тяжелые гроздья винограда, налитые соком крутобокие томаты, душистый табак и багрянец знаменитого болгарского перца… Но разве только это характерно для прекрасной страны, в которую устремляется поток туристов со всего света? Новь социалистической Болгарии взметнула ввысь громады новостроек — промышленных гигантов, теплоэлектростанций, рудников. Бурно развивающееся сельское хозяйство отличается высокой технической оснащенностью. Большую помощь от государства получило плодоовощное хозяйство, благодаря широкой системе мер гидромелиорации — построено много водохранилищ, каналов, плотин. Это позволило Болгарии выйти в ряды мировых экспортеров многих высококачественных сельскохозяйственных продуктов. Расцвет социалистической культуры и науки Болгарии — общепризнанное достижение народной власти. Болгария давно стала страной сплошной грамотности и по количеству студенческой молодежи занимает одно из первых мест в Европе. Болгарские ученые штурмуют высоты современной науки… Предлагая читателю краткий фотоочерк о нашем южном соседе, мы понимаем, что глаз фотообъектива не мог охватить всех сторон кипучей жизни Болгарии, но и помещаемые здесь снимки дают наглядное представление об этой чудесной стране.

Уборка роз в селе Игнатово Пловдивского округа.
Фото ВТА — АПН

Типичный пейзаж страны
Фото Л. Поликашина


София. Зал универсиады
Софийский университет «Климент Охридский»
Фото Д. Влаева

Нефтехимический комбинат в Бургасе
Фото ВТА — АПН

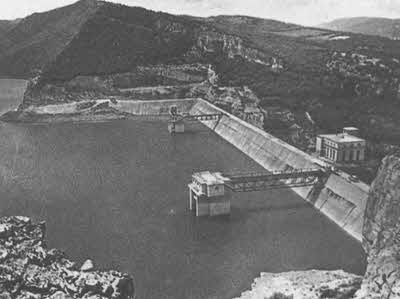
Курорт «Золотые пески»
Фото Ю. Каверина
Одно из крупнейших в республике водохранилищ «Александр Стамболийский»
Фото БТА — АПН

Рильский монастырь в горах Рила
Фото БТА — АПН

(Слева)Крупнейшая теплоэлектростанция Болгарии «Марица — Восток»
Фото БТА— АПН
(Справа) Атомный реактор Физического института Болгарской академии наук
Фото БТА — АПН


Старинный город Велико Тырново
Фото Ю. Каверина
Несебр — древний город на острове
Фото БТА — АПН

День культуры и просвещения 24 мая. Болгарские дети в национальных костюмах. Город Лом
Фото Ю. Каверина

На берегу Черного моря
Фото Ю. Каверина
ФАНТАСТИКА

Вячеслав Пальман
ЭКИПАЖ «СНЕЖНОЙ КОШКИ»

Научно-фантастическая повесть Рис. А. Болотникова
1
Для перехода из головного снегохода в крытый холодный прицеп они обычно тратили минуту с четвертью. В оба конца — две с половиной. Еще столько же — чтобы открыть дверь и взять из ящика в углу пакет с едой. Пять минут на морозе и ветре. Но прошло восемь, а Перселл не вернулся. Алексей подождал еще полминуты и перевел взгляд на младшего Хопнера. Джой сидел напротив. Высоко отвернув рукав меховой куртки, он задумчиво постукивал ногтем по своему хронометру. Алексей нащупал сзади свою шапку, надел ее. Джой тоже поднялся, с треском, застегнув молнию на куртке. — Куда? — Старший Хопнер, их командир, завозился в своем мешке и приоткрыл один глаз. — Перселла нет, — ответил брат. — Семьдесят футов и уже восемь минут. Пойдем посмотрим. Генри уселся, однако из теплого мешка не вылез. — Давайте. Выходить смертельно не хотелось. Термометр показывал минус сорок восемь по Цельсию. И потом эта страшная, воющая белизна — вечно голодный шакал Антарктиды за тонкими стенами кузова. Перселла отыскали в хвосте поезда. Высокий, подтянутый капитан почему-то упорно двигался, волоча ноги и отворачиваясь от ветра, не к головному снегоходу, а в обратном направлении. Он потерял способность ориентироваться, однако у него хватило мужества не сесть на снег. Перселл переступал вдоль прицепа, прижимая к груди пакет. Взгляд у него был бессмысленный. Через несколько минут он отпустил бы веревку и так же бессмысленно пошел бы в белую пустыню, чтобы затеряться в ней навсегда. С новичками это случается. Джой отнял у Перселла пакет. Алексей закинул его руку себе на шею и повел в машину. Когда за ними захлопнулась дверь, Перселл глубоко вздохнул и поглядел вокруг более осмысленным взглядом. — Какая-то чертовщина, — пробормотал он. — К белой мгле надо привыкнуть, румер[23],— сказал Алексей, все еще называя его этим словом: последний месяц на полюсе Перселл жил со Старковым в одной комнате. — Две-три вылазки — и вы перестанете вращаться на ветру вокруг своей оси. На подвижном, интеллигентном лице капитана появился испуг. Только сейчас он понял, какой опасности подвергался. — Наделал я вам хлопот, — сказал он. — Впредь выходить поодиночке запрещаю, — отозвался Генри. Вот уже восьмой день как они выехали со станции на Южном полюсе и взяли курс к базе Литл-Америка, откуда им предстоял более долгий путь: Хопнеры ехали в отпуск через Мак-Мердо и Новую Зеландию, а Старков пробирался в Мирный после пребывания на американской станции Амундсен-Скотт, где он проводил геофизические исследования вместе с учеными других стран. Эти трое хотели успеть на международную конференцию полярников в Крайстчерче, южном городе Новой Зеландии. Там их ждали. Хопнеры везли доклад о «древесных кольцах» старого льда, которые могли поведать миру о тайнах прошлого нашей планеты. Алексей Старков должен был сообщить о строении поверхности материка, скрытого подо льдом в районе географического полюса. Но прежде чем лететь из Мак-Мердо в Крайстчерч, он намеревался побывать еще в Мирном. Самолет из Мирного ждет его на американской базе. Астрофизик Перселл прибыл на полюс недавно. Он охотился на «космических мотыльков» в ионосфере и теперь собирался повторить опыт в Литл-Америке. Начальник станции профессор Уолтер приказал Хопнерам взять астрофизика с собой. «Белый провал» застиг снегоход с прицепом в конце седьмых суток, примерно на полпути от полюса до ледника Бирдмора, где находилась небольшая промежуточная база. Снегоход продолжал идти через белую мглу, ориентируясь по жирокомпасу еще часов десять, но вскоре экипаж получил по радио категорическое предписание остановиться и выждать погоду. Приходилось считаться с трещинами. Большая пятнистая машина «Сноу-кэт»[24], накрепко сцепленная с куцым грузовым прицепом, стояла теперь посреди необъятной снежной пустыни, подставляя красные бока сумасшедшему ветру, который пел свою нескончаемую песню. Но не ветер мешал движению, а то, что называли «белым провалом», — особенное состояние атмосферы, когда трудно сказать, где небо, где земля и существует ли вообще твердь — так одинаково бестелесно и далеко развернулась со всех сторон отчаянно белая пустота. Горизонта не существовало, взор блуждал по всем измерениям, ни на чем не задерживаясь, и стоило побыть в этой странной белизне пять — десять минут, как терялось чувство ориентировки, вдруг начинало казаться, что все вокруг вращается со страшной быстротой, подкашивались ноги, и человек падал, не в силах оторвать ошеломленного взгляда от молчаливого белого ничто. Капитан Перселл один из всех не имел достаточного опыта, чтобы оценить «белый провал». Потерять власть над собой рядом с поездом, держась за канат… Отчаянный, запоздалый стыд набросил на его щеки краску. Алексей Старков скинул полушубок и полез в кабину снегохода. За чистыми стеклами светилась тусклая Вселенная. Несколько минут, испытывая себя, он всматривался в белизну, отвернулся не без труда и подсел к рации. Вращая верньер, стал искать в хаосе звуков хоть какое-нибудь слово родной речи, по которой соскучился. — Что-нибудь интересное? — Голова Перселла просунулась из кузова. Перселл жевал твердую колбасу, вежливый взгляд голубых глаз остановился на шкале рации. — Влезайте, румер, послушаем. — Москва? Алексей пошарил по станциям. Музыка, музыка… Нет, не то! — Садитесь, развлекайтесь, — сказал он, подымаясь. Перселл пропустил его, с уважением оглядев сзади ладную фигуру геофизика. За месяц жизни бок о бок они так и не подружились. «Доброго утра», «Спокойной ночи» или «Как дела?» — фраза, превращенная с чисто американской деловитостью в кратчайшее «Хади!». Замкнутость Перселла не располагала к дружбе. Он с готовностью слушал других, но сам говорил неохотно. Таков характер. Может, поэтому Уолтер и сплавил его со станции. Хопнеры были друзьями Алексея. Открытые, горячие парни с чистой душой. С ними Старков часами просиживал в тесном «мессруме»[25] за чашкой кофе или отчаянно барахтался на борцовском ковре в «гимназиуме». У них не было друг от друга тайн, даже семейные письма читали сообща, горячо и долго спорили, обсуждая близкие всем научные темы. В общем у Алексея на полюсе была интересная работа, были товарищи. Генри лежал, крепко зажмурившись. Притворялся, конечно. Алексей прошел мимо, взъерошил командиру черный волнистый чуб. Хопнер отмахнулся, но глаз не открыл. Может быть, мечтал. Хопнеру есть о чем помечтать. Двое чудесных мальчиков дома, милая, любящая жена. Алексей подсел к столу, посмотрел на барометр. Стрелка лежала на цифре устойчивого давления. Генри Хопнер поднялся, потянулся до хруста в суставах. — Запиши в бортовой журнал, — хрипло сказал он, — день, час и несколько слов насчет «белого провала», будь он проклят! — Есть записать, командир. Может, разрешат? — Старков кивнул в сторону рации. — Попробуем? Хопнер почесал за ухом, сбив набок пышную прическу. — Я отлично знаю характер Уолтера. У начальника станции, как ты выражаешься, не семь, а одна пятница на неделе. Если приказал стоять, придется стоять хоть до нового потопа. Слова его звучали не слишком уверенно. — Тебя устраивают четыре километра в час и разминка на морозе? — Не надо об этом спрашивать, Алэк. Что за идея? — Мы боимся трещин? Один из нас впрягается в длинную веревку и шагает с палкой впереди. Второй сидит за рулем. Третий наготове с мотком лестницы на случай, если разведчик провалится в тартарары. Четвертый отдыхает. Каждый час — смена. Скуке конец, поезд движется к цели. — Уолтер знает наши координаты, вот в чем дело. — Не очень точные. За сутки проползем сорок километров. Сообщим на станцию поправку, извинимся. А там кончится мгла, получим «добро», раз-два — и на месте. Решай. — Ладно, — сказал Генри и хлопнул ладонью по колену. Джой согласился мгновенно. — Алэк перехватил идею у меня. Честное слово, я думал о том же. — Ваше мнение, Перселл? — Коль скоро есть приказ Уолтера… — Понятно. Вы — против. — Это же маленькая передвижка, капитан, — нетерпеливо вмешался Джой. — Всего-навсего разминка. — Я понимаю. Но опасность… Хопнер насупился. Чтобы разрядить обстановку, Старков примирительно сказал: — Значит, трое «за» при одном воздержавшемся. — О ля-ля! — обрадовался Джой. Сомнения не одолевали его. Братья Хопнеры родились не для пассивной жизни. На полюсе они это блестяще доказали. В самый лютый мороз Хопнеры выходили прослушивать ледяной панцирь пустыни, делали далеко не безопасные вылазки к наиболее глубоким трещинам, бурили и взрывали лед, пока наконец не отыскали истину, имеющую большое значение для науки. Они подтвердили мнение о том, что Антарктида не архипелаг островов, не впадина, заполненная льдом, а погребенная под ледяным прессом целая горная страна, отдельные вершины которой почти пробиваются сквозь более чем двухкилометровую ледяную оболочку. Джой проворно оделся и стал ворошить вещи в поисках веревки, лестницы и фонарей. — Иду первым, ребята, — сказал он как о решенном деле. — Стоп! — Алексей схватил его за пояс. — На правах автора идеи… — К мотору, Джой, — приказал Генри. — А мне что делать? — спросил Перселл, одеваясь. — В резерве, — ответил Генри насмешливо, он еще не простил Перселлу его нерешительность. — Вы считаете меня не пригодным для серьезных работ? Ошибаетесь. Я только противник неоправданного риска, Хопнер. Я понимаю, вы торопитесь, но все же… — Ладно, Перселл, смените Джоя. — Алло, Генри! — вмешался Алексей. — Где нейлоновый канатик, черт побери! Старший Хопнер отвернул кладь, бросил канатик, заглянул к Джою, который возился в кабине. У него не клеилось. Слишком долго стояла машина. — Я иду, Генри! — Старков вытащил шест, опустил очки. — Компас с тобой? Лыжи? Шлем? Аварийный запас? Радио? — Все есть, проверено. — Дальше чем на шестьдесят футов не отходи. Смена — ровно через час, сигнал — зеленый луч. Наконец мотор завелся. Снегоход мелко дрожал. Джой включил дополнительный обогрев, в кузове стало теплее, стены кабины отпотели. Джой легонько раскачивал снегоход. — Алэк, возьми паяльную лампу. Перселл, вот вам работа. Помогите стронуть машину. Но прежде оденьтесь как следует, — скомандовал Генри. Перселл выскочил наружу. Старков обжигал струей огня ледяной край. Гусеницы вдавились в снег и обросли коркой. Мороз стягивал кожу на лице, ломило брови, лоб. Пар изо рта схватывался инеем у самых губ и с шелестом прорывал разреженный воздух. Джой продолжал раскачивать снегоход. Четыре коротких и высоких гусеницы дергались, звенели и наконец стронулись с места. Алексей пропустил капитана в помещение, влез валенками в жесткие крепления лыж и прошел к голове поезда. Неторопливо захлестнул легкий канатик за скобу, завязал другой конец на своем поясе и оттолкнулся от гудящего под капотом мотора. Оглянулся. За стеклом помахивал рукой Джой. Растянув легкий и прочный канатик почти на всю длину, Алексей сказал в микрофон: «Давай газ!» — и дернул веревку. В шлемофоне зашипело. Генри продувал микрофон. — Пожалуйста, не тяни нас, Алэк, грыжу получишь, — сказал он, — и чаще бей шестом, не ленись. Поехали!2
Несколько минут Алексей шел молча. Шест со свирепым визгом втыкался в плотный снег через каждые три метра. Сзади глухо и мощно гудел мотор. В его голосе было что-то успокоительное, теплое, словно шла за Алексеем верная и могучая собака, которая всегда выручит. Несколько раз он оглядывался, смутно различал за чистым стеклом белозубую улыбку Джоя. И Старков улыбался, вспоминая игру в бинго и шахматные баталии в крошечном «клаб-руме» станции. Там Алексей учил Хопнера русским песням, Джой пел, уморительно коверкая слова. В кабине снегохода разговаривали, но слов нельзя было разобрать. Старкову надоело молчать, он начал вполголоса напевать, так, чтобы это не мешало идти. В кабине умолкли, прислушались. Алексей смотрел под ноги, на шест, на бесконечную даль перед собой и ему вдруг стало казаться, что он движется по дну морскому все вниз и вниз. Оглянулся со страхом — не накатывается ли машина. И тут же понял: галлюцинация. Тряхнув головой, запел громче, ободряя себя. Попробовал одну песню, другую. Ритм не подходил, сбивал с ноги. Поймал в памяти новую песню, под нее было удобно шагать. «Из-да-ле-ка дол-го те-чет ре-ка Вол-га…» Джой сказал в микрофон: — Нечестно, Алэк. Ты скрывал хорошую песню. — Только пришла на память. Научу. Мне от тишины этой как-то не по себе. Повторяй за мной: из-да-ле-ка долго… — Ис-да-лье-ка доль-го… Так? Больше Алексею не казалось, что он движется вниз, колдовство «белого провала» отступило. Скрипел, шелестел вокруг едкий мороз, громыхал позади мотор, и, как эхо, слегка перевирая слова, отзывался Джой: «А мнье уш три-сать льет…» — Смена, — раздался голос Генри. — Стоп, Алэк! Снегоход подкатил ближе, Алексей собрал в кольцо канатик, положил его на снег и воткнул рядом шест. Из дверей выпрыгнул Джой. За руль сел командир, клацнул рычагами. Старков разделся и сразу погрузился в блаженное тепло. Напротив, подложив под спину тюфячок, удобно сидел Перселл. Возле него лежал разобранный пистолет. Капитан протирал части и складывал одну к другой. — Интересная игра, — не удержался Алексей. — Нравится? — Военный всегда с оружием, — сказал Перселл. — Тем более в таком месте, как шестой материк. — Кстати, самое безопасное место на земле. Ни одного хищного зверя. — Если не считать людей. — Чепуха какая-то, — сказал Старков и отвернулся. Вероятно, он уснул, потому что, когда открыл глаза, машина стояла, Джой сидел рядом с ним и раздевался, а Генри вполголоса разговаривал с капитаном. — Это опасно. Вы понимаете? — Вполне, — отвечал Перселл. — Но я настаиваю. — Бывают трещины в двести метров глубиной… — Оставьте, Хопнер, Я не мальчик. — Ладно, одевайтесь, сейчас я вам покажу все, что надо, и можете топать, — с напускной строгостью сказал Генри. Суетясь и весело посапывая, капитан нацепил на себя меховую парку, проверил шлем, опоясался и спрыгнул наружу.
— Экий волк! — вслед ему сказал Генри, но уже гораздо добродушнее. — В этой сухощавой дылде сидит все-таки настоящий человек. Опять закачался и поплыл по снежным волнам тяжелый, могучий снегоход. Джой изредка переговаривался с Перселлом, его фигура нечетко маячила в двадцати метрах от машины. У него, кажется, получалось. Первое знакомство с белой мглой пошло на пользу. Алексей втиснулся третьим в кабину. Джой восседал на водительском кресле. Вокруг расстилалась все та же белая мгла. Континент, полный опасностей, враждебный самой сущности человека. А ведь немалая частица тверди: около четырнадцати миллионов квадратных километров. США и Канада, вместе взятые. На гигантской площади замерли придавленные ледяным панцирем долины, ущелья, хребты… Алексей представил себе эту землю где-то глубоко под ногами. Он вдруг увидел ее так, будто ледяная крыша испарилась, исчезла. Фантастическая картина! Громко, перекрывая стук мотора, сказал: — В сумрачный день осени облака опускаются на землю моей родины и закрывают города, реки, моря, горы и равнины. Взлетишь за облака, и над тобой опять голубое небо, а под лайнером только однообразно белая, бесконечная пелена облаков. Точно такая же равнина, как вот эта. Под ней ведь тоже земля. И мы довольно высоко над землей. Километра два, наверное. А лед, по которому движемся, — это просто затвердевшие облака… Джой подмигнул брату. — Геофизик, а не лишен поэзии, правда, Генри? У тебя нет ли подходящего сонета о погибшей Антарктиде? — Всему свой срок, ребята, и стихам и гипотезам, — сказал Генри. — Попробуем добраться и до сказочной земли, которая упрятана под нами. Все засмотрелись на белое безмолвие за стеклом и на фигуру человека впереди. И снова, как три часа назад, Алексею вдруг показалось, что они скользят не по горизонтали, а вниз, вниз. Опята» галлюцинация! Вспыхнул глазок рации. Их вызывала станция Амундсен-Скотт. — Уолтер… — тихо сказал Генри и включил микрофон. — Доложите обстановку, — прогремел динамик. — Без перемен. Ждем погоды. — Генри слегка покраснел. Он не умел лгать. — Я слышу стук мотора, Хопнер. — Прогреваем машину, шеф. Холодно. Уолтер попросил еще раз дать координаты. Хопнер повторил вчерашние данные, не очень погрешив против истины: за это время они продвинулись всего на два-три десятка километров. — Метеосводка препаршивая, — сказал Уолтер. — Потепление. Метель, сильный ветер. Как раз вам в спину. — Премного благодарны, шеф. Именно этого нам и не доставало, — пошутил Генри. — Как самочувствие капитана Перселла? — Отлично, шеф! Вышел проветриться, мы видим его за стеклом. Ходит по кругу. Наш русский друг подарил экипажу новую песню. «Из-да-лье-ка доль-го течь-ет ре-ка Воль-га…» Уолтер засмеялся. Экипаж не утратил чувства юмора. — Всем привет и пожелание удачного пути. Надеюсь, «белый провал» уймется наконец. — До свидания, шеф, — Генри выключил связь. Басовито прогудела сирена. Снегоход остановился. В белую пустоту вонзился зеленый луч прожектора. Перселл стал сматывать веревку. Генри оделся, повязался ремнем и перевалился за дверь.
3
Истаявшая полярная ночь походила скорее на сумерки. Белая бесконечность не угасала, она только синела, наливаясь сонной тяжестью, и цепенела. Ощущение неуверенности у человека, зазимовавшего в Антарктиде, увеличивалось к весне; синяя бесконечность торчала перед глазами тысячью полупрозрачных штор, за которыми опять открывались неведомые синие пространства. Как в бреду. Снегоход с прицепом все шел. Это была работа, движение, пусть медленное, но все же движение к цели, которое устраивало всех. Даже капитана Перселла. Правда, он больше помалкивал. Джой сидел за рулем, Алексей находился в двадцати метрах впереди, ощущая спиной первые порывы леденящего ветра, о котором говорил Уолтер, а Перселл и старший Хопнер валялись на койках. Генри настроил транзистор, выдвинул наружную антенну и поймал какую-то австралийскую станцию. Она передавала известия. — Усильте, пожалуйста, звук, — попросил Перселл. Они молча прослушали сообщение из Юго-Восточной Азии, молча проглотили информацию о теннисе и легкой атлетике, но, когда было сказано о появлении в водах Антарктики советского корабля «Обь», Перселл вдруг сказал: — Это интересно. — О, конечно! — отозвался Генри. — Корабль везет новую группу ученых. Смена состава. — Они нас обгонят и здесь, не так ли? Что-то было в этом вопросе странное, Генри почувствовал это и, желая уяснить позицию Перселла, сказал с некоторым вызовом: — Если и обгонят, выиграет наука. — В том числе и военная наука, — ответил Перселл. — Вас не настораживает усиление противника? — Я ученый, Перселл. — Вы американец, Генри. Хопнер натянуто засмеялся. Дрянной они затеяли разговор. — Ладно, сойдемся на том, что мы оба патриоты. И все же, когда речь идет о расшифровке истории Земли, записанной в толще льда, я думаю не о приоритете, а о дружбе ученых, потому что работа рука об руку всегда успешнее, чем в одиночку. Это не бег на шесть миль, не азартный спорт, а наука. Если вы лично собираетесь опередить русских в изучении ионосферы, то вам не стоило бы уезжать. Хотя, насколько я знаю, русские не очень увлекаются ловлей «космических мотыльков». Или я ошибся? — Ошиблись, Генри. Может быть, русские и не изучают ионосферу, зато они усиленно изучают материк. А для чего? Такой вопрос вы не задавали себе? Это же идеальный полигон… — Стоп! — Генри поднял руку. — Не хочу говорить на эту тему, Перселл. И ради бога, ответьте мне на один вопрос: кто вы? — Ученый. И писатель. — Ваши убеждения не мешают науке? — Нисколько. Они помогают понять сущность событий. — И все-таки я вам советую: пошлите вы политику к черту. — Вы наивны, Хопнер. Русские — это реальная опасность. — А Старков? Мой друг Алэк?.. Капитан пожал плечами. Крупное, открытое всем чувствам лицо Хопнера сделалось растерянным. Он слушал, не веря ушам своим. Чему учит этот Перселл? Подозрительности, неверию, вражде, ненависти? Разве можно жить, любить, радоваться, если думать таким образом? — Вот что, Перселл, — сказал командир, стараясь подобрать слова помягче, — вы наговорили много лишнего. Я постараюсь забыть этот разговор. Экипаж «Снежной кошки» вне подозрений. — Позволю себе остаться при своем мнении. — Мнения я не контролирую. Но действия… Машина шла медленно, но кабину часто встряхивали толчки. Видимо, они забрались в зону разломов. Джой посигналил Старкову, и снегоход остановился. — Ваша смена, Перселл, — сказал младший Хопнер, выглядывая из кабины. — Выгружайтесь, Алэк уже свернул канат. Кажется, «белый провал» исчезает. Ветер, поземка и все такое. Открылась дверь, и Старков перемахнул через порожек. — Промерз до костей, — сказал он, с трудом шевеля губами. Командир хотел было сказать, что смена отменяется, но что-то заставило его промедлить полминуты. И за это время высокая фигура Перселла скрылась за дверью. Злорадное чувство шевельнулось в сердце Хопнера. При всем природном благодушии он не мог заглушить недоброе чувство к этому человеку. Командир пошел в кабину. Увидел, как впрягся Перселл, тронул поезд. Тащитесь, сгибайтесь от ветра, капитан! Джой и Алексей затеяли в кузове веселую игру. Через неплотно прикрытую дверь Генри слышал взрывы смеха. Ничто не омрачает их душу. Сказать о разговоре с капитаном? Нет! Хопнер толкнул дверь. — Эй, вы! Джой просунул голову в кабину. — Хелло, Генри? — Слушайте, что я вам скажу. — Генри говорил, не поворачиваясь. Он все время смотрел вперед. — Так вот, человек, который идет там, на веревке, — писатель. Будет писать о нас книгу. — О-о! — Джой посмотрел на Старкова, потом через стекло на Перселла с таким вниманием, словно увидел его впервые. — Значит, мы обеспечили себе бессмертие. — Я тут прижал его. Мы кое в чем не сошлись, ну я и понял, что он не только ученый. — Это точно, — подхватил Джой. — Интеллект так и брызжет. Придется уступить ему свою постель. Ближе к печке. Генри быстро обернулся. — Тебя это не удивляет, Алэк? — спросил он, заметив на лице Старкова скорее озабоченность, чем любопытство. — Видишь ли, Генри, я еще на станции обратил внимание.. Старков не договорил. Где-то впереди возник гул. Низкий, басовитый, он с невероятной быстротой приближался и нарастал с такой мощью, что хотелось броситься плашмя на пол и закрыть голову руками. Генри нажал кнопку сирены, но даже сам не услышал ее воя. Тогда он включил зеленую фару. Перселл уже бежал к ним, бросив лыжи. Страшный гул достиг апогея. Небо и лед вибрировали. Все зашаталось. Дверь раскрылась, капитан схватился за косяк и упал внутрь. Лицо его было белее снега. Снегоход качался, как шлюпка в штормовом море. Гул пролетел, под ними или над ними, тугая волна звука растаяла. Лед качнулся еще, еще, снегоход завалился на левый бок, уткнулся в снег. Все затихло. — Снеготрясение, — определил Джой, когда озабоченное лицо брата высунулось из кабины. — Было уже такое. — А звук? Этот трубный глас, от которого холодеют внутренности! Тоже было? — Да, — сказал Алексей. — В районе Мирного, когда от ледника оторвался и ушел в море айсберг величиной с целое государство. — То в море. А вот что могло греметь здесь, в ста милях от ледника Росса? — Внутренняя передвижка льдов. В общем включай рацию, Уолтер не мог не слышать, он должен нам объяснить, в чем дело. Джой включил передатчик. Три минуты спустя подозвал Алексея. Они еще повертели ручку настройки, но ничего, кроме грохота, писка и шипения, из динамика не доносилось. — Бесполезно, — сказал Генри. — Магнитное возмущение. Смотрите… — Он снял предохранитель с компаса. Стрелка нервно дернулась и тотчас прилепилась к донышку слева от знака «норд». — Теперь придется ориентироваться только по жирокомпасу, — сказал Старков. — Этот не подведет. Он посмотрел на пояс Перселла и с удивлением перевел взгляд на лицо капитана. Тот сразу понял, но все-таки ощупал руками пояс спереди, сзади и побледнел. — Не знаю… Может быть, там, около лыж… Жирокомпаса не было. Алексей, Джой и капитан Перселл с зажженными фонарями, хотя и было относительно светло, прошли несколько метров до того места, где лежали брошенные лыжи, ощупали каждый сантиметр снега, но прибора не обнаружили. Пурга выла на полный голос. — Вспоминайте, Перселл, — приказал Генри, когда экипаж собрался в кузове. — Итак, вы взяли его у Алэка… Где взяли, в каком месте? — Я не помню, — сказал Перселл. — Вот здесь, у дверей, — подсказал Старков. — Я не уверен… — капитану показалось, что его обманывают. — Он держал его в руке, — сказал Алексей. — В левой, потому что правая была занята фонарем. Это я вижу, как сейчас. Хопнер-старший взорвался: — Где прибор, капитан? — Не помню… Кажется, я его не брал у Старкова. — О черт! Не брал! А как же вы пошли на смену без прибора? Куда вели нас? Или вы не смотрели на волчок? — Не кричите на меня, Хопнер. Дайте подумать. Да, не смотрел. — Идти без компаса в буран — это значит по кругу. По кругу диаметром в три тысячи миль. Где мы теперь? — Постой, Генри. — Старков принес магнитный компас. — Стрелка указывает влево. Магнитный полюс и должен быть слева по ходу. Хопнер немного успокоился. — Значит, мы еще не сбились. Лишнее подтверждение, что жирокомпас находился у вас, капитан. Вы потеряли его, когда бежали назад. Или раньше? — Не знаю, — не знаю… — Перселл выглядел очень растерянным. Снова обыскали снег, буквально перевернули его ~на довольно большой площади. Снова пытались связаться с южным полюсом, с береговой базой. Радиосвязи не было. — Вчера я прикидывал: до промежуточной базы у Бирдмора оставалось около восьмидесяти миль, — сказал Старков. — Двое суток ходу. Будем придерживаться магнитного компаса с поправкой, а проглянут звезды, пойдем по звездам. Хопнер-старший только фыркнул в ответ. Он еще весь кипел. После минутного молчания вдруг приказал: — Джой, твоя смена. Одевайся.4
Ветер набрал силу. Сперва он переносил бесконечные хвосты снега над самой поверхностью, но потом уплотнился, загудел и поднял тучи снежной пыли высоко надо льдами. Небо скрылось, вокруг потемнело, стало трудно дышать, мелкая колючая пыль забивала нос и рот, обжигала лицо. Температура повысилась. Циклон. Сквозь вой метели медленно полз гусеничный поезд, почти сливаясь с белым фоном пустыни. Лишь щупальца зеленого и белого прожекторов прорезали мглу, выхватывая из нее фигуру проводника с шестом. Алексей Старков вел машину, Генри лежал, пытаясь уснуть, но это не удавалось. В двух метрах от него лежал капитан. После потери жирокомпаса Генри Хопнер не мог даже смотреть на соседа. Менялись смены, шли часы, снегоход двигался вперед с осторожностью черепахи, Хопнер-старший приближенно считал, что они выдерживают курс. Все четверо как-то ушли в себя. Когда наступил черед Старкова, и он, наглухо застегнув штормовку и капюшон, побрел вперед, протыкая летящий снег острым металлическим шестом, ему опять — в который раз! — показалось, что они движутся под уклон. Белая мгла исчезла, а наваждение осталось. — Слушай, — сказал Генри в микрофон, — я все время сбавляю газ, а скорость нарастает. Что, очень плотный снег? Голос его по радио даже на близком расстоянии напоминал бормотание рассерженного глухаря: магнитная буря комкала все радиоволны. — Попутный ветер, — ответил Старков, стараясь говорить четко. — Мы весим шесть с лишним тонн, при чем тут ветер? — Приду, объяснимся, — односложно ответил Алексей. Разговаривать на морозе было не легко, губы едва шевелились, это отвлекало, он боялся прозевать трещину. Уже дважды его шест пытался нырнуть в преисподнюю, Старков удерживал его за ременную петлю и отступал назад и в сторону. И оба раза снегоход, тормозя, успевал подъехать почти вплотную. Объезд — и через несколько минут поезд вновь шел прежним курсом. Видно, они достигли района очень трещиноватого панциря. Путь напоминал след улитки на прибрежном иле: сплошные зигзаги. В кузове Алексей оттаял, Перселл ушел наружу. — Знаешь, сколько до шельфа? — спросил Генри, сделав расчет. — Сто-сто десять миль, — предположил Алексей. — Не больше шестидесяти. — Найдем ли базу в этом крошеве из снежных опилок? — Уляжется. К черту тяжелые мысли! — Барометр не бог весть какой приятный. — Старков еще раз посмотрел на круглое окошечко анероида и протяжно свистнул. — Посмотри… — он протянул прибор Хопнеру. — Наваждение! Вчера он показывал другую высоту. Какая-то чехарда. Жирокомпас исчез, анероид заврался. Девятьсот метров? Даже в устье Бирдмора больше тысячи, это я хорошо помню! Угодили в какую-нибудь впадину? — Все эти дни мне казалось, что поезд движется вниз. — Алексей взял анероид, постучал пальцем по стеклу. Стрелка высотомера не сходила с цифры «900». Алексей развернул карту. — Вот здесь… — он показал на точку, где они предположительно находились. Слева невдалеке подымались прибрежные горы. — Если ты не ошибся, то нам нужно повернуть на девяносто градусов и следить за высотой. Последовал сигнал остановки. Перселл бросил канатик и со вздохом облегчения забрался в кузов. — Я пошел вперед. — Генри быстро оделся. — Садись за руль, Алэк. Посвети вокруг, чтобы не забрать лишку. — Меняем курс? — спросил Джой. — Посмотри на карту и высотомер. — Что такое? — капитан тоже забеспокоился. — Ничего, — сказал Джой, — забрались слишком на запад. Снегоход взревел и повернул влево. Генри Хопнер пошел вперед, укрываясь от бокового ветра. Вскоре пришлось прибавить газу. Мотор почувствовал подъем. Стрелка высотомера поползла к тысяче. Затем подъем стал круче, еще круче и вдруг буквально перед носом изумленного Хопнера выросла белая, почти отвесная стена. Алексей перевел луч выше. Стена уходила в мутное небо. Генри Хопнер забрался в кузов. Он заметно нервничал. Посоветовавшись, развернулись на сто восемьдесят градусов и пошли назад. Машина походила на слепого котенка в густой траве. Через сорок три минуты прожектор опять выхватил из белой мглы крутобокую ледяную гору. Излом льда преградил путь. Они оказались в ущелье с отвесными стенами. Джой выскочил наружу. — Ставлю три против ста, что сброс абсолютно свежий! — крикнул он, возвращаясь с глыбой льда. — Дело нечистое, ребята. — Вот к чему приводит риск, — осторожно заметил Перселл. Джой хмыкнул. В Антарктиде все — риск. Генри Хопнер долго настраивал рацию. Сиплый треск. — Попробуем продвинуться еще немного, — сказал он. — Вдруг выберемся на простор. Снегоход пошел по старому курсу — вперед и вниз. Вниз… Крутые стены выглядывали из тьмы то с одной, то с другой стороны. Дорога ухудшилась, снегоход лихорадило. — Восемьсот двадцать, — сказал Джой. Он вернулся с дежурства и подсел к высотомеру. Метель не утихала. Изредка погромыхивало. «Снежная кошка» двигалась в сплошном потоке снега.5
Катастрофа произошла во время дежурства Алексея Старкова. Он шел, осторожно лавируя среди ледяных глыб в крошеве из снега. Неожиданно шест погрузился в пустоту. Старков потянул его к себе, инстинктивно сделал шаг назад. И тут же почувствовал, что проваливается. — Тормоз! — крикнул в микрофон. Едва ощутив под собой твердый лед, Алексей отскочил от места падения. Вовремя! Скрепя тормозами, в провал круто съехал снегоход. Внутри кузова что-то падало, ломалось, слышались проклятья Хопнера. Джой не растерялся. Он дал газ, и сильно накренившийся снегоход выровнялся. Гусеницы стали на относительно ровной площадке, но уже на дне, внизу. Хопнер выскочил и осмотрелся. В тусклом снежном воздухе увидел горку, по которой они съехали. Метра четыре, градусов шестьдесят. Их спасла снежная лавина, осевшая впереди снегохода. Одно было очевидным: путь назад отрезан. Вышел Перселл. Он огляделся и сжал губы. На щеке его краснела царапина, рукав штормовки обвис. — Как же это вы, Старков? — Перселл мгновенно нашел виноватого. — Бросьте, — грубо ответил Хопнер. — Давайте соображать, что делать. Назад или вперед? — Во всяком случае не рисковать больше, — резонно заметил Перселл. — Мы и так наделали много глупостей. — Джой, Алэк, в машину, — сказал командир. В чрезвычайных обстоятельствах особенно нужна связь. Джой долго сидел над рацией, ладил дополнительную антенну. Алексей покопался в прицепе, вытащил из ящика две стальные «кошки», прицепил к ним провод антенны и ловко забросил конец на ледяную скалу. Проволока натянулась и загудела. Но рация не работала и при усиленной антенне. Манипуляции с компасом также закончились безрезультатно. Стрелка мелко дрожала и царапала донышко инструмента.
Мотор выключили. Слышнее стал вой метели. Ущелье напоминало трубу, по которой продували осатаневший холодный воздух. Генри задумчиво сидел над картой. — Мы отклонились к востоку, — сказал он. — Значит, вот здесь, — Алексей ткнул пальцем в северную часть гор у Земли Виктории. Перселл заглянул через плечо Джоя. — На пути к советской станции «Восток», — с каким-то странным подтекстом сказал он. Генри покраснел. Веско сказал: — Если вы замолчите, Перселл, то сделаете большое одолжение. Джой коротко засмеялся. — Прежде всего повезло вам, Перселл. Вы попали в такую ситуацию, которую не придумает и Жорж Сименон. Не пугайтесь. — О да! Я в восторге… — Оставьте ваш юмор на послеобеденное время, Перселл, — пробурчал Генри, не отрываясь от карты. За стенами выла метель. Сквозь вой ветра изредка прорывался какой-то странный гул. Похоже, что у них под ногами грохотала земля, нет, не земля, а лед, придавивший землю. Взгляды, которыми обменивались полярники, выражали удивление, любопытство, но не страх. Джой сидел верхом на стуле, без шапки. Светлые волнистые волосы перепутались, лицо горело от возбуждения. Снова прогромыхало внизу. В кузове притихли. Генри сказал: — Мы устали, измучены. Нам нужно как следует выспаться, а потом взять ломы, сбить порог позади машины ивыехать из ущелья. — А потом? — спросил Джой. — Да, потом? — повторил Перселл. — Стоять и ждать, пока утихнет метель и наладится связь. Они вяло поели и легли, прислушиваясь к завыванию метели. Ураган гудел на одной высокой бесконечной ноте, словно изливал горе, накопившееся над лютым материком за десять тысяч лет. Звенела сбоку какая-то железка, шелестел снег по плотному верху кузова, фиолетовым глазком горел экономный ночник. Алексей никак не мог уснуть. Время шло страшно медленно. Волнами наплывало какое-то забытье, полусон. Он увидел себя в кабине самолета. Машина проваливалась, кресло мягко уходило из-под него. Алексей открыл глаза. Опять качнуло, послышался гул, словно где-то глубоко под ними сбросили вниз пустую бочку, и она катилась под гору, громыхая и ухая. — Генри, — тихо позвал он, — ты ничего не чувствуешь? — Лед оседает. — А мы? В эту секунду с тугим гитарным звуком лопнула антенна, которую Старков прицепил к ледяной скале. Ее медный обрывок ударил по обшивке кузова. Вскочили все сразу. Джой включил полный свет и бросился в кабину, чтобы выглянуть наружу. — Мы ползем вниз! — крикнул он. За стеклами кабины шевелился снег, машина кренилась, скрежетали, двигаясь вбок, гусеницы. — Приготовьтесь к выходу! — приказал Хопнер. — Взять аварийный запас. Снегоход все сильнее заваливался на бок. И вдруг метель стихла, вой прекратился, только крошился вокруг и царапался о стены лед, противное шуршание слышалось и под полом. Смотровые стекла плотно забило снегом. Треснула правая стенка, кузов развернуло задом наперед, и обломок саней от прицепа, разорвав обшивку, уткнулся в генератор буквально в пяти дюймах от Джоя Хопнера. Движение ускорилось, люди в кузове беспомощно катались из стороны в сторону. Железная рама с гусеницами оторвалась и перестала давить на боковину; только по затихающему грохоту и лязгу можно было установить глубину пропасти, куда сползал вместе со снегом и льдом менее тяжелый кузов. Его стальной каркас понемногу плющился, в согнутую дверь проникал холод и сыпался девственно белый снег. Помятый, продырявленный кузов перевернуло и поставило дыбом. Вещи и люди свалились к дверям кабины. Видимо, давление с боков ослабло, и тяжелый мотор перевесил. Еще скольжение, еще несколько ударов справа и сверху, движение стало медленным, а затем прекратилось. Прошуршали невдалеке два обвала, и все затихло. Экипаж «Снежной кошки» и остатки снегохода лежали на дне глубокой пропасти. Первое, что услышал в тишине Джой, был торопливый стук капель о наружную обшивку кузова. А затем тихий стон под собой и пыхтение выбирающегося из-под груды вещей человека. Вспыхнул свет: фонари висели у каждого на поясе. Джой увидел рядом лицо брата с растерянными, злыми глазами. Хрипло спросил: — Ты как? Где остальные? — Я здесь, — голос Алексея раздался сбоку. — А этот?.. — Он подо мной, — сказал Старков. — Сейчас вытащу. В полосе света возник Перселл. Левая рука его безжизненно висела. В правой капитан крепко зажал аварийный мешок. — Перелом? — Алексей ощупал руку капитана. Перселл сидел с закрытыми глазами, голова его безвольно падала. Глубокий обморок. Генри вспорол рукав. — Вывих, — констатировал он и, сжав зубы, потянул руку. Капитан громко застонал. — Все, больше не буду, — пробурчал Генри. Изуродованная дверь не открывалась, ее привалило глыбой льда. Алексей нащупал рядом пустоту и разрезал внутренний слой ткани. Повозившись над твердой обшивкой, он проделал отверстие и сунул в него голову. — Какая-то темная дыра. Мы на дне провала. Еще несколько усилий, треск пластика — и между стальными ребрами кузова возникла рваная дыра. По ту сторону обшивки открылась черная пустота. Людей обволокла влажная, пещерная теплынь. — Я стою на камнях, — сказал Алексей, выскользнув из кузова. Кряхтя и чертыхаясь, выбрался Генри Хопнер. За ним Джой. Он демонически улыбался. Ну-с, что тут интересного? — Все ясно. Мы на земле шестого материка, — торжественно сказал Джой. И зачем-то снял шапку.
6
Четыре луча прорезали влажную ночь. Они выхватили из темноты коричневые камни, усыпанные битым льдом и снегом. С одной стороны земная твердь круто, местами отвесно подымалась вверх, а с другой уходила вниз, исчезая в серой — именно серой, а не черной мгле. Выше, откуда свалился снегоход, к каменной горе примыкал блестевший под лучами фонарей, изломанный трещинами и, видимо, не очень прочный лед. Он подступал к склону горы метрах в сорока от остатков снегохода и почти правильным полукругом теряющейся в высоте сферой уходил во все стороны, создавая впечатление пещерного свода над невероятно большим подземным залом, на дно которого они не скатились только благодаря случайности. Их остановили скальные и ледяные обломки, лавиной спустившиеся перед ними. Где-то в ледяном потолке была щель, вход в провал, соединяющий преисподнюю с холодным, но солнечным миром. Лучи фонарей с быстротой, которая свидетельствовала скорее о нервозности, чем о любознательности, осветили ледяную сферу, двинулись по ней до того места, где свод соединялся со склоном каменного бока, ощупали каждый дюйм в поисках этой щели. Увы, ее не было. Сияющий, оплавленный лед с темными трещинами тяжело опирался на камни. Преисподняя поглотила их и наглухо закрылась. Капкан. Минута-другая прошла в молчаливом раздумье. Фонари погасли. Только привыкнув к темноте, люди заметили, что ледяная сфера над пропастью слабо светится. — Феномен номер один, — довольно спокойно сказал Джой, обрывая затянувшуюся паузу. — Ты о чем? — Алексей щелкнул кнопкой фонаря. — Потуши, — сказал Джой. — Вот так. Смотри внимательно на здешнее небо. Тебе не кажется, что там, над пропастью, свет посильнее, чем над нами? — Да, пожалуй. — Попробуем разобраться. На какой глубине морская вода полностью поглощает свет солнца? — Кажется, около двухсот метров. — А лед с толстым и непрозрачным снежным покровом? Достаточно семидесяти. Тем более в этих широтах. — Спасибо. А теперь цифры. У меня в руках высотомер. Он показывает четыреста семьдесят метров над уровнем моря. — За десять минут до катастрофы я смотрел на шкалу. Прибор показывал семьсот шестьдесят, — сумрачно сказал Генри. — Значит, толщина свода над нами около трехсот метров. Алексей протяжно свистнул. Звук получился тусклым. Как в подушку. Плотность водяного пара. — Трудно бить штольню, — сказал Генри. — А выбираться надо. Джой все размышлял по поводу свечения ледяного свода. — Итак, дневной свет не способен пробиться сквозь толщу в триста метров. Тем более что сейчас ночь. Перселл возился с рукой. Видно, болела. Он сидел на камне, изредка посвечивая по сторонам, будто не зная, чему верить: явь это или недобрый сон. Рассуждения Джоя о природе света казались ему легкомысленными. — Давайте сообразим, как выбираться, — тихо предложил он. — И вообще хотелось бы знать, куда мы попали. — Дельные слова, — сказал Джой. — Мы подо льдом, Перселл. И довольно глубоко. — Будем пробиваться, Хопнер? — настойчиво спросил Перселл. — Триста метров, — раздумчиво сказал командир. — Но другого выхода нет. — Попытаться выйти на связь? — Алексей, не дожидаясь согласия, полез в кузов. К счастью, рация оказалась более или менее целой. Старков установил антенну, подключил аккумулятор. В динамике раздался невероятный треск. Алексей поводил рукояткой настройки. Треск и гул. Нет и намека на радиосигналы. Ко всем помехам добавился еще экран изо льда. — Прежде чем браться за работу, давайте подкрепимся, ребята, — простецки сказал Джой. Он не терял присутствия духа. — Не возражаю, — отозвался Генри. — Светить буду я. А вы погасите фонари, неизвестно, сколько придется торчать в этом аду. Генри хотел завести мотор снегохода, вернее, то, что осталось от него. Вал привода был вырван вместе с коробкой скоростей и укатился вниз заодно с гусеницами. Двигатель в общем оказался в порядке, горючее имелось в канистрах и в баке. — Ладно, потом, — сказал он, вытирая руки. Они поставили кузов, навели в нем относительный порядок, расселись. Ели молча. Настроение не поднялось и после глотка спирта. Часа через три удалось запустить двигатель. Шум мотора забивал уши, звуки далеко не уходили, вязли, как в густой среде. Включили генератор. Первым объектом, на который Старков направил голубой луч прожектора, была, конечно, пропасть. Прожектор вырвал из тьмы коричневый склон горы. У подошвы ее, далеко внизу, среди ледяных глыб, чернели контуры стальных гусениц, искореженных в пух и прах. За барьером изо льда мерцало озеро. Противоположного его берега они не увидели. А над всем этим странным и мрачным мирком на высоте более сотни метров сияла ледяная сфера, обтаявшая, чистая и бесстрастная, как крышка огромного гроба. Свет прожектора скользнул по поверхности агатовой воды, вспененной бесчисленными потоками сверху, и ощупал берег озера. Метрах в семистах к югу среди обломков скал поблескивала речка, вытекающая из озера. Она прытко бежала вниз. Пустота подо льдом, кажется, была довольно обширной. Разглядели еще раз потолок, там, где он опирался на крутую грудь горы; проследили по снежнику свой путь и, поддаваясь жгучей потребности что-то делать, пошли вверх, оставив у генератора Джоя Хопнера. Он освещал место предполагаемой работы. Пришлось снять теплую одежду, но поверх свитеров надеть штормовки с капюшонами: сверху непрерывно капало, под ногами змейками струилась вода. Ни одного сухого предмета. Перселл разворотил кучу инструмента и, действуя больше одной рукой, выбрал ломы и кирки. — Уже не болит? — спросил Джой. — Дело идет о жизни и смерти, — ответил Перселл. Они забрались как можно выше по склону и наметили место, откуда начать проходку. Работали недолго, но азартно. В сплошном ледяном своде пробили дыру метра на два. Адский труд в атмосфере, насыщенной водяным паром! Втянулись, пошло веселее. Из проходки сыпались куски льда и спрессованный снег, туннель повели в сторону, чтобы можно было стоять, долбили попеременно. Старков сказал Хопнеру: — Буду выбивать лед вокруг снежной пробки. Здесь трещина, в которую нас втянуло. Вдруг дальше пустота? Едва Старков обрубил края снежной пробки, как послышался шорох нарастающего движения. Он отскочил. В ярком свете прожектора по склону потекла вниз нескончаемая лента сухого, еще не спрессованного снега. Весь склон почти до кузова снегохода покрылся свежим снегом и кусками льда. Через несколько минут обвал остановился. Пришлось поработать, чтобы вызвать новое движение. Вскоре снежная затычка исчезла. Во льду появилась глубокая пустая расселина — путь наверх. — Вот это дело! — Генри повеселел. Они со Старковым стали осторожно вырубать две ниши, все время находясь под защитой монолитной стены. Удалось продвинуться вверх метров на восемь. Спустились отдыхать. Джой погасил прожектор, заглушил двигатель. Отдых в этой влажной темноте с журчанием воды и нудной капелью нельзя было назвать особенно приятным. Снова вспыхнул большой свет, и удары кирки возвестили о начале работы. Продвинулись еще метров на десять. Когда боковые ходы достигли сплошного льда, пришлось сделать длительный перерыв: свет уже не достигал конца забоя. Общими усилиями сняли двигатель, перетащили его на раме ближе к забою и установили сбоку. А через три часа кирка Джоя Хопнера вдруг ударилась о… камень. Лед прижался к отвесной скале, которая чем дальше, тем все больше нависала над головой. И ни малейшей щели. Пришлось отклониться в сторону. Работали еще сутки. В штольне, идущей теперь прямо вверх, устроили лесенку из металлических колец кузова. Проходку вели зигзагами, не уходя далеко от каменной стены. За двадцать четыре часа у льда отняли еще метров тридцать. Глухое урчание льда прозвучало сигналом опасности. — Скорей вниз! — крикнул Алексей. В штольне находился Джой. С быстротой гимнаста съехал он по наклонной. — Что случилось? — В рыжеватой бородке Джоя блестели осколки льда. Гул накатывался со всех сторон, словно гром. Из штольни хлынули мелкие камни, битый лед и мгновенно заполнили все вокруг. Воздух дрогнул. Над головой протяжно загудело, грохот прокатился в сторону озера и медленно затих. С лихорадочной быстротой отгребли лопатами завал, освободили вертикальный ствол. Он еще оставался. Но на высоте примерно семи метров встретилась монолитная ледяная стена. Она прилипла к скале. Никаких признаков штольни. — Сизифов труд, — констатировал Генри, спустившись вниз. — Ледяная крыша под большим давлением с боков. Она нас не выпустит. Эластичная конструкция. Отчаянные усилия выбраться из плена предпринимались еще дважды. Но лед упорно сжимал стены колодца. Малейшее сотрясение крыши, столь частое в это время года, сводило на нет всю работу. Полярники потеряли счет часам и сменам. Они обросли бородами, напряженные глаза воспалились. Влажные сумерки действовали на нервы. Стали приходить мысли совсем уж неподходящие. Всему бывает предел. Генри Хопнер все чаще задумывался. Выражение доброй и твердой энергии, которая украшала черты его крупного лица, затуманилось озабоченностью. Ловушка захлопнулась. Конец?.. Командир сидел на большом камне около бездействующего генератора, положив на колени большие руки. Джой ушел вниз. Перселл прохаживался возле заброшенного штрека и покусывал ногти. — Нет выхода, — сказал Хопнер. — Безвыходное положение тем и заманчиво, что если из него выходят, то только с честью. — Алексей произнес фразу одним духом. — Слова, слова, Алэк. Что придумать? — Поиск. Больше ничего. Ведь мы не знаем, где находимся. Что там, ниже? — Дорога в ад… Тем временем Джой Хопнер спустился к озеру, оступаясь на скользких камнях, и пошел по берегу, затем вдоль ручья все вниз и вниз. Примерно в полутора километрах от кузова снегохода он заметил, что темнота стала редеть. Присмотрелся. Да, светлей. Джой прошел еще метров пятьсот в сумрачной полутьме. Неужели где-нибудь выход к солнцу? Или тоньше ледяная крыша? Прямо перед ним скатывался с отвесной кручи ручей. Джой заглянул вниз. Слабеющий фонарь плохо освещал черные камни, покрытые слизью. Тогда он погасил свет. А привыкнув к темноте, увидел перед собой поразительную картину. Обширная долина уходила в сумрачную бесконечность. Там блестели ручьи, холмистый берег справа дымился, какая-то растительность покрывала ближние камни, тянуло странным душным ветерком. Над всей этой почти фантастической картиной неярко, зеленовато светился ледяной свод. Где-то глубоко в своде — или за ним? — переливались, играли розовым, оранжевым и красноватым светом столь знакомые каждому полярнику сполохи полярного сияния! На одно мгновение Джой позабыл, что он в мрачном заточении. Казалось, что над ним просто тусклое небо. Он с изумлением рассматривал странный ландшафт. Джоя поразила еще одна мысль, внезапно возникшая в воспаленном уме: куда-то текут ручьи… Может быть, там… О боже, разве не ясно, что в океан, окружающий этот великий материк! Менее чем в сотне километров от них, да-да, в семидесяти примерно километрах на север море Росса, шельф Росса! Путь любой реки — это же путь к морю! Джой опрометью побежал обратно. — Там… целый мир! — сказал он голосом Колумба, увидевшего неизвестную землю. — Там черт знает что!.. — Выпей воды, — посоветовал Генри. — Садись. А теперь говори. Джой рассказал об увиденном, не преминув сказать, что, может быть, удастся выйти из плена в устье подземной реки. — Слушайте, капитан, — воскликнул он, — вас ждут чудеса в духе Конан-Дойля! И если старому полковнику загадочные миры только снились, вы можете увидеть их собственными глазами! Все это Генри пропустил мимо ушей. Он коротко спросил: — Что решаем? Идти? Вновь появилась надежда. Загремел остывший двигатель, пожирая последнее горючее. Вспыхнул большой свет. Алексей поставил на зарядку аккумуляторы. Проверили и сменили одежду. Генри Хопнер открыл ящик с бумагами. Дневники, наблюдения, подготовленные доклады. Он глянул на Старкова. — Я лучше оставлю здесь продовольствие, чем эти бумаги, — сказал Алексей. — Для чего мы работали? — Уложите их, ребята, в мешок, — отозвался Джой. — Я понесу. Силенка есть. Одежда, оружие, веревки, инструмент, портативная рация, продукты. Когда заплечные мешки, казалось, готовы были расползтись по швам, выяснилось, что нужно взять с собой спиртовку, горючее для нее, несколько шашек тола. Выключили двигатель, присели на минуту, послушали звон нескончаемой капели. — Кажется, все, — сказал Генри. — Топаем, ребята.7
Шли гуськом, опираясь на кирки и ломы. Желтели в сумерках огоньки, звякало железо. Вокруг звенела капель, совсем по-земному журчал мелкий ручей и только изредка где-то страшно ухало: то давила и оседала грузная, миллионнотонная ледяная сфера, замкнувшая этот мрачный мирок. Довольно скоро спустились к водопаду. — Погасите свет и смотрите. — Джой протянул вперед руку. — Нигде вы не увидите таких красок. Трудно описать этот странный свет, очень отдаленно напоминавший лунный. В нем застыл холод полярных пустынь и чуждая природе искусственность. Свет был и близок и далек. Лед светился где-то в глубине, источник этого непонятного света был заточен в полупрозрачную массу, как в зеленоватую колбу. В стороне нашли спуск. По мокрым скалам сошли вниз, миновали странные, как будто источенные временем кручи. Стало заметно теплее. Берег ручья, изрезанный глубокими щелями, сделался круче, сам ручей — шире и спокойнее. Дальше тянулась довольно ровная площадка с едва заметным уклоном. На возвышенности стоял белый столб пара. Капало меньше, вода почти тотчас же испарялась с поверхности. Дико, любопытно и… страшновато. Куда идем? Что впереди? Сделали привал. Сняли мешки, с удовольствием полежали на теплых и гладких камнях. — Мы осмотримся, Генри, — сказал Джой, вставая. Вместе со Старковым он пошел влево по равнине, туда, где свет казался ярче. — Любопытно, что это за вода? — Перселл показал на ручей. — Недалеко, пожалуйста, — предупредил командир. Генри остался один. Удивительный мир! Странная фантазия природы. На память пришли слова начальника станции, крупнейшего гляциолога Уолтера: «Мы еще вскрикнем от удивления, если увидим то, что сейчас укрыто ледяным панцирем. Мы многого не знаем…»
У профессора Уолтера имелись основания говорить так. Звуковой метод исследования льдов Антарктиды позволил довольно точно проследить рельеф материка подо льдом. Советские и американские маршруты пересекли материк в нескольких направлениях. На основании полученных данных была составлена карта гор, равнин и плоскогорий Антарктиды. Но сколько еще осталось незатронутых пространств, площадь которых нередко больше территории крупных государств Европы? Сколько загадочных уголков! Хотя бы этот… Ведь ни одна экспедиция не нащупала пустоты. Генри взял в руки обломок, поднес к глазам, осветил и едва не вскрикнул от удивления: он держал неизвестный минерал. Тяжелый, стального блеска кусочек обладал какой-то странной структурой, напоминая коричневато-черную смолу. Хопнер перебрал в памяти все известные ему горные породы. И вдруг вспомнил. Да, да! Он видел такой минерал. Русская океанологическая экспедиция на «Витязе» выудила его из океанских глубин. Порода, близкая к мантии Земли. Вскочив на ноги, Генри поднес ко рту свисток, чтобы вернуть ребят, но в это время от реки послышался крик о помощи. Голос Перселла. Крик повторился уже слабее. В сотне метров от него к реке промчались две фигуры. Раздались ободряющие возгласы, проклятья, удары. Командир выхватил пистолет и бросился на помощь. Он подбежал, когда Алексей оттаскивал Перселла от кромки берега. Капитан с ужасом оглядывался на черную реку. Джой шумно бил тяжелым ломом по серому мягкому существу, растекающемуся на камнях. — Что случилось? — Хопнер схватил Алексея за плечо. — Какая-то тварь… Перселл едва не поплатился жизнью. — Она тащила меня, — задыхаясь, проговорил капитан. — Хорошо, что мы оказались близко, — сказал Алексей, утирая потный лоб. — Вот чудеса, Генри! Мы попали в мир странных существ. Подземелье имеет свою флору и фауну. И не безобидную, как видим. Хопнер осмотрел то, что осталось от животного. Серое, расплывчатое тело горбилось на берегу. Джой почти рассек его пополам. Из-под гребенчатых краев трехметрового тела гигантской мокрицы выглядывали десятки присосок-щупалец метровой длины. Сейчас они беспомощными жгутами лежали вокруг тела, но, когда сцапали Перселла и потащили в воду, он смог только слабо крикнуть — так крепки они оказались. — Что за мразь! — первое слово, которое пришло на ум Хопнеру. — Гигантская безглазая мокрица… — У нее, по-моему, добрая сотня глаз, — поправил Джой. — Вот эта гребенка по краям все видит. Когда я подбежал, она пятилась от меня. — Видит или чувствует? Откуда она взялась, Перселл? — Не заметил. Я стоял на берегу и вдруг почувствовал тяжесть на ногах, на спине, на затылке. Она обхватила меня, навалилась и поволокла к речке. Она почти раздавила меня. Джой сорвался с места. — Наши мешки! — закричал он на ходу. Все бросились за ним. Около вещей суматошно копошились длинные живые ленты, они обвили мешки, но никак не могли стронуть их с места. Откуда-то из-за скал, перегибаясь всем телом, как гусеницы, спешили новые твари. Бледные подвижные ленты не походили на змей, они скорее напоминали разросшегося до невероятных размеров солитера.. Джой орудовал длинным ножом. Битва могла затянуться, если бы не случайная находка Алексея. Он включил фонарь. И там, куда попадал острый луч света, черви падали парализованными. В четыре луча быстро отбили нападение. Бледные ленты скрылись в полутьме. На поле боя остались куски белых тварей. Их мертвые тела иной раз доходили до четырех метров в длину. Сегменты квадратной формы, из которых было составлено тело гигантов, напоминали белые диванные подушки. Каждая из таких подушек некоторое время еще жила самостоятельно, дышала, билась. Поверхность их при ближайшем рассмотрении оказалась ворсистой. Это были органы чувств и, возможно, пищеварения. — Ну и мирок! — сказал Джой, усаживаясь. — Знаете, ребята, надо удирать отсюда, пока не встретили что-нибудь похуже. Данте и тот не выдумал для своего ада подобных тварей. — Ты не сказал о растениях, — напомнил Старков. — О да! Там, выше, мы видели кусты. Этакие прозрачные создания, похожие на хрусталь. Но запах! — Ладно, делаем еще переход, а потом позаботимся о ночлеге. Здесь не просто отыскать безопасное место. Как вы, Перселл? Можете идти? — Могу, Хопнер. — Капитан старался держаться поближе к командиру, он теперь боялся отстать, боялся теплого полумрака. Шли часа два, не останавливаясь и не отклоняясь больше от берега ручья. Генри рассказал о горной породе, которую они запросто топтали сейчас ногами. — Возможно, шестой материк в свое время выдавился в океане из глубин Земли, а ледовая крыша, возраст которой исчисляется в десятки тысяч лет, предохранила вещество Земли от перерождения, от новых пород, вулканических и наносных слоев. — А тепло? — спросил Алексей. — Как ты думаешь, это связано с магмой? — Думаю, что магма тут ни при чем. Перселл заинтересованно прислушивался. Они шли быстро, держались берега реки. Почти у самой воды подымались прозрачные кустарники, ломкие и пахучие. Они испускали пряный горьковатый запах, напоминающий миндаль. Вода в ручьях заметно потеплела. Высоко над головой светился лед — крыша гигантского склепа. — Горит и не сгорает! — не переставал удивляться Джой, особенно заинтересовавшийся природой сияния в глубине ледяного свода. — Висит и не падает, это еще более странно, — сказал Алексей. — Очевидно, ледяная сфера опирается на склоны высоких гор по краям этой долины. Широка ли она? Похоже, что ледяная крыша лежит на опорных колоннах не одну тысячу лет, коль скоро здесь успела обособиться своя, эндемичная жизнь. Прочная крыша все время обтаивает и оседает. Алексей, как и остальные пленники мрачного грота, оброс светлой квадратной бородкой и оттого казался полнее и старше. Серые глаза его с любопытством и горячим интересом смотрели из-под козырька финской шапки. Старков при каждом удобном случае делал записи в своем блокноте. И тогда за ним с особым вниманием следил капитан Перселл. Похоже, он недоумевал, как можно в столь драматическое время, когда надо думать о спасении собственной жизни, заниматься изучением странностей природы или ломать голову над разными гипотезами? А может быть, он расценивал поведение Старкова и с другой точки зрения. Продолжая мысль Алексея, Генри Хопнер сделал вывод, что такая обширная проталина в ледниковом панцире Антарктиды — следствие теплоиспускания Земли. — Ты считаешь, что под нами тяжелые руды? — спросил в свою очередь Алексей. — Не знаю, что за вещество, но температура камней, их строение заставляют меня ответить, утвердительно. Не обязательно уран. Возможно, элементы, которых мы просто еще не знаем. — Почему тогда молчит счетчик? — Алексей постучал пальцем по миниатюрному Гейгер-Мюллеру. — А если эта теплота не связана с радиоактивностью? Вещество мантии может обладать огромным запасом энергии. Джой внимательно слушал разговор, не переставая в то же время поглядывать на сияющий лед, в котором все время происходило какое-то световое движение. Сполохи не стояли на месте, они перемещались, гасли, разгорались розовым, синим или вдруг, как включенная неоновая трубка, начинали дрожать. — А знаете, ребята, — сказал вдруг Джой, — свечение льда тоже результат этой самой активности Земли. Перселл, это по вашей части. Слушайте. Активные частицы Вселенной прорываются к Земле больше всего в районе полюсов, где существует воронка в магнитном поле планеты. Взаимодействие таких частиц с атмосферой создает сияние в пределах ионосферы. Допустима аналогия: энергетическое излучение из-под наших ног заставляет светиться лед. Что вы на это скажете? Смотрите, как неровно он светится. Очаги особой активности расположены, вероятно, против участков наиболее интенсивного свечения. Ну хотя бы вон там, впереди и левей. Он показал на яркие полосы света. Сияние льда в том месте привлекало. — Может, сходим туда, посмотрим? — Да вы что? — воскликнул Перселл, крайне удивленный предложением Джоя. — Терять время… Я просто не понимаю, Хопнер… — Успокойтесь, капитан, — сказал Генри, — мы не будем отвлекаться. Некоторое время Перселл шел задумавшись. Потом подстроился к Хопнеру-старшему и, когда Джой с Алексеем несколько поотстали, сказал: — Похоже, судьба уготовила для нас открытия огромной важности. Если мы выберемся, возникнет немалая сенсация. — Похоже на то. — Тяжелые элементы — это уже сфера военных. — Скорее сфера физиков. — Американских физиков, надеюсь? — Перселл сбоку заглядывал в лицо Хопнера. — Вы опять за свое, Перселл? — устало спросил командир. — Просто я хотел напомнить вам, что открытия эти не должны принадлежать никому, кроме, американцев. — Чушь! — Послушайте, командир… — Идите к черту! — рявкнул вдруг Хопнер и так глянул на Перселла, что тот сразу отстал.
8
Шли все медленнее и тяжелее. Устали. Генри скомандовал: «Привал!» Отошли от реки, выбрали возвышенность и со вздохом облегчения скинули свинцовые мешки. С ровного пригорка довольно хорошо просматривалась долина. В сумерках поблескивали капельки воды на прозрачных ветках невысоких, по пояс, кустарников. Они росли куртинами там, где пониже. Коричневая равнина уходила в тусклую неизвестность. Над головами дрожало лихорадочное сияние. Таинственная и тревожная панорама возбуждала нервы, не давала покоя. Казалось, вот-вот что-то должно случиться. Бледные черви не беспокоили людей на марше, но стоило остановиться, как они бесшумно атаковали лагерь. Противные твари скачками приближались с двух сторон. Но теперь это не вызывало особой тревоги. — Займись ими, — вяло приказал Генри брату. Джой Хопнер включил свет и как огнеметом провел по рядам атакующих. Бледные ленты свивались в кольца и затихали. Спустя минуту Джой увидел особо крупного и гибкого червя. Подпустив поближе, Джой достал его лучом. Бледная лента свилась в кольцо. Он подошел поглядеть. Плоские подушки, из которых состояло тело пресмыкающегося, дышали и вздрагивали. Джой брезгливо развернул холодного червя. Длина его достигала пяти метров. Когда на тело падал яркий луч, кожица мгновенно вспухала и распадалась. Удивительно, как на них действовал свет раскаленного волоска в лампочке! — За водой! — крикнул Алексей. У самого берега тоже стояли хрустальные кусты. Их ветки с треском ломались от малейшего прикосновения. Джой осветил черную воду. Алексей нагнулся с канистрой. В то же мгновение из глубины прямо на них выплыла рыбина с выпученными глазами. Свет ослепил ее, рыба медленно поворачивалась кверху брюхом. Алексей подцепил добычу. Рыба выглядела вполне по-земному, если не принимать во внимание понятной в здешних условиях бесцветности. Она была белой, чисто белой. Зажгли спиртовку. Джой рассек рыбину. Когда он извлекал внутренности, потекла кровь. Но это была белая кровь. — Еще диво, — пробормотал он. — А как же с гемоглобином? Хопнер-старший вдруг ударил себя по лбу: — Эта рыбина напоминает мне одну историю. Помните, нам сообщили, что неподалеку от Мак-Мердо в море изловили точно такую же? Биологи ломали себе головы, что это за существо. Несомненно, наша речка впадает в море Росса. Мы на верном пути! Выйдем к морю. Да не глядите так строго, Перселл! Радуйтесь или молитесь, если вам больше нравится. Давайте выпьем по этому поводу, ребята! Бесшумное пламя спиртовой горелки, желтые лучи фонарей и недреманное дежурство экипажа «Снежной кошки» заставляли бледное население странного мира держаться на почтительном расстоянии. За кустами шуршали ленты гигантских червей, из черной воды на берег выползали огромные мокрицы с мохнатыми ногами, в воздухе мелькали тени неуловимых существ, но весь этот страшный, неведомый мир уже не пугал уставших людей. Могуче дышал во сне Генри. Он спал, раскинув руки. Тихо подремывал капитан Перселл, положив под руку фонарь и пистолет. По-детски поджав ноги, спал младший Хопнер. Над лагерем возвышалась одинокая фигура Алексея Старкова. Он сидел на мешках, поигрывая фонарем. Его двухчасовое дежурство подходило к концу, когда что-то вдруг изменилось. Исчезли бледные черви, проворно скрылись в реке мокрицы, все как-то затихло, в воздухе повеяло странной тревогой. Алексей подозрительно осмотрелся. Неужели какая-нибудь тварь поопаснее? Ему показалось, что сияние льда над головой стало ярче, вдали задрожал воздух, тяжелый гул прокатился слева, в километре от них раздался округлый, несильный взрыв, по звуку похожий на подводный. Все проснулись. К ледяному своду поднялся белый и толстый сгусток пара, а в центре его тяжело, словно бы нехотя, взошло куполообразное, ярко-красное вязкое пламя. Оно вздыбилось пузырем в окружении дыма и пара, и даже здесь, на значительном расстоянии, стало душно, как в бане. Клубок огня, поглотив пар и дым, странным видением постоял еще две-три минуты и начал медленно опадать. Камни на берегу реки все еще мелко подрагивали, тревога носилась в воздухе, купол огня исчез, оттуда пришло дыхание угарного газа. Потом все постепенно утихло, и только лед над местом катастрофы, впитавший красные краски, все еще продолжал вздрагивать. И тогда сверху полилось. Это был не дождь, даже не ливень, а какое-то беспорядочное падение воды пластами в десятки и сотни литров сразу. Пришлось натянуть капюшоны и потуже завязать непромокаемые мешки. Весь берег дымился, как горячая земля во время июльского ливня. — Пошли посмотрим, — сказал Джой. — Туда? — Генри не спешил дать разрешение. Вдруг это опасно? Однако не утерпел и взвалил на плечи мешок. Они поднялись по склону огромного гладкого бугра. В центре его увидели впадину диаметром метров в сорок. — Еще полчаса назад здесь было озеро! — воскликнул Джой. — Смотрите, остатки хрустальных кустов. О-ля-ля, как они обгорели! Это же пепел, затвердевший пепел. А вот и наши знакомые рыбы. Несколько удлиненных кусков белого пепла валялось по склону, формой своей напоминая рыб. Видимо, извержение началось в самом озере. Его дно поднялось и раскалилось, часть воды испарилась мгновенно. Часть выплеснулась на берега и уже здесь превратилась в пар. Мгновенно нарастающий жар испепелил кусты и рыбу. На месте озера в довольно глубоком кратере все еще густо переваливалось малиновое месиво, оттуда доносился гром и ворчание растревоженной материи, над кратером курился едва заметный дымок. В вышине ответно полыхал ледосвод, оттуда лился обильный дождь. Стоял адский шум. Затрещал счетчик Гейгера. — Довольно добродушный вулкан, не правда ли? — заметил Джой. — Это не вулкан, — сказал Генри. — Как бы ты назвал его? — Освобожденная сила мантии. — Не понимаю, — сказал капитан. — Вы записывайте, записывайте, Перселл! — крикнул Джой. — Еще никто не видел подобного явления. Огонь в аду. — Бунтующая магма ведет себя не так, — продолжал Генри. — Она более агрессивна. Оглянитесь вокруг: ни пемзы, ни потоков лавы, ни других продуктов вулканической деятельности. Очевидно, временами усиливается разогрев каких-то очень активных веществ и происходит своеобразная вспышка, возможно плазменный удар изнутри. Почему он не наберет большей силы, почему не разнесет в пух и прах ледяную крышу над собой и все, что в сотне километров от него, об этом приходится только гадать. Больше того, ведь и радиация повысилась не очень сильно. — Зато смотри, как разгорелось сияние! — заметил Джой. — Союз пламени и льда. Действительно, вокруг стало значительно светлее, хотя дождь и продолжался с прежним шумом. Было как в пасмурный июльский день на средних широтах, когда над землей низко висят дождевые тучи. — Еще одна гипотеза, — сказал Старков. — Допустим, ты прав, Генри, это бушует плазма. Тогда обуздать ее в этом районе может только магнетизм Земли. Вспомни, отсюда совсем недалеко южный магнитный полюс. Средоточие сил планеты. Группа подошла к берегу и направилась вниз по течению. На одном из крутых поворотов Старков, наверное, уже в сотый раз стал зарисовывать план местности с необычайным кратером в стороне от реки. Судя по туманным очертаниям, ширина долины превышала здесь два километра. По обеим сторонам могла находиться и горная цепь, служащая опорой ледяному своду, и пологие склоны, где лед и камни сходятся, образуя единый монолит. А возможно, там входы в другие долины и бесчисленные ущелья, протаявшие от земного тепла. Кто-то в свое время разберется в этом подледном лабиринте. Тогда абрис местности, который сейчас делал Старков, будет для исследователей первым путеводителем в таинственном мире. Вероятно, так думали Хопнеры, терпеливо дожидаясь, когда Алексей закончит свою работу. А Перселл испытывал мучительное чувство подозрительности. Оно становилось все сильнее по мере того, как открытия следовали за открытиями. Не слишком ли много знает Старков? Не азарт исследователя руководил Перселлом, а проклятый вопрос: кто воспользуется открытиями? — В общем направление сохраняется, — сказал Алексей. — Мы прошли полсотни километров, берег материка недалеко. Насколько я припоминаю, эта часть берегового обреза довольно гориста. И никаких рек там не обнаружено. — Сверху никаких. А подо льдом? — Знает только бог, — скромно заметил Джой. — Шельф Росса за береговой линией изучен подробно, говорил Генри. — Ребята из Литл-Америки на восточном берегу и со станции Мак-Мердо на западном пересекли ледяное поле во всех направлениях. Заурядная картина: неглубокий морской залив, набитый льдом. И все. Алексей спрятал блокнот и некоторое время смотрел в сумрачную даль подледного царства. Потом улыбнулся и сказал: — Один из японских ученых недавно подарил человечеству отличную мысль. Он заявил, что таинство бесконечного постигается не объяснениями, а догадками. В нашем случае утверждение это вполне уместное. Ничего не объяснишь. Будем строить гипотезы. После короткого возмущения в подледном мире установилась глубокая тишина. Дождь постепенно прекратился, жара спала. Парили теплые камни, во впадинах стояли лужицы воды. Прозрачные кустарники разнеженно лежали на твердом грунте. В реденьких зарослях копошились проворные жучки и черви. Некоторые из них светились. Бесчисленные насекомые появились в воздухе, они ловко увертывались от столкновения с пришельцами. Только по движению воздуха возле лица можно было судить о величине и скорости пролетавших существ. Иногда чьи-то мягкие крылья почти касались шапки или плеча. — Хоть сетью их лови, — пробормотал Старков. — Кого — их? — обернулся Джой. — Ну, этих, шныряющих мимо нас. — Наше счастье, что они мирно настроены. Опять замелькали бледные ленты червей. Гибко сворачиваясь, они скачками подкрадывались с боков и неожиданно обвивали чьи-нибудь ноги. Тогда раздавалось низкое, басовитое проклятие Генри или высокий, нервный вскрик Перселла. Острый луч мгновенно парализовал чересчур смелого червя и заставлял шарахаться в сторону десяток других. В русле реки, где черная вода лизала такие же черные камни, плавали фосфоресцирующие рыбы и странные существа, отливающие зеленоватым бесовским огнем. Иной раз там разыгрывались короткие, но жестокие драмы. Бурлила вода, взлетали вверх белые плавники, чье-то разорванное тело, вспыхнув последний раз, потухало, и по течению плыли куски пресмыкающихся или рыб. По-видимому, в реке жили не только гигантские мокрицы. К концу шестидесятого, по подсчетам Генри, километра четверо людей свалили с плеч мешки и уселись на теплые камни. Местность приобрела беспокойный характер, вправо по ходу поднялся некрутой склон, появились обломки скал и огромные глыбы льда, скатившиеся сверху. Ландшафт напоминал вулканическую страну. В стороне от реки чернели глубокие разломы, до дна которых не доставал луч фонаря. В стенке одного из разломов Хопнер увидел странный минерал и ударом кирки раскрошил его. — Знакомая штука, — не без удивления произнес он. — Дай-ка глянуть. — Алексей осветил фонарем кусок серо-голубоватой мягкой породы. — Похоже на кимберлит. — Ты угадал. Мне приходилось бывать в алмазных копях. Примерно такая же порода встречается там на большой глубине. Джой и Перселл склонились над находкой. Потом, не сговариваясь, — осветили под собой камни и, медленно ощупывая их лучом, принялись искать… алмазы. Генри засмеялся. — Это вам не пещера Аладина. Но в принципе можно найти. Запишите, капитан. Еще одно чудо. Господи, как мне хочется скорей вернуться сюда в полном вооружении! Старков сказал размышляя: — Кимберлит — продукт вулканической деятельности. А раз так, значит, мы действительно у берега. Новая геологическая провинция. Вот бы порыться здесь геологам!.. Генри вдруг обнял его. Он ценил в людях науки одержимость, пристрастие к поиску. Именно этим качеством и обладал Старков. Даже в нынешних обстоятельствах. Даже рядом с Перселлом, которого он, конечно, понимает. Какое им дело до приоритета, если благодаря случайности открыт загадочный и непознанный мир! Пусть сюда войдет Ее величество Наука и пусть все ее достижения служат Человечеству! — Ладно, — сказал Хопнер. — Отдыхать! Перселл, подежурьте ровно час. Всего час.9
Капитан сидел в трех шагах от Генри Хопнера. Рядом с братом примостился Джой. Он тоже уснул. Алексей Старков повернулся спиной к Перселлу, обнял колени, согнулся и задумался. Подозрительность Перселла не могла не породить в нем чувство презрения к этому человеку. Сколько уже раз Старков призывал на помощь свою волю, чтобы остаться невозмутимым. Очевидно, у Перселла такое воспитание, он боится русских коллег, принявших участие в исследовании Антарктиды. Ведь этот материк — земля международная, здесь возникло товарищество ученых. Как можно вносить сюда элементы неприязни, зависти, претендовать на большую роль одних и меньшую — других? Перселл уже сделал черное дело. Алексей заметил, как нервничает Генри. Старший Хопнер, конечно, честный человек, но и он стал более замкнут и молчалив. Только Джой, веселый и непосредственный по натуре, неуязвим для перселловской агитации. За спиной Старкова раздался шорох. Рядом усаживался Перселл. Бледное лицо его было задумчивым и усталым. Черная борода густо опушила щеки и подбородок. — Не спится? — спросил капитан. Алексей пожал плечом. Пустой вопрос. — Вы не задумывались о нашем положении? — Об этом нельзя не думать. — Я убежден, что мы выберемся. — Представьте, я тоже. — А что будете делать, когда вернетесь в Мирный? — А вы? — Алексей понимал, куда он клонит. — Буду писать. Сделаю подробный отчет о странном приключении. Воздам должное мужеству Хопнеров, вашей выдержке. — Вы только не отвлекайтесь при этом, капитан, — сказал Алексей. — Стараюсь. — Перселл почувствовал намек. — Вы слишком много думаете о судьбе наших открытий. Едва ли это главнее самого открытия. Уж если задумана книга, воздайте должное ученым Антарктиды. Разве не заманчиво поведать миру о единственном пока опыте международного сотрудничества людей науки, о дружеской атмосфере среди ученых разных национальностей и убеждений? — Боюсь, что я не заметил ничего такого, — ответил Перселл. — Жаль. Постарайтесь хоть здесь увидеть главное. Не пытайтесь расшатать дружбу. — Я не понимаю… — Перселл, кажется, не ожидал столь прямого обвинения. — Зато я отлично понимаю. — Алексей повысил голос. Он был готов высказать все. Но в это время рядом глубоко вздохнул Генри Хопнер и спросил далеко не сонным голосом: — Что происходит, Алэк? Заворочался, потянулся Джой. — Я видел счастливый сон, — сказал он, вытирая платком лицо. — Ко мне подошла Софи Лорен и поцеловала прямо вгубы. — У тебя мокрое лицо, — Генри посветил фонарем. Джой осмотрел платок и горестно сказал: — Следов губной помады не видно. Увы, все гораздо прозаичнее. Просто меня окатило солидной порцией холодной воды. Джой умел поднять настроение. Грозные тучи открытого разлада рассеялись. Люди пошли дальше. Мир вокруг продолжал изменяться. Ледяная сфера стала ниже, сияла ровно, но не ярко. Меньше капало. Оглядываясь назад, Джой видел вдали как бы зарево. Наверное, именно там находился центр удивительного грота, а возможно, и главный источник тепла. Здесь камни были еще теплыми, по сторонам также мелькали бледные черви, но они казались менее подвижными. Стало холоднее. Все говорило о близком конце затянувшегося поиска. Нервы полярников были натянуты до предела, чувства обострились. Никак нельзя было подвергать испытанию товарищество и выдержку. Кто знал, какой выходки можно ждать от замкнувшегося Перселла? Он стал свидетелем и участником интереснейших открытий. Он боялся за судьбу этих открытий. Перселл примерялся к ним, как хозяин. Он считал всех русских захватчиками, которые пойдут на что угодно, лишь бы забрать в свои руки весь мир. Он не мог допустить, чтобы русские узнали об открытиях. Что же ему делать? Перселл боялся додумать свою мысль до конца, однако вывод напрашивался сам собой. Усталые люди шли тяжело. Позвякивало железо в руках Генри Хопнера, глухо стучали о камень окованные ботинки. Далеко позади грохотал ледяной гром. — Сколько еще осталось, Джой? — спрашивал командир, чтобы хоть вопросом отогнать гнетущую, тяжелую тишину. — Не больше десяти километров. Свод над нами опустился. Свечение его тускнеет. — Но воздух все еще не чист. Разве что прохладнее. И снова шли в молчании, каждый думал о своем.10
Часа через три впереди показалась темная возвышенность. Река повернула влево. Берега ее поднялись, пенный поток разогнался, он свирепо гудел в черных отвесных берегах. Заметно потемнело. Уже чувствовался холод, камни под ногами стали ледяными, свод изукрасился белоснежной изморозью. — Джой, нужна небольшая разведка. — Одну минуту, командир, — отозвался Хопнер-младший и пропал в темноте. Вернулся с огромным куском чистейшего льда. — Посмотрим, куда его потащит, — Джой бросил льдину в речку. Белый предмет пропал в черной воде, выскочил и поплыл в свете фонаря. Джой пошел следом. Льдина ударилась о береговой выступ, распалась и исчезла. — Не очень весело, — вздохнул Джой. — Эта река убегает прямиком в ад. Доверяться ей нельзя. Что скажет Алэк? С дружеской улыбкой он посмотрел на Старкова. Светлая борода и усы делали Старкова суровее и старше. Алексей очень осунулся. — Поищем иной путь, — Старков произнес это без улыбки. — Ну, ну, дружище, выше голову, — сказал Генри. — Борьба продолжается. Ты еще выступишь на симпозиуме и расскажешь не только о своей гипотезе, но и обо всей этой чертовщине! Капитан отошел в сторону и сел. Слова командира ему не понравились. — Военный совет, ребята. — Генри тоже сел. — Что делать? Мы рядом со стеной. Доверимся реке? — Надо узнать, куда уходит река, — сказал Алексей. — Постигнет неудача, будем выстукивать стены и потолок. Солнце где-то рядом. — Вы, Перселл? — Искать выход, что же еще? Места, где остановились ученые, находились на высоте ста метров над уровнем моря. Справа подымалась каменная стена, похожая на основание горной цепи. Ее крутые склоны служили опорой для ледяного свода. Впереди ледяная кровля круто садилась на невысокий скальный барьер. И лишь по другую сторону реки чернел темный провал. Там была пустота. Джой Хопнер зарядил ракетницу и выстрелил. Зеленый свет на несколько секунд выхватил большое пространство. Ракета на излете ударилась о ледяной свод, рассыпалась искрами и погасла. Темнота сделалась гуще. Старков вытащил моток веревки. — Свяжемся и пройдем по берегу до конца. Он занял место впереди, за ним встал Генри, третьим Перселл. Замыкал цепочку, страхуя остальных, сильный, коренастый Джой. Предосторожность не излишняя: они оказались в теснине ущелья. Река ушла вниз и ревела между сужающихся, почти отвесных скалистых берегов. Низко над головой висел белый свод. Весь в трещинах и старых провалах, он не внушал доверия. Шли тихо, чтобы звуком не вызвать обвала. Через час с небольшим исследователи оказались у крошечного скользкого карниза. На высоте пяти метров висел потолок, ущелье обрывалось, глубоко внизу грохотала река. Джой долго и старательно освещал мрачное ущелье. — Еще одна попытка, — предложил он. — Привяжите меня. Попробую спуститься вниз и выйти вон за тот поворот. — Страхую, — сказал Алексей. Намотав на руку веревку, он крепко уперся в многотонную глыбу. Джой осторожно спустился. Ему удалось отыскать новый карниз. Метрах в трех над потоком прошел он по карнизу и скрылся за скалой. Неутешительная картина открылась ему. Черные волны ударялись о крутолобый берег и, вскинувшись пенным водоворотом, устремлялись под прямым углом в зияющую дыру. Все здесь дрожало — и камни, и ледяной потолок над головой, и сам воздух. Нечего было думать проникнуть вместе с рекой на ту сторону каменной преграды. Туннель, куда всасывалась вода, мог выходить и на поверхность шельфа и на дно морское.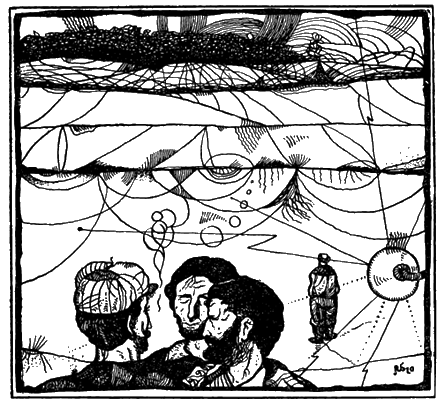
Возвратился Джой совсем удрученным. — Выхода нет. Река скрывается в узком туннеле. Вернемся? — А куда? И зачем возвращаться? Только сейчас до Перселла дошел страшный смысл сказанного. Путешествие оказалось напрасным. Потеряно время и надежда. Этот поход, занявший несколько суток, вымотал последние силы. На возвращение потребуется еще больше времени. У них просто не хватит пищи. Правда, там, в снегоходе, есть запас, но ведь надо дойти до него. Едва он представил себе мрачные долины, мертвый свет льда и грозное пламя извержения, как ему стало плохо. О господи, с ума можно сойти! Дрожащим голосом спросил: — Что дальше, Хопнер? Пустить себе пулю в лоб? Генри осветил лицо капитана. Оно было бледным, в широко открытых глазах бился отчаянный ужас. — Рано вас сморило, — сказал он. — Мы еще не сдались. Джой взял его за плечи и резко встряхнул. — Старина, ты же мужчина! А ну, подыми голову! Вот так! Чего раскис? Еще не все потеряно. Старков молча наблюдал за этой сценой. Он знал, что Перселл сдаст первым. Такова логика. Человек с жестоким сердцем легко переносит беду других, но не свою собственную. Генри повел их вдоль скалистой стены, все еще надеясь отыскать в ней какую-нибудь щель. Он верил, что их отделяет от мира только каменная стена. Не толстая стена. Проникал же сюда холод близкого антарктического моря! Перселл шел сзади. Иногда они расходились по изрезанным впадинам, теряли друг друга из виду, обшаривали в одиночку каждую трещину. Джой поминутно кричал: — Алэк! Капитан!.. Сходились на голос, на свет, совещались минуту-другую и вновь расходились, пока не случилось непредвиденное: потерялся Перселл. Капитан обнаружил узкую трещину в ледяной стене, проник в нее и неожиданно очутился в обширном зале. Покрутившись на месте, он мгновенно потерял ориентировку, заторопился, побежал вправо, влево, всюду натыкаясь на похожие трещины и проходы. Закричал, прислушался. Глухая тишина. Еще и еще закричал. Снова тишина. Страшная мысль пронизала его мозг: бросили, ушли… Это все Старков! Ослабели ноги. Он сел. Конец. Вскочив, снова стал кричать. Показалось, что кто-то ответил. Тогда Перселл выхватил пистолет и выстрелил. Ему и в голову не пришло, к чему это может привести. Дрогнул воздух. Все вокруг рушилось, ломалось и трещало. Перселл прижался к стене, выставив ноги. Перед самым лицом прошелестел холодный воздух. Раздался отчаянный крик боли. Большая глыба льда упала на ноги капитана. Перселл потерял сознание. Когда он пришел в себя, долго не мог понять, что с ним и где он. Боль сотрясала все тело. Он не мог шевельнуться, даже крикнуть. «Заживо погребенный», — с ужасом подумал он. Не услышав ответа капитана, Старков забеспокоился. Крикнув Джою, чтобы тот возвращался, он пошел влево, где до этого поблескивал луч четвертого фонаря. Перселла нигде не оказалось. Алексей- кричал, светил — ответа не было. Наконец он нащупал трещину. Видно, здесь. Вдруг страшная мысль пришла ему в голову: заманивает, чтобы разделаться в темноте… Хопнеры сколько угодно могут строить потом догадки. Заблудился — и все. Алексей выключил свет, крикнул из темноты раз, другой и прислушался. Тишина. Вот тогда-то и раздались выстрелы. Лавинный шум обвала заставил Старкова прижаться к стене. Это и спасло Алексея. Рядом рушились многотонные глыбы. Оглушенный, пол у задушенный, стоял Алексей у стены, пока не стихло. Тогда он осветил путь отхода. В трещину упал порядочный обломок льда, но через него можно было перелезть. Перселл услышал шорох, голос Старкова, но у него не нашлось сил отозваться. Началось забытье. Капитан очнулся от прикосновения руки. Алексей понял: жив. — Что с вами? — спросил он и, не дожидаясь ответа, начал кромсать топориком глыбу льда. Всю ее Старков разбить не мог. Только вырубить ноги… Когда он выволакивал тело, Перселл был в глубоком обмороке. Лишь у выхода, положив раненого и готовясь пойти на поиск Хопнеров, Алексей услышал тихое и тревожное: — Вы не бросите меня? — Спокойно, Перселл. Сейчас вернусь. Хопнеры бродили невдалеке, беспокойно переговаривались. — А я уже бог знает что подумал, — признался Генри. — Где Перселл? — У него разбиты ноги. Испугался одиночества, выстрелил и вызвал обвал. Они донесли капитана на брезенте до реки. Там его перевязали и посмотрели друг другу в глаза. Что дальше? — Пойдем искать брод, — твердо сказал Генри. — Осталась только территория по ту сторону реки. Они подняли Перселла и прошли километра два назад, где река поуже, устроили бивак и принялись изучать противоположный берег. Наконец удалось обнаружить «якорь». Джой вспомнил навыки своих далеких ковбойских предков. Не менее сорока раз кидал он веревку с петлей и кошкой, пытаясь заарканить каменную шею скалы. Наконец счастье улыбнулось ему. Веревка натянулась, ее закрепили на берегу хитрой петлей, которую можно было сдернуть с другого берега. Крепыш Джой стащил с себя куртку. — Я полегче, — сказал Старков, отодвигая его плечом. — Оставь, Алэк, он не отступится, — сказал Генри. — Его и маленького били за упрямство. С тех пор не изменился. Джоя привязали за пояс. Как кошка, скользнул он по провисшему тросу почти до середины реки и едва не коснулся спиной воды. Напряженно стал подбираться к тому берегу, и тут, у самого обреза скал, ему пришлось туго. Канат плотно прилегал к камням, руки не могли подхватить его. Каким-то невероятным, акробатическим прыжком Джой вынес свое тело на берег и лег обессиленный. Натянули еще трос, сделали петлю для ног, и переправа началась. Вторым перебрался Старков. Для капитана сделали люльку. Генри завершил рискованную операцию. Когда Джой и Алексей ушли на разведку, Генри зажег спиртовку и начал колдовать над больным. Положение Перселла было опасным, Хопнер делал все возможное, чтобы предотвратить гангрену. Тем временем разведчики изучали новый район. Площадка слегка подымалась, но ее не ограничивали близкие горы, а свод не нависал так низко, как на том берегу. Появилось предположение, что в темноте скрыты обширные пустоты. Идти было легко, ноги скользили по мокрой, но гладкой как стол плите из камня. Вдруг Старков остановился. — Ты ничего не слышишь? — спросил он возбужденно. Было тихо и темно. — Что с тобой? Озарение свыше? — Я чувствую дуновение воздуха, ветер! — радостным шепотом произнес Алексей. — Ветер!.. Он плеснул из фляжки на ладонь воду, смочил лицо и стал поворачиваться во все стороны. Мокрая кожа чутко улавливала едва приметные колебания воздуха. — Точно! Ветер! — крикнул Старков. — Это там, левее. Алексей тяжело побежал вперед, размахивая фонарем. Желтый луч метался по площадке, манил за собой. Джой побежал следом. Белая стена выросла впереди, как привидение. Строгая, холодная, почти отвесная, уходила она ввысь на десятки метров и там сливалась с ледяным потолком. Снова тупик, на этот раз ледяной. А как же ветер? Уж не почудилось ли? Они остановились и направили свет на эту холодную стену. Именно оттуда шла волна свежего, по-особому пахнущего воздуха. Он приносил в затхлую атмосферу подледного мира морозную чистоту бесконечных пространств. Измученные люди с жадностью пили этот воздух, и робкая надежда освещала их лица. — Погаси свет, — сказал Алексей. Полная темнота на несколько минут скрыла лица, белую стену, черные камни площадки. Они до судороги в шее задрали головы. Глаза постепенно привыкли к темноте. — Вижу! — голос Старкова прозвучал как заклинание. — И я вижу! — завопил Джой. — О-ля-ля! Там дырка! На высоте двадцати метров лед слабо светился. Словно тусклый зимний рассвет проникал в замерзшее окошко деревенской избы. Лед нехотя процеживал сквозь толщу неяркий, но белый свет, и этого было достаточно, чтобы понять главное — там трещина. Они бросились назад, крича во все горло. Не прошло и часа, как лагерь перебрался на новое место. Деловито поплевав на ладони, Джой и Старков ударили ломами по стене. Но Генри остановил энтузиастов. Он осмотрел гладкую стену, оценивая ее прочность. Затем сказал, ткнув кулаком в освещенный кружок льда: — Отсюда строим лестницу. Широкую лестницу, чтобы вынести Перселла. До самой трещины. У нас есть взрывчатка. Сначала глубокую нишу, а из нее уже наклонную лестницу. Джой вложил в свой удар всю тоску по солнцу. Из-под ломика брызнули осколки льда. Менее чем через час удалось пробить глубокие бурки. Генри сунул в них толовые шашки, поджег шнуры. Раздался грохот, от стены полетели первые куски льда. Воздух дрогнул, но уже не от этого взрыва, а от многоголосого эха, полыхнувшего в глубине пещеры. Где-то падали камни, рушились глыбы льда. А виновники этого грома уже копались в сделанной нише. Крупные уступы пошли наверх. Сыпался лед. Кончая смену, каждый останавливался на площадке и, задрав голову, смотрел на тусклое окно в мир: оно приближалось, хоть и не так скоро, как им хотелось.
11
Долгожданное избавление… Еще сутки-другие, они прорубят лестницу к окну, свяжутся по радио с ближайшей базой или поисковой группой, и затянувшееся опасное приключение окончится. В мире возникнет сенсация. Откуда-то появились силы. Хопнеры и Старков работали, как дьяволы. Со стены все время сыпался лед. Перерывы делались короче и короче — лишь для того, чтобы сделать бедняге Перселлу инъекцию, сказать несколько ободряющих слов да полежать с закрытыми глазами, восстанавливая силы. У Ивара Перселла нашлось теперь предостаточно времени, чтобы обдумать кое-какие мысли, роившиеся в воспаленной голове. Он жил в эти часы молчаливой, внутренней жизнью, пытаясь осмыслить все случившееся. Когда Алексей оставался с ним, чтобы покормить или сделать укол, Перселл неотступно следил за каждым его движением, глаза капитана выражали только боль и удивление. — Скажите, Алэк, я буду жив? — спросил он однажды. — Вы будете жить. Без ног, Перселл. — Я очень виноват перед вами… — Потом, потом. Не расстраивайтесь. Постарайтесь уснуть. Урвав из своего отдыха час-полтора, Алексей и Джой уходили в глубь пещеры. Они хотели собрать как можно больше образцов и считали невозможным сидеть или лежать, когда рядом был огромный, непознанный мир. За две экскурсии они собрали множество самых различных образцов породы. Некоторые из них оказались абсолютно незнакомыми. Тяжелейшие куски со стальным отливом, очень похожие на химически чистый кремний, заставляли думать о веществе, слагающем глубины Земли. — Впечатляет? — спросил Алексей, подбрасывая на ладони очередную находку. — Геологи разорвут нас на части, — ответил Джой. — Они охотятся за минералами на дне океанов, собираются бурить землю на глубину в пятнадцать километров, чтобы достать это самое. А здесь под ногами, как грибы в лесу. — Представь себе, что отыщут наши коллеги, если заложат буровые в районе плазменного кратера! Джой пробормотал что-то невразумительное. Фраза Алексея навела его на грустные размышления. — Честно говоря, боюсь этого, — сказал Джой. — В свое время физики проникли в тайну атомного ядра. А в результате водородная бомба, стронций-90 и всеобщий страх. Джина выпустили из бутылки. Что, если глубины Земли сулят нам столь же великое открытие? Я говорю о плазме во всех ее видах. Пока мы знаем это явление как разрушительное: огонь, смерть, дьявольские температуры. — На этот раз твои опасения напрасны. Вспомни о договоре, который подписан представителями наших стран. Договор запрещает использование района Антарктиды в военных целях. Никаких территориальных притязаний, никаких баз и ядерных взрывов. Только научные наблюдения, обмен информацией, сотрудничество. Будем надеяться, что не отыщется любителей погреть руки на нашем открытии. А если кто попытается, его образумят. Они возвратились нагруженные образцами, возбужденные, довольные. И сразу пошли к стене сменить Генри Хопнера. Работа заметно продвинулась. Пока Джой и Алексей рубили лед, Генри сидел с Перселлом. Делая перевязку, Генри увидел признаки страшного: у капитана синели пальцы ног. Хопнер-старший вернулся к работающим. — Ребята, если мы не передадим Перселла в руки хирурга еще двое суток, ему не поможет даже святой Ивар. Отпуска отменяются. Теперь одновременно трудились все трое. Вниз спускались, только чтобы перевязать раненого и приготовить ему пищу. И снова, удержав Старкова возле себя, Перселл возобновил прежний разговор. — Вы должны простить меня, Алэк, — прошептал он. — Считайте, что это сделано, — как можно веселее ответил Алексей. У капитана поднималась температура, глаза воспаленно блестели, он стал неспокойным, без конца говорил что-то. Наконец остались считанные метры. Трещина была рядом. Морозный ветер поигрывал над головой. Джой дотянулся киркой до изгиба. Трещина оказалась узкой, она шла в глубь стены, чуть вверх и где-то за поворотом светилась. Кирка Джоя проворно расширила ее. Можно протиснуться. Он сменил кирку на лом и взялся долбить шурфы. Один, другой, третий. Алексей и Генри чуть ниже расширяли лестницу. — Алло, Генри! — закричал Джой. — Давай заряды. Сейчас все будет кончено. Генри проворно спустился за взрывчаткой. Еще издали он крикнул Перселлу: — Мы у цели! — Где же свет? — слабо отозвался раненый. — Ожидайте, Ивар! Через несколько минут прогремел взрыв, второй, третий. Сверху сыпался дождь обломков, над стеной повисла колючая пыль. Алмазные грани ледяной стены засверкали. Стало заметно светлее. Перселл сощурился. Не дождавшись, пока осядет пыль, Джой поднялся по разрушенным ступенькам. На месте трещины возникла глубокая пещера. Руками, ногами он спихивал обломки, расширяя отверстие. Свет слепил его. Вместе с Алексеем он пробил в стенах отверстия еще для двух зарядов, прогремел второй взрыв. Словно солнце взошло. Темнота отступила. Перселл попробовал повернуться. Как он хотел глянуть на небо!12
Трещина раздалась. Дым и ледяная пыль вспыхнули, пронизанные голубым светом, от которого экипаж снегохода уже начал отвыкать. — О-ля-ля! — закричал Джой. Он подпрыгнул на месте и, обхватив за шею брата и Старкова, заорал что-то еще. В лучах белого света их заросшие физиономии выглядели как неудачный грим на актерах, играющих бродяг. Воспаленные глаза покраснели, одежда была рваной и грязной. Совсем иной предстала при дневном свете их обширная тюрьма. У подножия ледяной стены, где беспорядочно грудились обломки, припорошенные пылью, лежала глубокая синяя тень. А дальше, куда вонзился светлый луч, камни переливались темно-красными гранями. То, что при свете фонарей казалось густо-коричневым, на самом деле было вишнево-красным. Плотная масса, без крупинок и зерен, напоминала старый, потемневший от времени гранат, который нужно только отполировать, чтобы он заиграл драгоценным благородным цветом. Ледяной свод сиял праздничной иллюминацией. Миллионы снежинок искрились, переливались, усиливая и без того впечатление приподнятости и торжества. И только в глубине провала, куда отступила темнота, по-прежнему таился мрак. Когда прошла первая минута возбуждения, все трое стали карабкаться наружу. Генри лез первым. Он вдруг остановился и заслонил глаза ладонями. — Как мы неосторожны, — сказал он, поворачиваясь. — Очки… Алексей скатился вниз. Хопнеры ждали, отвернувшись от света. — Оденьте, Ивар, — сказал Старков, подавая очки Перселлу. — Без них опасно. Ледяная стена в общем-то оказалась нетолстой — всего шесть с небольшим метров. Две смежные трещины очень давно раскололи ее. Через эти трещины в подледные залы и проходил свежий воздух. Пролом, произведенный взрывами, был в четыре человеческих роста вышиной и около двух метров в ширину. Целая галерея. Не терпелось выглянуть наружу. В рамке синего льда стояла белая муть, перенасыщенная, как им казалось, голубым светом. Ветер пронизывал насквозь. Алексей углубил нишу в боковой стене. Когда становилось невмоготу, они забирались туда, чтобы передохнуть от адского ветра. Постепенно глаза свыклись с дневным светом. Тогда Джой Хопнер взялся за бинокль. — Это шельф Росса, — сказал он. — Вправо от нас — горы. За окном раздался отрывистый крик. Снежный буревестник просвистел крыльями. Первое приветствие из родного мира. — Сообщи нашим, птица! — крикнул Джой вслед буревестнику. Они по очереди осматривали местность. Их окошко находилось на огромной высоте. Стена была строго отвесной, она полукружием уходила влево. — Попробуем рацию, — предложил Джой. — Если это берег Росса, то недалеко Мак-Мердо. Алексей спустился в пещеру. Он вытащил из вороха вещей маленький портативный радиопередатчик, повесил его на грудь, подключил аккумулятор и антенну. — Что там? — слабо спросил Перселл. — Знакомый ландшафт. Береговая стена и шельф. — Мы очень высоко? — О да. Метров двадцать. — Как же я?.. — Самое трудное позади, капитан. Терпение. Если установим связь, сюда через час-другой прибудет вертолет. Мы вас спустим не без комфорта. И сегодня же к хирургу. — Сколько мучений, — пробормотал Перселл. Совсем игрушечный приемник-передатчик, который полярники использовали для переговоров на коротком расстоянии, был сейчас их единственной надеждой. Старков высунул антенну над бездной и несколько минут сосредоточенно крутил ручку настройки. Хопнеры напряженно следили за выражением его лица. Глаза Алексея повеселели. — Есть, — сказал он и усилил прием. Английская отрывистая речь и мягкая, неторопливая русская глухо забарабанили в наушниках. Алексей улыбнулся, содрал наушники, протянул командиру. — Слушай… Радист из Мак-Мердо передавал на Литл-Америку очередную сводку погоды и состояние льдов. Закончив, он спросил своего коллегу: «Что нового?» Ему ответили: «Шеф считает, что поиски можно прекратить». «Жалко, хорошие парни», — сказал радист из Мак-Мердо. «Но мы будем слушать эфир, как приказано». — «О, да!» — ответил ему коллега. Затем в разговор ворвалась раздраженная скороговорка какого-то пилота. Он говорил для станции Амундсен-Скотт, передал свои координаты и запросил инструкции. Ему назвали новый квадрат. Их все еще искали. Самоотверженность товарищей была поистине трогательной. Столько дней! Старков передал рацию младшему Хопнеру. Джой уселся на корточки и, морщась от пронизывающего ветра, стал передавать только два слова: «Мы живы, мы живы, мы живы…» Через три минуты он перешел на прием. В эфире заговорили сразу четыре станции. «Вы слышали! Слышали? Я принял. Я принял… Не ошибка?.. Я принял. Слушайте. Слушайте все». Тогда Джой повторил свою фразу и добавил: «Хопнеры, Старков, Перселл ждут помощи. Мы живы. Западный берег Росса, ледяная стена». Что поднялось в эфире! Радисты без конца повторяли слова Джоя, сообщали пеленг. Затем радиоволна принесла распоряжение выслать самолеты поиска, снежные вездеходы и уже после этого эфир донес слова, адресованные им: «Держитесь, идем по пеленгу, дайте волну, дайте волну, рады за вас». Через два часа в воздухе прогудел первый самолет. Он шел на значительной высоте, видимо боялся гор. Алексей выпустил две зеленые ракеты. В наушники они услышали радостный вопль летчика: «Вижу ракеты, передаю координаты… Сесть не могу, подо мной горы». Самолет кружил добрых сорок минут, и все это время эфир разрывала грубоватая речь пилота. Улетая, он раз десять повторил: «Держитесь, ребята, вы славные парни, сейчас мы вас вытащим». Джой сообщил, что у них раненый, что они готовятся к спуску по ледяной стене и вынуждены сделать паузу в передачах. Получив ответ, вконец продрогшие, спустились они в свою тюрьму и облегченно перевели дух: здесь было тепло, как в жилом доме. — Полный успех, капитан! — бодро произнес Генри. — За нами вылетают. Считайте, что вы родились под счастливой звездой. Капитан не ответил. Крупные капли пота покрывали его бледный лоб. Генри и Алексей многозначительно переглянулись. Начали метр за метром проверять веревку, связывать концы и делать люльку для спуска. — Хватит? — спросил Алексей. — Больше восьмидесяти метров, — сказал Джой. — Три конца. По двум спуск, один для страховки. Командир, позволь мне и Алэку остаться, пока ты с Перселлом совершишь путешествие на базу. — Не надоело? — Мы кое-что соберем. Еще неизвестно, когда вернемся. — А ну-ка, — Генри отдал один конец Алексею и потянул за другой, укрепляя узел, — выдержит? — Ты уходишь от ответа, Генри, — сказал Джой. — Я не хочу предвосхищать событий. Вот когда отправим Перселла, тогда подумаем. Я и сам не против, ребята. — Зададим мы работу ученым собратьям! — сказал Джой. — Себе мы уже задали. Не знаю, как быть с отпуском. — Хопнер-старший смотрел на Алексея. — Я не поеду, — сказал Старков. — Как можно… — Тогда останется весь экипаж. Застонал Перселл. Они притихли. Капитан вдруг сказал довольно громко: — Мы можем не увидеться. Простите меня, ребята. — Рано вы себя отпеваете, Ивар, — строго произнес Джой. Через окно в стене донесся гул моторов. Алексей забросил на плечо моток веревки. — Пошли! — Готовьтесь, Перселл. Последние метры на пути к свободе. — Хопнер-старший ободряюще похлопал больного по плечу. Со стены Джой крикнул: — Геликоптеры! Один, второй, третий! Вернулся Старков. Вместе с Генри он положил больного на брезент, запеленал его. Капитан не открывал глаз. Его понесли головой вперед. На ступеньках их ждал младший Хопнер. — Не так, — тихо сказал он, — Ногами вперед, иначе не затащить. — А ты знаешь… — так же тихо запротестовал было Алексей, но вдруг махнул рукой. — Беритесь, ребята. За стеной грохотали моторы.Об авторе Пальман Вячеслав Иванович. Родился в 1914 году в гор. Скопине Рязанской обл. Окончил сельскохозяйственный техникум и Высшие литературные курсы. По профессии агроном. Около двадцати лет занимается литературным трудом. Член Союза писателей СССР. Автор двух научных трудов и шести художественных книг, герои которых — люди советской деревни. В последующем выступает в жанре приключений и фантастики. Им опубликовано десять книг, среди них известны такие: «Кратер Эршота», «Красное и зеленое», «За линией Габерландта» (вышли в издательстве «Детская литература») и другие романы, повести и сборники рассказов. В нашем альманахе публикуется второй раз. В настоящее время работает над романом о Кавказе, его прошлом и настоящем, о взаимосвязи человека и природы.
Александр Абрамов
Сергей Абрамов
ЧЕРНАЯ ТОПЬ

Фантастический рассказ Рис. А. Болотникова
— Это не шутка, — сказал секретарь редакции районной газеты, — я действительно верю в леших, домовых и русалок. Он без улыбки взглянул на сидевшего перед ним московского журналиста. Сбоку от него в окно виднелась река, застроенная по берегам складами и бараками. — Конечно, в этом прозаическом оформлении реки русалки не водятся, — прибавил он. — Я не видел их и в ее поэтическом оформлении, когда к городу по шоссе подъезжал, — усмехнулся москвич. — Камыши, осока, плакучие ивы. Самое русалочье раздолье. — Вы случайно не лесом ехали? — спросил секретарь. — Лесом. Даже грибы искал, когда машина забарахлила. Только с лешим не встретился. — А могли бы, — серьезно сказал секретарь. — У нас тут его видали. — Кто? Бабки? — Зачем бабки? Я, например. Разговор этот уже начинал раздражать московского журналиста. «Разыгрывает, — подумал он, — штучки с первого курса. Я тоже кончал факультет журналистики — знаю». — Думаете, мистифицирую? — словно прочел его мысли секретарь. — Марксистски подкованный атеист и вдруг в русалок и леших верит! Москвич усмехнулся и вывернулся. — Ну насчет «верит» — это вы слишком. Есть у Юрия Казакова рассказ «Кабиасы». Читали, наверно? Ну вот и фантазируете о первобытном страхе человека наедине с природой и ночью. — Бросьте, — перебил секретарь, и опять нельзя было определить степень его серьезности, — марксистски подкованный атеист не фантазирует на литературную тему. Он размышляет о другом. Во-первых, домовые, лешие и русалки не от религии. Это народный фольклор, остатки древних легенд, уцелевших с доисторического прошлого. А вы обратили внимание, что у разных народов одинаковые поверья? У немцев — гномы, у англичан — лесные эльфы во главе с Пэком, прославленным Киплингом, у норвежцев — тролли, у русских — лешие и водяные. Почти всегда добрые и безобидные существа, страшные лишь для детей. Они боятся людей и встречаются только в глуши, подальше от городов и селений. Лично я удивляюсь, что наука, которая даже в Библии ищет следы пришельцев, до сих пор не заинтересовалась истоками языческих поверий. — Эффект «пси» в народной фольклористике, — лениво протянул журналист. — Давайте мотивации. Секретарь внимательно и, как показалось журналисту, с сожалением посмотрел на него. — Мотивации? — повторил он. — У нас про это даже на летучках не скажешь — засмеют. Но с вами рискну. Охоту любите? — Ружья нет. — Дам ружье. Когда сможете? — Хоть завтра. — У меня завтра совещание в райкоме, — вздохнул секретарь, — одному вам придется. Не побоитесь? — С ружьем-то? И кого? Лешего? — Может, и лешего. — Бросьте эти штучки, — проговорил москвич. — Клянусь дубом, тисом и терновником, — засмеялся секретарь, и опять нельзя было понять подтекста этой шутки. — Про Черную топь слыхали? — вдруг спросил он. — Что-то рассказывал водитель. Дупелей тьма, говорит. — Правду говорит. Только в самую топь не лезьте, зелень да ржавчина, сами увидите, вы по краешку, по краешку от поваленной сосны на полкилометра к западу. Тропка приметная. Слева топь, справа малинник. Добраться до Черной топи с непривычки было не так уж легко, и, проплутав по лесу с полдня, журналист выбрался наконец на опушку, зеленую проплешину в плотной лесной чащобе. Дальше начиналось мелколесье: хилые березки, ольха, орешник да высокая жесткая трава, сочно-зеленая у земли, а наверху светлая, словно выгоревшая на солнце. С такой травы обычно начинается болото, постепенно она становится ядовито-зеленой, скрывая под собой трясину и зыбь. Журналист достал из рюкзака истертую на сгибах двухверстку и сверился с компасом. Перед ним обозначенная на карте частой лесенкой штриховки лежала знаменитая в округе Черная топь. Москвич находился сейчас в северной ее части, о которой и говорил секретарь. «Где-то здесь должна быть поваленная сосна», — подумал он и тотчас же увидел ее шагах в тридцати вправо, где за малинником из высокой травы выглядывал ее черный горб. Странный разговор в прокуренном кабинете секретаря редакции получал вполне реальное продолжение. Журналист добрался до сосны, постоял немного, прикидывая что-то в уме, и, внезапно решившись, перешагнул через мертвый ствол. Под ногами не хлюпнуло, значит, идти можно. Путь, однако, был не легкий: тропа то и дело пропадала в траве, под ногами противно чавкала трясина, обдавая сапоги черной вонючей грязью. Колючие лапы можжевельника цеплялись за куртку, хлестали по лицу, и журналист уже раскаивался в своем порыве. Но отступать не хотелось. «В конце концов полкилометра — не крюк. Зато проверим, что за лешии здесь водятся». Но вскоре ему стало казаться, что полкилометра давно позади, а под ногами по-прежнему хрюкало болото и низко-низко над головой, только руку протяни, висели уныло-серые неподвижные облака. Тропинка давно исчезла, журналист уже устал вытягивать сапоги из грязевого капкана и проклинать себя за мальчишеское безрассудство, как вдруг очутился на широкой поляне, словно у края неглубокого кратера метров сто в диаметре. С трех сторон его окружал лес: орешник и можжевельник вперемежку с ольхой и осиной, а с четвертой уходило за горизонт болото, даже не зеленое, а темно-рыжее в сыром полумраке осеннего вечера. Вместо неба — сизо-лиловая муть. Было что-то жуткое в сонно немой тишине, окружившей его внезапно снизу и сверху. Деревья застыли недвижно и грозно, как ракеты перед стартом. Плотные крученые облака, казалось, совсем не двигались — темные острова на чернильном небе, — а издалека, из трясины, медленно подкрадывалась уже Совсем непроглядная темь. Журналист вспомнил неулыбчивые глаза секретаря редакции, запросто подбросившего ему клятву киплинговского Пэка, и впервые ему стало по-настоящему жутко. Снова вспомнились уже упомянутые в разговоре казаковские «кабиасы», бессмысленный страх, подкрадывавшийся из подсознания, древний страх перед природой и ночью. По спине поползла липкая струйка пота. «Черт меня дернул забраться в эту глухомань, — пробурчал он сквозь зубы. — На дупелей пошел, а ни одного не встретил. Да не на дупелей, а на лешего!» Он деланно хохотнул, и смех его, расколовший стоячую тишину болота, казалось, вернул природе движение и звуки. Пронесся резкий порыв ветра, согнул верхушки деревьев, пронзительно засвистел в кустах, погнал иссиня-зеленые волны по высокой болотной траве, чуть замер вдали и снова вернулся, холодный и колкий, сулящий долгую тоскливую непогоду. — Пора уходить, — сказал вслух журналист. Он вскинул двустволку на спину, оторвал ноги от вязкого киселя, шагнул и снова остановился. Метрах в пятидесяти от него, где котловина была поуже, на другой ее стороне, вышел из лесу человек. Сизая мгла, рассеянная в сумраке вечера, не давала возможности как следует разглядеть его. Смутная фигура человека, словно сошедшая с любительской фотографии, замерла на месте, к чему-то прислушиваясь. Но вокруг было по-прежнему тихо, лишь ветер тревожно свистел в кустах. Человек впереди постоял, подумал и вдруг решительно зашагал… в самую топь. — Осторожно! — закричал журналист. Но человек на болоте не услышал. Балансируя на зыбкой подножной грязи, он медленно шел, разгребая осоку и поминутно оглядываясь назад. Без ружья, без шапки, в длинной брезентовой куртке — не то рыбак, не то охотник, потерявший свое снаряжение, он, вероятно, только что вышел из дому. Но москвич знал, что в радиусе по меньшей мере десяти километров здесь не было ни деревушки, ни пасеки. Что же погнало человека в лес одного, без ружья, даже без палки и почему в болото, в самую топь? Нужно обладать поистине звериным чутьем, чтобы в податливой трясине найти относительно твердую тропу, чтобы под обманчивой зеленью луга вовремя нащупать топь, вовремя убрать ногу, не соскользнув в ржавую жижу болота. Этот странный смельчак, почти нереальный в фиолетовом сумраке леса, сейчас напоминал чем-то циркача, балансирующего на канате. Журналист облизал пересохшие губы, хотел еще раз крикнуть, но слова застревали в горле, да и спугнуть можно неожиданным окриком. А тот все шел и шел, уже не оглядываясь; и не кончался невидимый канат над смертной пучиной, и каждый новый шаг был опаснее предыдущего, потому что болото страшнее в центре, чем по краям, и не звенел у пояса карабин лонжи-страховки, и не было шеста-баланса в ловких руках. Москвич видел, что человек на болоте направлялся к большому черному валуну, застрявшему у края котловины. За ним была твердая почва; валун лежал на ней — иначе бы засосала топь. Путник, понимая это, надеялся здесь передохнуть, прийти в себя. Затаив дыхание, журналист следил за ним, мысленно подсчитывая, сколько еще шагов осталось до спасительного островка у самого берега. Десять… Девять шагов. Журналист снова облизал корочку на губах, проглотил слюну и вздохнул. По телу шагавшего, казалось, побежали зеленые искорки, промелькнули и рассыпались, как светлячки в траве. Восемь шагов. Журналисту подумалось, что светляков стало больше. Все тело шагавшего в ночи светилось сейчас бледно-зеленым светом. Семь шагов. И у журналиста вырвался сдавленный крик: этот шаг оказался роковым. Человек стоял по колено в грязи, движения его стали быстрыми и неверными. Он хватался за осоку, пытаясь вырваться из цепкого плена болота, но с каждым рывком проваливался все глубже, одновременно становясь все призрачнее и прозрачнее, словно рисунок на зеленом стекле витража. Журналист шагнул вперед и тут же понял, что это бессмысленно: спасать было некого. Человек на болоте растаял в вечернем сумраке, не утонул, а именно растаял, растворился в воздухе, там, где прыгали вместо него сейчас мерцающие зеленые огоньки. Но и они вскоре погасли, заштрихованные сеткой дождя и мглой. «Галлюцинация, — подумал москвич, — спятил я, должно быть». Он вытер вспотевшее лицо и обомлел. Растаявший человек снова возник, но уже совсем близко, у самого крайнего валуна. Он карабкался, медленно вползая на камень, снова соскальзывал в грязь и снова взбирался, по-прежнему зеленовато-прозрачный. Сквозь него журналист видел замшелый камень, чахлую березку поодаль, примятую траву и, дальше, почти у леса, где четверть часа назад появился этот зеленый фантом, снова его самого, вновь начинающего свое смертельное странствие. И тогда журналист, закрыв лицо руками, бросился в лес напролом, не замечая ни веток, хлеставших по лицу, ни корней, сшибавших с ног. С каким наслаждением упал бы он сейчас на мокрую землю, зарылся бы лицом в траву, но страх подстегивал, и он все бежал и бежал, не разбирая дороги, не вспоминая, не думая… Он уже совсем обессилел, когда впереди мелькнул огонек. То был свет тусклого огонька керосиновой лампы в окне одинокой избы. А когда он приблизился, хижина из колдовской избушки на курьих ножках превратилась в степенный дом-пятистенку с палисадником, забором и какими-то пристройками по бокам. Три ступеньки у крыльца привели москвича к запертой двери, долго не отвечавшей на его отчаянный стук. Наконец за ней что-то грохнуло, звякнул железный засов и дверь распахнулась. Кряжистый бородач в ватнике, опираясь на суковатую палку, грубо спросил: — Ну, чего надо? Журналист объяснил, еле находя слова, проглатывая слюну и задыхаясь, что он приезжий, ходил на охоту, заблудился и просит разрешения обогреться и отдохнуть. Войдя из темноты в освещенную комнату, он невольно зажмурился и тут же услышал сочувственный возглас хозяина. — Да кто же вас так разукрасил? Лицо журналиста было все исцарапано ветками деревьев и кустарников. Кровь размазалась и растеклась, губы распухли. Когда он умылся, хозяин снова настороженно спросил: — Гнался кто-нибудь? Уж не медведь ли часом? — Может, кто и гнался, — сказал москвич, — а верней всего, просто показалось. Случается иногда. Лес, темно, дорогу потерял, тропки не видно… Ему не хотелось рассказывать незнакомому человеку о пережитом. Да и не поверит, пожалуй. Теперь уж и сам журналист, отогревшийся и успокоившийся, не очень-то верил в свое недавнее приключение. «Привиделось, должно быть, — думал он. — Напугал секретаришка. Разыграл все-таки». Но спасительная мысль не утешала. Галлюцинациями он не страдал и в леших по-прежнему не верил. Туман? Игра теней? Наведенная галлюцинация? Кем — секретарем? А может быть, он самодеятельный гипнотизер? Сосредоточиться не удавалось. Хозяин оказался здешним лесничим, когда-то окончившим московский вуз. Он с интересом расспрашивал журналиста о столице, о московских театральных премьерах, о новых книгах и фильмах. Собеседник он был приятный, но журналист отвечал рассеянно, все время пытаясь вспомнить, где он раньше видел хозяина. Уж очень знакомым казались и лицо и весь внешний облик лесничего, когда он присмотрелся к нему при свете лампы. Определенно он где-то совсем недавно и очень близко видел этого человека. Но то ли сказывалась усталость, то ли мешало желание объяснить только что пережитое в лесу, но воспоминание ускользало, дробилось, растворяясь где-то в глубинах памяти.

Вдруг он вспомнил и ужаснулся. Перед ним за грубым дубовым столом сидел… леший. Тот самый зеленоватый прозрачный человек, который шел по болоту к черному валуну. Сейчас он был вполне реальным, небритым, хохочущим и здоровым. Рубаха-парень, широкоплечий бородач — какой там леший! Он весело рассказывал, как надо бить дупелей в лесу и утку в лет, как ставить силки и читать следы лесных зверей. Журналист в конце концов подумал, что сходство этого человека с лесным привидением он сам придумал: ни сходства, ни привидения, конечно, не было; всему виной оптический обман, страх и самовнушение. Но что-то все-таки заставило его задать вопрос лесничему. — Ну, а сегодня в лесу что поделывали? — Сегодня? — наморщил брови лесник. — Читал немного, лежал. Ковылял от стола до печки. Куда ж пойдешь больной, всего пятый день как из больницы, — лесник постучал палцой об пол. — Опять ногу сломал. — Опять? — спросил москвич. — Не везет мне с ногами. Сейчас вот с лошади загремел, а лет пять назад хрустнула, когда из болота на камень карабкался. — Из болота? — недоверчивопереспросил журналист. — На камень? Где, не у Черной ли топи? Лесничий как-то странно взглянул на него. — Почему догадались? — Я был там сегодня. И камень у берега видел. — А еще ничего не видели? — вопрос прозвучал настороженно и тревожно. — Нет, ничего, — замялся москвич. — Дождь начинал накрапывать. Я и ушел. Лесничий не замечал или не хотел замечать его осторожности. — Я только-только закончил лесотехнический, — сказал он, улыбаясь воспоминанию. — Двадцати трех не было. Леса этого совсем не знал. А тут еще на спор полез с одним из старожилов, что пройду через лес ночью. Без ружья при этом. — И прошли? — Прошел. Даже памятка осталась, — бородач взъерошил волосы: у висков показалась проседь. — Не дешево обошлась мне эта прогулочка. В этой самой топи, где вы были, чуть не увяз. Журналист молчал, только руки его на коленях под столом дрожали мелкой дрожью. — Страшно? — спросил он лишь для того, чтобы не тянуть паузы. И опять лесничий не заметил ничего или сделал вид, что ничего не заметил, и усмехнулся в бороду. — Мало сказать — страшно. Вы только подумайте: кругом темь, в небе ни звездочки — одни тучи. Под ногами топь. Шагнешь — провалишься и следов не оставишь. Как насосом втянет. Я каждый шаг, как микстуру отмеривал: по капельке. Ступишь легонько, нажмешь — хлюпнет. Нажмешь сильнее, если держит, станешь. Если еще раз чавкнет — назад! Стоишь, как цапля с поднятой ногой. И опять все сначала. Трава черная, ржавь кругом, только стволы поваленные в болотной грязи. Про них-то я знал и на них рассчитывал. Пройду, думаю, не ошибусь. А все-таки ошибся, — лесник тяжело вздохнул и отвел глаза. — Думал — конец! Сразу по пояс. И пошло. Рванешься, а трясина еще глубже с присвистом заглатывает. Хуже нет так помирать. А мне до смерти жить хотелось, — усмехнулся он своему невеселому каламбуру. — Ну и выбрался все-таки. Камешек меж стволами на глыби нащупал. — А петом? — С камешка на камешек — валунов там много. А у самого последнего, на берегу почти, снова сорвался, снова нога в проем между стволами попала и — хрясь! Еле выкарабкался. Только на третьи сутки нашли, да и то случайно, — он помолчал, а потом прибавил, почему-то понизив голос до шепота. — Теперь я часто туда хожу: все вспоминаю и удивляюсь. — Чему? Лесничий исподлобья взглянул на журналиста и спросил хрипло: — А вы не отвиливайте. Честно спрашиваю: ничего там не видели? Ничего-ничего? — Какая же охота в такую темь? — уклончиво ответил журналист. Обсуждать пережитое в лесу ему совсем не хотелось. Теперь он не сомневался, что лесничий знал о существовании лешего, знал, что именно журналист видел и от чего бежал. Но москвичу хотелось остаться одному со своими мыслями и догадками, выстроить их, отобрать и найти наконец разумное объяснение. Не с лесничим он должен был обсуждать случившееся, а с нацелившем его на эту прогулку по лесу секретарем редакции. К нему он и поспешил, переночевав у гостеприимного хозяина леса.
— Значит, видели, — обрадовался секретарь. — Видел. — И что же скажете? — Многое. Только вы лучше спрашивайте, мне легче отвечать, чем рассказывать. Да и рассказывать нечего. Видел все, что видят другие. — Кроме лесничего, — сказал секретарь. — Другие видят, а он нет. Часами сидит у топи и — ничего. — И это объяснимо, — заметил журналист. — Впрочем, начнем сначала. Вы, кажется, спрашивали, почему у разных народов одинаковые поверья? — Допустим. А почему? — Потому что люди везде одинаковые. — При чем тут люди? — Миллионы людей на земле рождались, жили, творили и уничтожали, любили и ненавидели. Потом умирали, а информация о них живет и поныне. Она растворима в пространстве, как планктон в океане, как циклопы в баночке у рыбовода-любителя. Мозг человека излучает энергию, и она не исчезает. На каком же уровне она существует? Может быть, на уровне поля? Тогда можно предположить, что существуют рецепторы, способные при повышенной чувствительности и особо важном значении происходящего ощутить это поле. Тогда в мозгу возникают психические процессы и происходит восприятие информации, некогда оставленной лесничим. — При особо важном значении происходящего? — Видимо, так. Ведь я, сам того не сознавая, хотел увидеть лешего, искал его появления, ждал, не верил, посмеивался, но искал. А пройди я равнодушно мимо, что б я увидел? Обманчивую гладь трясины да замшелые валуны. — Но почему ничего не видит лесничий? Его же не упрекнешь в равнодушии. — Должно быть, человек не может воспринять блуждающую информацию о самом себе. Ни в одной сказке, ни в одном поверье не говорится о том, что герой узнал сам себя в образе лешего или водяного. — Но почему лешии и водяные появляются в глухих местах вроде Черной топи? — Возможно, там выше уровень информации да и окружающая среда влияет на чувствительность. — Я в этих вопросах плаваю, но, кажется, где-то читал, что информация обратно пропорциональна энтропии. А уровень энтропии везде одинаков. Журналист задумался. — Я тоже не специалист-физик. Но тоже что-то и где-то читал. Ведь помимо теории информации существует и теория вероятности. Она предполагает наличие флуктуаций — минимально вероятных отклонений от наиболее вероятного состояния. Да и вообще, что мы знаем о нестабильной блуждающей информации, не заключенной в казематы книгохранилищ, музеев и фильмотек? Одни считают ее сгустком энергетических полей, другие предполагают, что шаровая молния — это плазма, несущая информацию. Все это даже не гипотезы, а эмбрионы гипотез, догадки, предположения. Но разве не из предположений возникают теории? — Похоже, что так, — вздохнул секретарь, — я ведь и сам предполагал нечто подобное. Только вы сформулировали это понятнее и точнее. — Физтех помог, — сказал он, — три года отбарабанил, прежде чем перейти в МГУ. В нашей профессии нынче без точных наук не обойтись. А минуту спустя они уже яростно спорили о преимуществах гуманитарного и технического образования.
Об авторах Абрамов Александр Иванович — член Союза писателей СССР. Родился в 1900 году в Москве. Окончил литературный институт имени В. Я. Брюсова, институт иностранных языков. Печататься начал еще в 20-х годах и как журналист, театральный критик, и как автор повестей и рассказов. В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов выходят его повести «Я ищу Китеж-град», «Прошу встать!», «Когда скорый опаздывает». В жанре научной фантастики выступает с 1966 года вместе с С. А. Абрамовым. Абрамов Сергей Александрович, инженер, родился в 1942 году в Москве. Окончил Московский автодорожный институт. С 1961 года выступает в периодической печати с репортажами, очерками, критическими статьями. Вместе со своим отцом А. И. Абрамовым является автором сборника научно-фантастических рассказов «Тень императора» (1967 г.), романов «Всадники ниоткуда» (1968 г.), «Рай без памяти» (1967 г.), «Джинн из лазури» (1970 г.). Сейчас авторы работают над романом о проблемах разумной жизни в космосе. В нашем сборнике выступают впервые.
Александр Колпаков
ТАМ, ЗА МОРЕМ МРАКА

Историко-географическая фантазия Рис. А. Шикина
1
Это было за пятьсот лет до Колумба. …Асмунд, прозванный Рыжим ярлом[26], успел схватиться рукой за выступ рифа, прежде чем ударил вал прибоя. Переждав, пока схлынет вода, он подтянулся повыше и распластался на рифе — неподвижный, вконец обессиленный. Не мог даже поднять руку, чтобы откинуть назад слипшиеся волосы, нависавшие над глазами. Проплыть четыре мили по бурному морю это было слишком даже для викинга. Сколько так пролежал, Асмунд не помнил. Наконец он приподнял голову, сел и принялся шарить в расселинах рифа… Жадно проглотил какого-то моллюска. Он не ел с тех пор, как пошли ко дну останки «Морского дракона». Последней пищей ярла был Ролло — берсерк. Оба голодали, и Ролло умер во сне: ярл не хотел убивать, но выхода не было. Все началось в тот день, когда злой бог Локи внушил ярлу мысль присоединиться к конунгу Эстольду. Асмунд был вольным викингом, пенителем открытого моря. Его быстроходные драккары плыли вдоль побережья Валланда, высматривая поживу, а франки на берегу в страхе прислушивались к мерному звону бронзовых дисков: кормчие задавали ритм гребли сидевшим на веслах викингам. Конунг встретился у южной оконечности Острова саксов. «Идем со мной в Средиземное море, — сказал Эстольд. — Там богатые города». Асмунд дал уговорить себя. Хотя у конунга было шесть драккаров, первыми ворвались на стены италийского города викинги Асмунда. Они успели перебить почти всех защитников, проникли в улицы и до подхода отрядов Эстольда разграбили собор и дома богатых горожан. Асмунд был опытным военачальником. Пришло время делить добычу, и Асмунд взбунтовался. Конунг потребовал три четверти, и это было по обычаю: ведь каждый викинг должен получить свое, а их у Эстольда втрое больше. Но кто завоевал город? Асмунд упирался, но сила была не на его стороне. Ничего не оставалось, как сняться ночью с якоря и бесшумно отплыть к Гибралтару, тем более что самая ценная добыча находилась на его драккарах. На рассвете конунг обнаружил бегство и пустился вдогонку. Если бы не штиль у берегов Лузитании!.. Потеряв в абордажной схватке драккар, Асмунд успел перескочить на другой, но, отрезанный от берега, вынужден был повернуть на запад, в Море Мрака. Вскоре опустился вечерний туман, а погоня продолжалась. Пронзительные удары дисков, усиливающие темп гребли, слились в сплошной звон. Гребцы ярла начали уставать, и сменить их было некем — не то что у конунга. Его спасла буря, внезапно налетевшая с северо-запада. …Корабль Асмунда уносило куда-то в темноту. Буря разыгралась в полную силу. Когда сквозь тяжелые, низкие тучи пробился серый рассвет, Асмунд скрепя сердце облегчил перегруженный драккар, выбросив за борт половину добычи. Но через день пришлось выкинуть и все остальное. Ураган разбил мачту, порвал парус и такелаж, расщепил руль. Корпус судна был еще крепок, а ветер, волны, течения продолжали гнать его все дальше в открытое море. Наконец выглянуло солнце, цвет моря изменился, оно стало лазурным, вода — теплой. Асмунд огляделся и понял: «Морской дракон» далеко от знакомых берегов. Почти все викинги погибли в схватке с Эстольдом или были ранены обломками весел. «Это Фатум накрыл нас своим ледяным крылом, — подумал ярл. — Перед ним, говорят скальды, бессильны даже боги. Но я буду бороться». Он надеялся, что рана или поздно разбитое судно прибьет к какой-нибудь земле. Шли дни и недели, а драккар все плыл и плыл, подгоняемый неведомыми течениями. Казалось, Море Мрака не кончится никогда. Неужели правы скальды? Огромный океан, учили они, достигая края мира, изливается в бездонную яму — Уугарду. Там злой Локи вместе с волком Фафниром ждет назначенного часа, когда победит Вотана. В этой последней битве при Рагнаради падут все боги и все герои. Асмунд не очень-то верил скальдам. С помощью берсерка Ролло он собрал на корме остатки продовольствия и запасы воды. Уцелевшие викинги возмутились, но никто не захотел вступить в единоборство с ярлом. Постепенно викинги съели свою обувь, кожаные части снаряжения. Временами они приближались к корме и злобно выли, требуя воды. Асмунд молчал: к чему пустые слова? Вскоре викинги ослабели и не могли даже встать. Тогда Ролло помог им быстро и легко умереть. Они остались вдвоем. А течения все тащили корабль — туда, где каждый вечер заходило солнце. Асмунд по привычке отмечал дни. Когда их набралось больше полутораста, кончились пища и вода. Наступила очередь Ролло… Асмунд пил дождевую воду, а когда не было дождей, выжимал сок морских рыб. Его могучий организм начал сдавать. Ярл с тоской вглядывался в горизонт, ждал — не покажется ли край земли, спуск в Утгарду. Пусть его швырнет в черную яму. Но он еще успеет схватить за горло злого Локи. А потом придет отдых. Волны крошили драккар. Размокали и гнили борта. Корпус глубоко осел. По ночам из глубин моря поднимались какие-то чудовища, и в их громадных глазах отражался свет звезд. Асмунд плыл уже на обломках. Он страшно устал и едва удерживался от соблазна навсегда погрузиться в воду. Такое долгое плавание не снилось даже скальдам. Но вот на туманном краю неба, словно мираж, возник берег. Асмунду мерещились деревья, селения, но отчетливо видел он лишь остроконечные конусы гор, розовеющие в лучах солнца… Прошел день, второй, но земля не приближалась: течения тащили обломки драккара к северу. Тогда Асмунд бросился в море и поплыл. Как ему удалось достичь рифа, он не помнил.
2
Позади была песчаная отмель. Едва слышно рокотали валы, медленно выраставшие из сине-зеленой бездны моря. Впереди сверкала лагуна, окаймленная густым лесом. Там и тут поднимались высокие пальмы. Забавные зеленые птички выпорхнули из зарослей. Все здесь было незнакомо, ничто не напоминало родной Вестфольд. Асмунд понял, что ему удалось пересечь Море Мрака. Значит, нет никакого края мира? Есть птицы, деревья, горы, солнце. Справа несколькими рукавами впадала в море многоводная река. Вдали вышагивали какие-то птицы, похожие на цапель. Только у них были странные розовые перья. За спиной Асмунда прозвучал сварливый крик. Он резко обернулся и увидел пурпурную голову еще одной птицы. Куда он попал? Асмунд подумал, что он умер во время плавания и очутился в Валгалле. Но в песнях скальдов Валгалла очень напоминала суровый Вестфольд. А может, скальды тоже не все знают? Кто-то дико завыл, захохотал в чаще леса. Рука ярла легла на рукоять меча. Вторая ощупала арабский нож в чехле. Зверь или человек?.. Жаль, что пришлось бросить тяжелые доспехи — все, кроме шлема и кольчуги. Он вытер пот, заливавший глаза. В этом мире было нестерпимо жарко. Голод погнал его дальше, в глубь побережья. Асмунд внимательно изучал местность, с надеждой вглядывался в заросли. Вот, как молния, вскарабкался на дерево небольшой зверек. Разве поймаешь такого? Ему удалось подкрасться и убить одну из птиц с розовым оперением. В бычьем пузыре у пояса нашлись огниво и кресало. Запылал костер. Он зажарил птицу и съел. Блаженная сытость разлилась по телу, сомкнула веки. Асмунда разбудил зной. Полуденное солнце стояло в зените, все живое попряталось в тень. Лишь на руке ярла сидел перламутрово-синий жук. Вспугнутый движением пальцев, он расправил крылья и улетел. …Асмунд упорно шел вслед за опускающимся солнцем. Он искал людей: одному не прожить среди этой дикой природы. В сгущающихся сумерках мелькали зеленые и огненно-красные огоньки светлячков. В ветвях дерева возник журчащий звук. Асмунд поднял глаза и на светлом фоне угасающего неба различил крохотный силуэт птички с трепещущими крылышками. Ярл не мог знать, что это колибри. Устроившись на ночлег в развилке громадного дерева, он долго смотрел на звездное небо, думал. Прошлое кануло в вечность. Пути назад не было. И будущего тоже не было… Стремительно прочертила небо летучая мышь. Распластав крылья, в воздухе беззвучно повисла сова — сестра тьмы. Асмунд видел огромные глаза ночной птицы. Вдруг небосклон на западе осветило багровым заревом. Послышался глухой гул, чуть дрогнула земля. «Что это?» — спросил он себя. И припомнил: подобное наблюдал он в Средиземноморье, где есть гора, которую италийцы зовут Этна. Незаметно он уснул. Утром Асмунд проснулся от того, что кто-то грубо сбросил его на землю. Он даже не успел шевельнуть рукой, как был связан ремнями. Всю жизнь провел он в битвах и походах, но сейчас невольно содрогнулся от страха. Над ним стояли чудовища с причудливыми головами каких-то фантастических зверей. Особенно поразила его морда громадной полосатой кошки. Потом он различил в глубине разинутых пастей горбоносые смуглые лица людей, будто готовые скрыться в глотке чудовища, и понял, что видит просто маски, обтянутые звериной шкурой. Эти люди были увешаны оружием. Копья длиной в два человеческих роста, луки, согнутые из упругого дерева; длинные деревянные мечи с лезвиями из осколков блестящего камня, палицы, головки которых напоминали сжатый кулак. А за спиной у каждого воина висел топор — тяжелый каменный клин, насаженный на прямое топорище. «Они не знают железа, — с пренебрежением отметил про себя ярл. — Тем лучше». Воин с маской ягуара наклонился и спросил: — Йе-кам-ил, цул? Асмунд непонимающе смотрел в блестевшие из звериной пасти глаза человека. — Тутуль-шиу? Ица, киче? — еще резче прозвучал вопрос. Ярл отрицательно качнул головой. Он догадался, о чем его спрашивают. — Я пришел из Моря Мрака, — пробормотал Асмунд. — А ты кто? «Полосатая кошка» гордо выпрямилась. Асмунд услышал странное слово «тольтек». Так, видимо, называется племя, к которому принадлежат эти воины. — Толь-тек, — повторил Асмунд. Воин обернулся и что-то сказал товарищам. Асмунд запомнил слова: — …Топильцин Кецалькоатль. Это имя крепко врезалось в память. Старший воин снял с пояса короткий нож из прямого куска блестящего стекловидного камня. Одним ударом рассек ремень, стягивавший ноги ярла, и жестом велел встать.
Шагая по узкой тропе, пролегавшей совсем рядом с деревом, где он спал, Асмунд пытался угадать, что его ждет. Но страха он не ощущал. Ярл верил в свою звезду. Ведь переплыл же он Море Мрака! Вскоре отряд вышел к берегу той же реки, ближе к ее устью. Здесь, при впадении ее в океан, на высоком обрывистом берегу стоял дворец из камня, а рядом храм, тоже белокаменный. Вокруг дворца ютились хижины с остроконечными крышами, крытыми пальмовыми листьями. А на большой поляне росли какие-то злаки. Асмунд видел странные высокие стебли с широкими листьями, из них выглядывали белые и желтые плоды. Каждый плод состоял из множества зерен, напоминавших своей формой женскую грудь. — Иш-им, — кивнув на стебли, сказал ярлу воин. …Полутемным сырым коридором Асмунда провели в квадратную комнату, стены ее были выложены большими плитами белого камня. Здесь воинов встретили жрецы в сандалиях и одеждах, украшенных перьями неведомых птиц. Куда-то вверх уходила широкая лестница. Окружив со всех сторон Асмунда, жрецы стали медленно, чуть-чуть задерживаясь на каждой ступени, подниматься вверх. По бокам лестницы застыли стройные юноши. На их бронзовых телах, покрытых татуировкой, были лишь набедренные повязки. Ярл пристально вглядывался в смуглые горбоносые лица. Наконец ярла ввели в зал, потолки и стены которого были завешаны огромными коврами из перьев — желтых, синих, белых, красных. Асмунда принудили опуститься на колени перед ложем из черных, отливающих золотом перьев. — Кто ты? — спросил человек, скрытый краем ложа. — Я викинг, — ответил ярл, догадавшись, о чем его спрашивают на чужом языке. Человек на ложе приподнялся, сел. Асмунд увидел могучего старика в белом плаще, со взглядом тяжелым и проницательным. «Вождь или король», — решил ярл. Старик знаком велел ему подняться на ноги. Асмунд встал и принялся спокойно рассматривать вождя. У него был громадный покатый лоб, крупные черты лица. Это было лицо свирепого, но умного человека. Жрецы и воины замерли от страха. Никто еще не осмеливался так дерзко разглядывать Топильцина, властителя Толлана, которого послали людям Месеты сами боги. Но Топильцин, видели они, не собирался наказывать дерзкого, послав его на жертвенный камень. Пленник держался независимо, и это нравилось привыкшему к раболепному почитанию вождю. «Откуда он?» — подумал Топильцин и взглянул на старшего жреца. Тот опустил глаза. — Ты хотел сказать что-то? — Великий господин, — запинаясь, пробормотал жрец. — Этот… Жрец умолк. — Говори! — Он… не похож ни на одного жителя Месеты. Я никогда не встречал таких. Топильцин перевел взгляд на ярла и ничего не сказал. Жрец истолковал это по-своему: — Да, великий! Он умрет на рассвете. Боги будут довольны. — Кто знает намерения богов? — возразил Топильцин. В его холодных глазах пронеслась какая-то мысль. — Развяжите пленника и накормите. — Он помолчал и добавил: — Боги открыли мне нечто. Жрец послушно склонил голову. Разноцветные перья на его головном уборе плавно качнулись.
3
На другой день Асмунда опять привели к Топильцину. Вождь тольтеков держал в руках меч Асмунда, снятый когда-то ярлом с убитого франкского вождя. На бесстрастном лице Топильцина появилась слабая улыбка. Он был восхищен, но не мог понять, из какого вещества сделано чудесное оружие. Потом стал рассматривать кинжал и кольчужную рубаху ярла. — Откуда ты? Твое имя? — спросил вождь. Внезапно ярл ударил себя в грудь: — Я викинг! И сын викингов! Силу этого меча, — Ас-мунд указал на стальное лезвие, — испытали франки и саксы, фризоны и римляне. Они долго будут помнить Асмунда. — Асмунд? — вопросительно повторил Топильцин. — Да, Асмунд. Топильцин кивнул воину, стоявшему у входа, коротко сказал ему что-то. Воин подбежал, опустился на колени и подал вождю свой меч с обсидиановым лезвием. Топильцин сжал его в левой руке и вдруг ударил по нему мечом ярла. — Ихэ!.. — сдавленно крикнул воин, но тут же умолк, страшась наказания за несдержанность. Топильцин смотрел на обломок деревянного меча, слушал, как мелодично звенит чужой меч. Лицо вождя превратилось в застывшую маску, он размышлял. Едва заметное движение бровью — и телохранитель, подобрав обломки своего меча, попятился к двери. Спустя мгновение появились жрецы. Топильцин резко заговорил, поглядывая на ярла. Жрецы кивали головами. Когда вождь умолк, они повели Асмунда к выходу. Викинг понял: Топильцин решил его судьбу. Но как? …Его долго обучали языку тольтеков — так повелел Топильцин, Пернатый змей. Асмунд понимал, что вождь возлагает на него большие надежды. Что же, он не ошибся. В военном искусстве ярл не знал себе равных. Лишь презренный Эстольд не ценил этого. Но Асмунд еще посчитается с ним — в Валгалле… А пока ярл уяснил твердо: чтобы вернуться в родной фьорд, нужно завоевать доверие Топильцина. Шло время, и Асмунд все отчетливее понимал, куда забросил его Фатум. Этот народ, тольтеки, был замкнут в самом себе. О землях по ту сторону Океана никто здесь ничего не знал. Жрецы просто не слушали Асмунда. Нет на земле других людей, кроме тех, что живут на огромной Месете. Мир, твердили они, создан богами в начале начал — наивысшим из богов Солнцем. То было время, называемое «солнцем вод». В мире господствовала вода. И так продолжалось четыре тысячи восемь лет. Потом на землю обрушился великий потоп, и люди превратились в рыб. Еще четыре тысячи и десять лат длилось второе время — «солнце земли». Появились люди-гиганты. Но вскоре земля вздыбилась, гигантских людей поглотили трещины и пропасти. Настало третье время — «солнце ветра». Оно закончилось ураганами невиданной силы, а люди были превращены в обезьян. — Ныне длится четвертое время — «солнце огня», — монотонно бормотал жрец. На его бесстрастном лице светилась вера. — Да, Солнце Огня! Оно завершится через тысячу лет от сегодняшнего дня. — А что будет потом? — в голосе ярла звучала скрытая насмешка. Он мог бы рассказать жрецу о Валгалле, о страшном часе Рагнаради, о песнях скальдов. Но поймет ли его тольтек? Жрец приоткрыл глаза, враждебно глянул на Асмунда. Ничтожный, еще смеет улыбаться. Если бы не воля Топильцина… Всадить бы нож в грудь чужака, вырвать сердце и подарить его Тескатлипоке. Но Пернатый змей, посланец богов, покровительствует чужаку. И тот может улыбаться. — Через тысячу лет великий огонь сожжет всех людей, — процедил жрец и снова закрыл глаза. — Так будет! Трижды погибали люди, их было слишком много. Погибнут и в четвертый. Асмунд подавил зевок. Эти тольтеки, не знающие железа, домашнего скота, не знающие даже, что такое колесо, не открыли ему ничего нового. Их мир был так же стар, как земля и небо, океан и фьорды. Всюду одно и то же. Побеждает лишь сильный, в это Асмунд верил. А жрец монотонно твердил: — Смерть держит каждого в невидимых объятиях. Легкое сжатие — и тебя нет. Не нужно бояться смерти — ее никто не боится. «Вот с этим я согласен», — подумал ярл. Он видел, как бесстрастно ложились на жертвенный камень пленники тольтеков. Здесь все привыкли к виду смерти, к священному насилию над жертвой. Так хотят боги тольтеков, и так будет делать он, Асмунд. Он будет, как все. Чтобы победить. «…Угождай великим богам. Корми богов. Они требуют сердца людей. Несчастье и смерть повсюду, они — как змеи, притаившиеся в траве», — вспоминал Асмунд слова жреца, разглядывая храмовые украшения. Скульптура повсюду изображала змею — символ неумолимой и беспощадной силы. Чудовищные статуи выставляли напоказ черты, полные значения. Мать богов — Коатликуэ стояла на толстых ногах с когтями вместо пальцев и раскрывала перед сморщенной грудью безобразные лапы. На зобастой шее не голова, а курносый череп, потому что она была также и богиней земли, то есть Смертью. В глубине храма Асмунд видел еще одну скульптуру. Мертвая женщина, ее изваяли стоя, с закрытыми глазами на отекшем лице, с обвисшей нижней губой. «Койолшауки», — с трудом припомнил ярл. А сам бог войны обладал двумя лицами, в них смешались черты ягуара и человека. Все — преувеличенное, и во всем — особенный смысл, призванный вызвать страх. Асмунд не боялся чужих богов. Разве сравнить их с богами викингов, с валькириями и героями Валгаллы? Не удивишь его и видом жертв, у которых вырвано сердце. В набегах на Остров саксов он встречал нечто похожее… Он был тогда еще юношей. Отряд викингов углубился в дремучие кельтские леса. Перед мысленным взором ярла встала мглистая лунная ночь, холмы, у подножия которых собрались толпы кельтов. Слышался тихий говор, лязг оружия. Потом наступила тишина. В ущелье прорвался первый луч солнца… Женщины с длинными косами, в ослепительно белых одеждах золотыми серпами распарывали грудь пленным. Вырвав живое сердце, они показывали его восходящему солнцу. Потом сжигали в огне, пылающем на высоком жертвеннике из четырех каменных плит, поставленных торчком. Сердце юного Асмунда дрогнуло, когда он увидел этих женщин, — они были прекрасны и зловещи.4
Топильцин сидел на возвышении, покрытом шкурой ягуара. Его сак бук, белый плащ, свободными складками спадал на пол. — Теперь ты знаешь язык тольтеков. И будешь служить мне. Забудь о своем прошлом, как забыл его я… — Топильцин умолк, и его жестокое лицо постепенно приобрело выражение угрюмой задумчивости. Разве мог он сам забыть прошлое?.. Перед глазами Кецалькоатля встал шумный город Солнца — Тула-Толлан. Долгие годы был он там могущественным правителем, и его слово, слово посланца богов, было священным для всех тольтеков. Но высшая знать и жрецы, подстрекаемые сводными братьями по отцу, великому Мишкоатлю, сумели победить его в борьбе за власть… Топильцин вспоминал, как ему пришлось ночью покинуть Толлан. Днем и ночью шел отряд его телохранителей на юго-восток, к морю. Через горы и безводные пустыни, под палящим солнцем. И нельзя было остановиться: преследователи шли по пятам. О эта отчаянная битва при Синалоа!.. Лишь боги помогли ему вырваться из смертельного кольца. Да, сводные братья хотели видеть его на жертвенном камне. Не удалось… Сколько лет прошло с тех пор, как он здесь, в болотистых джунглях Ноновалько? Тогда он потерял все. Но не сдался. Вот его новый город, столица будущего царства, Тулапан-Чиконаутлан. У него много друзей в Толлане, многие из них последовали за ним в изгнание. И он, Пернатый змей, оправдает их надежды. Мир еще услышит его имя. Боги помогут осуществить великий замысел. — Служи нашим богам… — словно очнувшись, медленно продолжал Топильцин. — Это говорю тебе я, Пернатый змей. — Да, — пробормотал Асмунд, — я, потомок Вотана, буду служить тебе, вождь. Но я викинг, и моя рука скучает без оружия. Назови своих врагов! Топильцин удовлетворенно наклонил голову, встал. Его плащ распахнулся. — Ты верно понял мои мысли… Боги тольтеков учат: добро — это победа, это чужие сердца, вырванные из груди. Зло — это поражение и твое сердце на жертвеннике. — Резкие черты Топильцина исказились, в глазах вспыхнул огонь. — Я, Пернатый змей, только побеждаю! — Я тоже, — сказал ярл. — Победа всегда приходит ко мне… — Скоро я двину воинов на завоевание мира… Топильцин зорко вглядывался в ярла. — На рассвете ты поведешь отряд, — добавил он спустя некоторое время. — Надо испытать силу врага. — Я готов, вождь. Но мне нужен мой меч. …Топильцин допытывался, не богами ли послан к ним ярл. Но Асмунд качал головой и рассказывал о фьордах, штормовом море Севера, о жизни викингов, саксах, арабах, римлянах, византийцах. Топильцин лишь улыбался, воспринимая его слова как искусную выдумку. Ибо никто из тольтеков не видел никогда ничего подобного. А раз так, значит, этого не существовало. — Бытие, — веско говорил он ярлу, — это хитрость богов, трудная загадка. Познать смысл жизни дается лишь избранным, и тольтеки во всем полагаются на знания богов. Они открыли тольтекам начало их бытия, которое в бесконечном удалении поколений. Предки наших предков шли сюда, в страну теплых вод и Солнца, тысячи лет. Шли сквозь горы снега и льда. Лютая стужа уносила детей и стариков, долгий ночной мрак сковывал сердца живых. Но великие боги зажигали в небе цветные огни — и мрак отступал. На пути к солнечному югу тольтеки победили множество врагов, и довольные боги, пресытившись сердцами жертв, наградили верных… Но боги ненасытны, они ждут новых побед и новых жертв. Топильцин протянул руку на юго-восток: — Там лежат царства. По богатству им нет равных. Асмунд слушал. Перед его глазами вставали очертания могущественных и сказочно богатых государств, тучные поля маиса, белокаменные города с взметнувшимися к небу пирамидами, храмы и дворцы правителей. — …Там сильные, мудрые жрецы, познавшие тайны земли и неба. Но я сломлю их могущество, а знания этих жрецов будут служить тольтекам. Пока у меня мало воинов. Но придет время, и я, великий Пернатый змей, крикну: «Горе вам, люди майя! Берегитесь, жрецы и правители белокаменных городов!.. Я несу конец вашему могуществу. Кто сможет остановить тучи моих воинов? Горе вам, майя!» Викинг смотрел на мощную фигуру Пернатого змея, и ему казалось, что он вот-вот расправит крылья для полета. Да, он был великим вождем. — Завтра на рассвете, — медленно повторил Топильцин, не глядя на ярла, — ты поведешь воинов в земли майя. Верю: ты победишь.5
Второй месяц двухтысячный отряд тольтеков пробирался по запутанным тропам Ноновалько — страны, опаленной солнцем, покрытой непроходимыми лесами, болотами. Город Пернатого змея — Тулапан-Чиконаутлан — остался далеко позади. Только теперь Асмунд начал понимать, что такое Ноновалько. Здесь, в Долине девяти рек, как в муравейнике, жили, копошились бесчисленные воинственные племена. Даже воины могущественного Толлана, лежавшего где-то на северо-западе, не осмеливались проникать сюда. Племена постоянно враждовали между собой. Каждую минуту они готовы были кинуться в смертельную схватку — с любым, кто захотел бы посягнуть на их свободу и несуществующие богатства. Племена ица, киче, тутуль-шиу, какчикелей… То была грозная, никем не управляемая сила. И этих варваров Топильцин надеется объединить, поднять на войну против майя? Асмунд с сомнением качал головой. Трудное дело, хотя вождю тольтеков виднее, он ведь посланец богов. …Какой-то непонятный звук нарушил привычную симфонию девственной сельвы. «Цок!» — прозвучал он снова. Ярл подал знак ахкакаутину. Воины остановились. С ветви альгаробо вспорхнул пугливый кецаль. Возбужденно застрекотали обезьяны. «Цок, цок, цок!» — все настойчивее звучало в сельве. — Это каменотесы, рабы, — вполголоса сказал ахкакаутин. — Они строят храм. Я посылал разведчика. Он говорит: осталось семь полетов стрелы. — Пора, — Асмунд вытащил из ножен меч. Стальное лезвие блеснуло в лунном свете. Воины развязали тюки, надели длинные рубахи, толсто простеганные хлопком и пропитанные солью. Эта жесткая и прочная одежда хорошо защищала тело от копий, стрел, обсидианового меча. Медленно продираясь в густом подлеске, тольтеки вспугивали ядовитых гадов, кишевших под ногами. Все громче раздавались цокающие звуки. Асмунд со своим отрядом напал так внезапно, что успел почти без сопротивления продвинуться до главной площади города. И только здесь, среди храмов и дворцов, началась битва. Казалось, каждый дом, каждая ступень пирамиды сражались против тольтеков. Стража и правители майя не сразу поняли, кто осмелился напасть на священный Копан. Свист летящих стрел, глухой скрежет обсидиановых мечей, хрипы умирающих, воинственные крики наполнили еще не вполне проснувшийся город. …Яростный бой кипел на ступенях главной пирамиды. Ряды воинов, словно волны, то взлетали вверх на несколько ступеней, то отступали вниз. Постепенно ярлу и его воинам удалось пробиться на широкие площадки — уступы пирамиды. Они закрепились здесь. Но сопротивление майя нарастало с каждым мгновением. Жрецы и стража бились насмерть. К тому же все новые силы вливались в их ряды. Тольтеков пока спасала сама религия майя: она требовала не убивать врага, а брать в плен, чтобы принести в жертву богам или продать в рабство. Уже много людей Асмунда попало в плен, и он видел, как их волокли на вершину пирамиды — к жертвенному алтарю. Сверху обрушилась новая волна защитников. Ряды тольтеков дрогнули, медленно покатились вниз. Асмунд понял: если сейчас не произойдет чуда — все они погибнут, их не выпустят отсюда живыми. Топильцин с презрением будет произносить его имя. Никогда он, Асмунд, не увидит родных фьордов, не вдохнет воздуха открытого моря. — За мной, вперед! — крикнул ярл, прыгая сразу на две ступени вверх. Бешено вращавшийся над его головой меч превратился в сверкающий круг. В шлеме с забралом, в кольчужной рубахе, от которой отскакивали стрелы и копья, он был неуязвим. Майя пятились от него, считая, что неведомого воина охраняют чужие боги. В крови ярла ожил дух убитого берсерка Ролло. Асмунд впал в настоящее безумие, находя мрачное упоение в убийстве. Франкский меч легко крушил деревянные щиты и шлемы, просекал рубахи из хлопка, бронзовые тела. Всякий раз, когда удар достигал цели, поверженный падал сверху прямо на ярла, и он едва успевал сбрасывать с себя безжизненное тело. Ступени пирамиды были высокими и узкими, но ярл не чувствовал усталости. Он поднимался вверх все выше, а за ним двигались тольтеки. Уже близка вершина пирамиды… Вдруг позади жрецов Асмунд разглядел огромные плюмажи головных уборов. Его сердце забилось толчками. Он понял: наступает решительная минута. Такие плюмажи могли принадлежать лишь двоим — правителю и Верховному жрецу. Стрит захватить их в плен или убить — и победа за ним. Враждебное войско разбежится, потому что потеря вождя означает: боги покинули обреченных. Тут Асмунд заметил, что жрецы майя что-то задумали: за линией стражи, оборонявшей вершину пирамиды, собрался хорошо вооруженный отряд. «Сейчас этот отряд бросится вниз, — подумал ярл. — Своими телами опрокинет нас. Правитель и Верховный жрец, воспользовавшись общим замешательством, вырвутся из ловушки». Хрипло, дико закричал Верховный жрец — и воины устремились вниз. Решение пришло к Асмунду мгновенно. — Ложись! — скомандовал он во всю силу своих легких. Приказ был настолько неожиданным и невероятным, что все воины, и тольтеки, и майя, не рассуждая, бросились ниц на каменные ступени. Воины, начавшие атаку, не смогли удержаться на ногах… Гора барахтающихся тел, все увеличиваясь, поползла вниз. И тогда Асмунд встал. Прямо перед ним — без охраны и свиты — стояли две одинокие фигуры: правитель и Верховный жрец Копана. Ужас сковал их движения. В лучах утреннего солнца сверкнул франкский меч… Нагруженные добычей тольтеки покидали город. Они шли мимо дымившихся громад храмов, мимо испепеленных жилищ, среди разбросанных тут и там изваяний богов. Асмунд дремал в носилках, которые несли пленники, и вспоминал празднество в честь победы. Оно состоялось там же — на ступенях главной пирамиды.
…Тольтеки были полны пьянящей радости победы. Огромный барабан, в который били два силача, наполнял своими звуками весь мир. Под этот всезаглушающий грохот вверх по пирамиде, к площадке на ее вершине, где был невидимый снизу алтарь, тянулась живая цепь знатных пленников. По трое в ряд: два тольтека, а между ними обреченный. Высокие ступени достигали бедра. Не выпуская связанных рук пленника, тольтеки разом вспрыгивали на ступень. Поворот — и наверх мягко вздергивалась жертва. Размеренно, гулко рычал священный барабан. Подчиняясь его ритму, цепь не рвалась. Каждая ступень была занята. Словно исполняя танец, вновь и вновь возносились со ступени на ступень звенья — тройки. Ярла невольно поразило то, что ни один из обреченных не сопротивлялся. Многие даже гордо прыгали сами. Потом он понял, что участь умереть на жертвенном алтаре не страшила майя. Ведь души жертв вступали в особую обитель неба, где их ждали боги. Бытие там несравнимо с долей тех, кто умирал на земле — от болезни, укуса змеи, когтей зверя, просто от голода. Заглушаемое грохотом барабана, таинство жертвоприношения совершалось как бы неслышно. Многие тольтеки впали в священный экстаз: они выли, раздирая себе уши, лица, пронзая длинными шипами языки. Своей мукой и кровью они надеялись еще теснее скрепить союз с богами, даровавшими победу.
6
— Приведите, — жестом приказал Топильцин. К его ногам бросили коренастого человека с плетеной корзиной за спиной. Человек был схвачен воинами у границ страны Ноновалько. — Кто ты? — спросил вождь. — Я из людей тутуль-шиу, господин. Продаю перья кецаля, есть у меня и камни чальчихуитес. Я купец, об этом знают все. — Откуда и куда идешь? — Был в Уук-Йабналь, великий вождь. А иду в Толлан. — Город Солнца… — медленно произнес Топильцин, и его лицо омрачилось. — Когда будешь в Толлане, поклонись богам. — Повинуюсь, великий господин. — А теперь расскажи обо всем, что видел в стране майя. Все, что захочет знать Рыжий Након. — Топильцин сделал едва заметный жест в сторону ярла. — Говори только правду. — Только правду, великий вождь, — пробормотал купец, косясь на глубокую яму в трех шагах справа. Оттуда доносились глухие стоны и вопли. Он знал, что это такое. Яма пыток… На жертвенный камень обреченные шли с надеждой на иную, возможно более легкую, чем на земле, жизнь: ведь их ждала встреча с богами. Но яма пыток не оставляла никаких надежд. Ее дно было устлано толстым ковром из гибких ветвей, утыканных ядовитыми шипами. Ветви «оживали» от малейшего движения человека, опутывали обнаженное тело, разрывая кожу в клочья. Лежать неподвижно на таком ковре было невозможно, яд шипов вызывал нестерпимый зуд, усиливавшийся от жары и пота. Только смерть могла избавить от нечеловеческих страданий. А смерть не спешила к обреченному: иногда ковер стонал и шевелился в течение многих дней. Асмунд сидел на каменной скамье, перед ним на плоской плите лежала карта. Он сам вычертил ее краской на большом куске белой ткани. Карта создавалась постепенно. Месяц за месяцем допрашивались Топильцином лазутчики, торговцы, пленники — знатоки дорог и троп. Отвечая, индейцы дивились непонятной им жажде знаний свирепого вождя тольтеков. Карта была почти готова. Глядя на нее, Топильцин и ярл могли точно представить каждую тропинку в сельве, каждое ущелье, перевал, по которым двинутся боевые отряды в страну майя. Они знали наперечет колодцы и ручьи, где можно напиться во время похода. …День и ночь к Тулапан-Чиконаутлану шли послы и вожди племен Ноновалько. Топильцин упорно убеждал их оставить распри, под его знаменами сокрушить богатые города-государства. И так велика была способность вождя подчинять своей воле окружающих, что племена, не признававшие ничьей власти, охотно подчинялись Топильцину. Слава о Пернатом змее проникла в самые глухие уголки сельвы, докатилась до неприступных гор на западе и севере. Люди ица, какчикели, тутуль-шиу, киче заполонили прибрежную равнину. Асмунд, ставший Рыжим Наконом — полководцем, учил их брать приступом каменные пирамиды, знакомил с неведомой им военной тактикой франков, норманнов, саксов. Учил искусству ночного боя. И люди сельвы передавали из уст в уста: «Великий Пернатый змей пришел в наши земли от богов. Он непобедим. Мы возьмем хорошую добычу: на тучных полях майя уже зреют маис, фасоль, тыква, жиреют индюки. Готовьтесь, люди, к большому походу. У Пернатого змея есть Рыжий Након — тот, что победил священный Копан». …Облаченный в сакбук, Топильцин стоял в центре круга, образованного сидевшими на земле вождями племен. Надвинутая на лоб плетеная повязка доходила ему почти до бровей. Перья головного убора вырастали из повязки сплошным высоким частоколом, образуя перевернутый конус со срезанной верхушкой. Сине-зеленые, они переливались в лучах солнца, и с их красотой могли поспорить лишь украшения из бирюзы и других камней, дополнявших наряд. Топильцин поднял руку, его белый плащ взмахнул своими крыльями. — Великие вожди страны Девяти рек! Я, Пернатый змей, правитель Толлана — города Солнца, собрал вас для военного совета. Слушайте меня, священного Пернатого змея — К’ук’улькана! Родовые вожди почтительно склонили головы, скрестив руки на груди. Ярл видел, что они довольны столь лестным для них обращением. К тому же Топильцин впервые назвал свое имя Пернатого змея на их родном языке. — …Непобедимые вожди страны Ноновалько! Боги сказали мне: «Пора!» Мы готовились долгие годы… Так обрушимся на плодородные долины майя, ибо фасоль и маис созрели! Вперед, братья К’ук’улькана! Маленькое облако не может закрыть своей тенью даже самое маленькое селение. Но я собрал облака в тучи. Наши воины, объединившись, закроют солнце над землей майя. Мы сметем самые большие города врагов — и построим столицу К’ук’улькана. Люди и звери будут трепетать перед великим царством Пернатого змея. Поднимайтесь, храбрые вожди! Наши воины ждут. Пусть забурлят девять рек и выйдут из берегов!Великой войной идет К’ук’улькан! — Йе-кам-ил тун!.. — закричали вожди, вскакивая на ноги и потрясая обсидиановыми мечами. Ударили священные барабаны. — Ток-тун хиш сак-тун!.. Настало время копий, время ягуаров! Еще громче загудели барабаны и раковины.7
Все дальше в прошлое отодвигались фьорды, покрываясь туманной дымкой забвения. И порой ярлу казалось, что не было снеговых вершин Вестфольда, не было ни фьордов, ни штормового северного моря, бьющего в подножие скал. Не плавал он на драккаре и не сидел у очага, вдыхая горький, привычный с детства дым. Ему казалось, что он родился и вырос здесь, в этой жаркой и душной стране, где все склоняются перед волей беспощадных богов. Второе десятилетие длился поход Пернатого змея — К’ук’улькана. Рыжий Након всегда был там, где требовалось сломить сопротивление врага. Никто из тольтекских военачальников не мог сравниться с ним в искусстве боя. Ярл наносил удар в нужный момент по самому слабому месту — и тогда рушились белокаменные храмы, — гарью заволакивало селения. Асмунд стоял на склоне пологого холма и наблюдал, как у его подножия бесконечной колонной шли воины. Палило солнце, над дорогой висели плотные клубы пыли. Шатер синего неба заволакивал дым пожарищ. Склонив украшенную убором из перьев голову, Асмунд размышлял, и думы его были безотрадными. Когда кончится все это?.. Позади остались тысячи и тысячи полетов стрелы — дремучая сельва и топи, высокие горы и знойные пустыни. Он, Рыжий ярл, завоевал для К’ук’улькана множество городов, взял неисчислимые толпы пленных. Но Топильцин ненасытен, ему все мало. Может, он и вправду надеется покорить весь мир? Но где они — границы здешнего мира? От дальних лазутчиков Након узнал: Месета, омываемая на востоке и западе Океаном, беспредельна к северу и югу. По их рассказам, на юге лежали неприступные горные хребты, а за ними уходит к краю земли непроходимая сельва, наполненная страшными племенами и невиданными зверями. Не хватит двух жизней, чтобы завоевать все эти земли, племена и царства. А время бежит, надвигается старость.
И тут ему пришла в голову неожиданная мысль. Да, пожалуй, это единственный способ обмануть судьбу и вырваться из тольтекской Месеты. …Асмунд разложил у ног Топильцина искусно раскрашенную карту и, водя по ней палочкой, неторопливо говорил: — Взгляни сюда, великий вождь. Вот Уук-Йабналь, Чтобы взять его, надо пройти по сельве пять тысяч полетов стрелы — это больше двадцати лун. Но есть верная дорога — Океан. На большой лодке с веслами и парусом я доплыву в Уук-Йабналь за шесть лун. — Тольтеки не строят больших лодок, — возразил Топильцин. — Боги не учили их этому искусству. — Я могу построить такую лодку. Она называется драккар. Прикажи. Топильцин долго размышлял. Ярл чувствовал: в сознании тольтека возникли какие-то смутные подозрения. С трудом выдержав тяжелый взгляд Пернатого змея, ярл равнодушно пояснил: — Две таких лодки могли бы вместить пятьсот воинов. Свирепые черты Топильцина немного смягчились. — Пусть будет так. Делай большую лодку. …Только что пал белокаменный Йашчилан. Покрытый пылью и потом ярл, еще разгоряченный недавним боем, медленно шел навстречу процессии. В покоренный город вступал сам Пернатый змей. Глухо били барабаны, визжали флейты и раковины. Топильцин двигался меж двух рядов побежденных майя. Стоя на коленях, они протягивали к вождю тольтеков окровавленные руки, потому что ногти на пальцах были вырваны: — Пощади нас, К’ук’улькан! Ты велик, могуч и добр, — хрипели пленники, сами не веря в это. — Даруй нам жизнь, о милосердный господин! Мы будем верными слугами!.. Топильцин шагал с каменным лицом. Мольбы усилились, перешли в неразборчивый вопль. Вождь поднял руку — все замерло. — Отбери искусных мастеров, резчиков по камню, художников, — сказал он склонившемуся в приветствии ярлу. — А знатных… Пернатый змей взглянул на вершину пирамиды, горой вздымавшейся над Йашчиланом. Там, словно каменные изваяния, вырисовывались фигуры тольтекских жрецов. Коршуны поджидали свою законную добычу. — Повинуюсь, — пробормотал Рыжий Након. Отступив немного в сторону, он вполголоса добавил: — Хотел поговорить с тобой, великий вождь. — О чем? — нахмурился Топильцин. — Тропа похода указана. Завтра на рассвете ты поведешь воинов. — Прошу выслушать меня, великий. — Только не здесь, — оборвал Топильцин. — Когда настанет вечер. Вот знак. — Он неторопливо извлек из складок плаща четырехугольную пластину из нефрита, подал ее ярлу. Красный диск солнца скрылся за горизонтом, сразу наступила темнота. На небе зажглись серебристо-синие звезды. По внутреннему двору Асмунд прошел к восточной стене дворца, где поместился К’ук’улькан. Скульптурная группа у входа — фигуры жрецов в натуральную величину — поразила ярла своей естественностью. В оранжевом свете факела, который нес перед Наконом воин охраны, гипсовое лицо юноши-жреца внезапно ожило. Асмунду почудилось, будто он силится о чем-то предупредить. Или в этих каменных чертах застыла невысказанная угроза?.. Не отрываясь, ярл смотрел на скульптуру. Пусть будет, что будет. Топильцин не пожелал пройти в паровую баню, а прямо спустился в опочивальню. Жрецы помогли ему снять сандалии и верхнюю одежду. Затем поднесли напиток из маиса и бобов какао и вышли в темный коридор. Потом они спустились вниз. Только четыре воина в боевых доспехах — панцирь из стеганого хлопка, сверху шкура ягуара, круглый щит и топорик — остались стоять между колоннами, на которых покоилась каменная крыша-шатер. Дежурный жрец-звездочет сидел на специальной скамье, готовый по первому зову броситься в опочивальню, если понадобится сообщить правителю время. Увидев поднимающегося на площадку Накона, жрец встал. Приняв нефритовую пластинку-пропуск, он кивком отослал воина охраны и повел ярла к Топильцину. — О человечнейший и милостивейший господин наш, любимейший… — донеслось до ярла. Кто это? Так могли обращаться к правителю только высокопоставленные помощники. Ну, конечно, старый змей Шихуакоатль, главный судья. Зачем он здесь? Асмунд знал, что Шихуакоатль пользуется особым доверием Топильцина. Жрец просунул голову в завешанную ковром из перьев дверь и доложил Топильцину о Наконе. — Входи. Чем огорчишь или порадуешь нас? — в горле у Топильцина клокотала сдерживаемая ярость. Ярл покосился на Шихуакоатля. О чем мог нашептать вождю этот негодяй? — Говори! — перехватив взгляд ярла, процедил Пернатый змей. — Расскажи мне все о большой лодке. Словно холодная молния сверкнула в сознании ярла. Теперь он понял, почему бесследно исчез Мискит, один из лучших мастеров, строивших драккар без единого металлического гвоздя. Мискит был пленен в Копане, и ярл сохранил ему жизнь, узнав, что раб известен как талантливый строитель и резчик. Он многое знал, этот майя: советуясь с ним при сооружении драккара, Асмунд вынужден был говорить о плавании в открытом море, о том, что лодка должна быть способна переплыть Океан. Вероятно, Мискита предал кто-то из его подручных, и того схватили люди Шихуакоатля. Изощренные пытки довершили остальное. — Ты хочешь знать, великий вождь… — медленно, собираясь с мыслями, начал ярл. Топильцин стремительно поднялся с ложа, схватил его за плечо. — Так для чего тебе нужна большая лодка? Асмунд понял: это Фатум опять занес над ним свое ледяное крыло. Сердце ярла забилось тяжелыми, редкими толчками. Немного помолчав, он произнес решительно и твердо: — Много лет служу я великому вождю. А теперь отпусти меня на родину. — О какой родине говоришь ты, Након? Разве она не здесь, на земле тольтеков? — Я родился на берегу фьорда… И не забыл гул штормового моря. — Он не может оставаться Наконом! — прорычал Шихуакоатль. Его морщинистое толстое лицо дергалось от злобы. — Я предупреждал, великий… Нельзя верить чужаку. — Переплыв Океан, я прославлю твое имя на восточных берегах, — сказал ярл, обращаясь к Топильцину. — Нет! — оборвал его Топильцин. — Я отдаю предателя жрецам. Ты больше не Након. Рыжий ярл понял, что все напрасно. Чего ждал он все эти годы? Полтора десятилетия в сражениях и походах. Жажда и усталость, кровь и пот — все напрасно. Холодная злоба поднялась в его душе. Что ж… Он вздохнул и неуловимо точным движением воткнул арабский нож в сердце К’ук’улькана. Мгновение Топильцин стоял неподвижно, сверля Накона тускнеющим взглядом. Потом его мощная фигура качнулась, он сделал неверный шаг, еще один… И, вырвав из груди нож, упал ничком. Ни звука, ни стона. Пернатый змей умер молча — как и подобает великому вождю. Шихуакоатль беззвучно открывал и закрывал рот и силился встать. Но арабский клинок ярла уже щекотал ему горло. — Ты отправишься к своим богам, змей, — шепотом сказал Асмунд. — Или молчи. Главный судья бессмысленно вращал глазами, в которых застыл ужас. Его шея, морщинистая, как у старого индюка-улума, зябко подергивалась. — Ты поможешь мне. Мы выйдем отсюда вместе. А теперь зови жреца. Ну! Шихуакоатль поспешно кивнул головой. Напряженным голосом он окликнул звездочета. Тот вбежал, ничего не подозревая. Притаившийся у входа ярл, одной рукой зажав ему рот, другой схватил за горло и задушил. Шихуакоатль начал икать от страха. Ярл выразительно потряс ножом, и старик замер. — Живо. Вставай. Вместе с Шихуакоатлем он подтащил труп Пернатого змея к узкому проему окна и сбросил вниз — там грохотал горный поток, омывающий подножие дворца. Затем туда же отправился и мертвый жрец. Понукаемый Асмундом, главный судья тщательно вытер следы крови на полу. — Теперь садись и пиши, — приказал Асмунд. — Что… писать? — заикаясь, спросил Шихуакоатль. Асмунд молча указал на низкий столик у ложа К’ук’улькана. Там были чистые листы луба фикуса, краска в сосуде, напоминающем морду ягуара, и кисть. — Пиши, — повторил Асмунд, вытирая лезвие ножа о внутреннюю подкладку плаща. — «Сыны Толлана! Я, великий Пернатый змей, сегодня ночью беседовал с богами. Они позвали меня к себе, в обитель неба. Ибо я выполнил свой долг. Со мной отправился младший жрец Акатль. Я вернусь на землю тогда, когда будет угодно великим богам. Тольтеки должны продолжать поход в страну майя. Вождем сынов Толлана будет мой сын, Почотль Кецалькоатль. Рыжему Накону повелеваю пересечь Голубое море и узнать, что лежит за ним. Шихуакоатль объявит вам мою волю. Я, Пернатый змей, сказал все». Главный судья остановился, его глаза еще больше выпучились, кисточка дрожала в руке. — Ну! — поторопил его Асмунд. Шихуакоатль дописал последние иероглифы. Асмунд наклонился над его плечом, проверяя написанное. Затем взял лист луба и переложил на видное место, у изголовья постели К’ук’улькана. — Пошли, — потряс он старика за плечо. — Не вздумай что-либо сделать, когда пройдем мимо стражи. …Чувствуя у ребра холодное острие ножа, Шихуакоатль медленно двинулся вперед, справа от Накона. Со стороны все выглядело так, будто они о чем-то тихо беседуют, касаясь друг друга плечом. Воины охраны с бесстрастными лицами стояли между колоннами. Факелы в их руках шипели и потрескивали, освещая площадку оранжевыми бликами. Асмунд и Шихуакоатль неторопливо спустились вниз, миновали площадь, где горели костры и вокруг них вповалку спали тольтеки. Асмунд поглаживал надетый на палец перстень Топильцина — знак высшей власти — и лихорадочно обдумывал, что предпринять дальше. У темного края площади он остановился и сказал Шихуакоатлю: — Молчи до конца жизни. Если вздумаешь поднять шум, меня, конечно, схватят. Но я назову тебя своим сообщником. Ты тоже погибнешь в яме пыток. Ты понял меня? Шихуакоатль молчал. Что он мог возразить? — Где Мискит? — В подвале храма, — пробормотал судья. — Он еще жив? — Да. Он сказал все после первой же пытки. — Сейчас я позову воина, — ярл кивнул на ближайший костер. — И ты дашь ему приказ привести Мискита сюда. Через некоторое время Мискит был с ним, Ярл передал ему сумку с маисовыми лепешками и фасолью, которую всегда носил с собой. — Ты будешь идти, не останавливаясь, до тех пор, пока не увидишь бухту, — сказал ему ярл. — Зайомни: без остановок и отдыха. Приготовь все к отплытию. — Повинуюсь, господин, — Мискит склонился в поклоне, все еще не веря, что вырвался из страшных лап жрецов. Когда Мискит исчез в темноте, Асмунд сказал судье: — А теперь прощай, змей с вырванным жалом. Тебе придется очень толково объяснить жрецам и Совету непререкаемых, — ярл насмешливо улыбнулся, — все чудеса этой ночи. И то, что написал на лубе фикуса Топильцин… Я ухожу. Совсем. Навсегда. Глядя вслед ярлу, старик бормотал злобно: — Тебя покарают великие боги, чужак… Ты не уйдешь от мести. Но Шихуакоатль понимал, что Рыжий Након ускользает безнаказанно. Никто никогда не узнает правды о кончине великого К’ук’улькана. Никто не должен знать. Он, Шихуакоатль, создаст легенду о Кецалькоатле, которая переживет века. Ночь была на исходе, когда Рыжий Након отыскал начальника охраны и показал ему перстень. Тот послушно склонил голову. — По воле Пернатого змея я ухожу на восток, к морю. Ты дашь мне отряд отборных воинов. Большая лодка готова. Я переплыву Голубое море и высажусь у Уук-Йабналя. Ты и наконы придете туда же — через сельву. Я буду ждать вас к исходу девятнадцатой луны. И мы захватим богатый город. Асмунд опять показал тольтеку личный перстень К’ук’улькана.
8
Асмунд стал наконец самим собой — вольным викингом. У него словно выросли крылья. Да, он еще будет королем открытого моря, еще услышит вдохновляющий звон бронзового ди?ка. Его плечи оттягивала кожаная сумка с золотом и драгоценными камнями — военная добыча за годы походов. Этого вполне хватит на покупку там, в Вестфольде, нескольких драккаров. И о нем, Рыжем ярле, снова заговорят. Скальды будут петь о Рыжем Асмунде, который переплыл дважды Море Мрака, побывал в сказочной стране и сумел вернуться назад. Он снова мечтал о морских походах и набегах. Франки, саксы, италийцы будут дрожать от страха еще до того, как драккары Асмунда войдут в пролив между Островом саксов и землей фризонов. Быстроногие, закаленные в бесконечных походах воины едва поспевали за широко шагавшим Наконом. Трое суток почти без отдыха шел отряд Асмунда к морю. Люди продирались сквозь сельву, карабкались на перевалы, преодолевали реки и ущелья. И только на четвертый день, когда оставшиеся за спиной очертания горных вершин почти слились с линией горизонта, Рыжий Након дал измученным людям передышку. К ночлегу не готовились: тольтеки просто падали на землю и мгновенно засыпали. Но Асмунд бодрствовал. Он не мог спать: слишком велико было желание ощутить под ногами качающуюся палубу, увидеть пену прибоя. …Черное небо, казалось, придавило сельву, растеклось по ней липким удушьем. Все застыло, оцепенело. И только тишина, тягучая, густая, властвовала над лагерем забывшихся в глубоком сне воинов. Где-то чуть слышно завыл койот. Потом звук повторился ближе. Асмунд поднял голову. Напрягая зрение и слух, он пытался понять, почему осторожный зверь, обычно избегающий встреч с людьми, приближается к ночному лагерю тольтеков. Стрела просвистела по-змеиному тихо и тонко. Видно, правы были скальды, учившие: «Бессмысленно бороться с Фатумом, если он восстал против тебя. Никто не может победить его, ни боги, ни герои Валгаллы». До моря оставалась какая-нибудь тысяча полетов стрелы, и тут-то людей Асмунда выследил большой отряд майя. Они обнаружили тольтеков еще до захода солнца и скрытно преследовали даже в темноте вопреки своим обычаям. Но видно, это были воины, уже сражавшиеся с ярлом и кое-чему научившиеся. Вторая стрела просвистела у самого уха ярла и, скользнув по забралу, вонзилась в чье-то горло, заглушив крик боли и ужаса. Как только раздалась команда Накона, мертвые от усталости тольтеки мгновенно ожили. Еще секунда — и они сомкнулись в боевой строй. Так решительно и быстро могли действовать лишь отборные воины К’ук’улькана. Молча, без единого возгласа они бросились в атаку на едва различимых во тьме врагов. …Никто не просил пощады. Даже раненые не стонали. В густом мраке слышалось лишь хриплое дыхание бойцов, тупые удары палиц да скрежет обсидиановых мечей. Битва длилась до самого рассвета. Она не утихала, пока не был убит последний тольтек. Ценой огромных потерь майя одолели воинов Рыжего Накона, поразили всех до единого, кроме самого Асмунда. Шлем с забралом и кольчужная рубаха спасали его от смертельных ран, но ноги и бедра были исколоты пиками и мечами. С обломками стрел, торчащими из ран, он стоял на невысоком бугре. В правой руке у него был меч, в левой — арабский нож. Асмунд непрерывно отражал удары, колол, резал, рубил. Все труднее становилось поднимать немеющую руку, и ярл чувствовал: еще немного — и он упадет. Силы покидали его. Воины майя, плотным кольцом окружив бугор, с удивлением смотрели на массивный силуэт викинга, резко выделявшийся на фоне посветлевшего неба. Никто не решался подойти к нему ближе — мешала не только груда тел вокруг Асмунда, но и страх перед неуязвимым тольтеком. Вдруг тишину разорвал яростный рев. Снова ожил в Асмунде дух берсерка Ролло. Размахивая мечом, ярл бросился вперед, смял ряды майя… Те дрогнули, попятились. Получив еще несколько ран, оглушенный ударами палиц по шлему, Асмунд все-таки прорвал кольцо врагов и скрылся в еще темной чаще сельвы. Его не стали преследовать — не решились.9
Асмунд выполз из сельвы на прибрежную отмель. Соленый ветер освежил его лицо. Он попытался встать, но не смог: сильно ослабел от потери крови. Вдали, на рифах, пенился прибой, а в бухте, избранной им много дней назад для строительства драккаров, было тихо и безлюдно. Рабы-строители, видимо, разбежались, а трупы надсмотрщиков гнили на берегу, уставив пустые глазницы в небо. Между трупами не спеша расхаживали вороны. Заметив ярла, они с хриплым карканьем взлетели и сели чуть поодаль. «Что тут произошло? — думал ярл в забытьи. — Кто убил надсмотрщиков? Взбунтовавшиеся рабы или те самые майя?» Никто не мог ответить на эти вопросы. И впервые в чужой земле ярла охватило отчаяние. Проклятые скальды! Они правы. Фатум непобедим. Что он, Асмунд, может теперь сделать — без гребцов, израненный, один против Океана? Последние силы он израсходовал на то, чтобы доплыть к драккару, который осталось лишь загрузить балластом. Целую вечность взбирался он по якорному канату. Пальцы немели, мускулы не повиновались. И Асмунд решил сдаться. Нельзя победить рок. Вот сейчас, когда до края борта оставалось два локтя, он сорвется в воду и уже не выплывет на поверхность. Тут чья-то рука схватила его за плечо, сильно дернула вверх. Асмунд перевалился через борт. — Ты!.. — прошептал он, увидев над собой склонившегося Мискита. — Ты… жив? А что произошло здесь? — На нас напали люди Шихуакоатля. Они шли за мной по следу… Напали на исходе ночи. Рабов увели с собой, остальных убили. Мне удалось доплыть сюда. Мискит сам едва держался на ногах. Вдруг он молча повалился на палубу рядом с ярлом. Его обнаженное тело покрывали раны и кровавые полосы, на лице засохла корка пота и крови. — Что прикажет господин? — спросил Мискит отдышавшись. — Подай нож. С помощью Мискита ярл подполз к борту. Одним взмахом перерезал канат. Больше он не вернется в эту душную дикую сельву, не увидит майя и тольтеков, их чудовищных богов. Асмунд бесконечно устал и думал только об отдыхе. Он жаждал покоя. Да, он, Асмунд, проиграл. Пусть! Но умрет он как викинг — в открытом море, под завывание ветра и плеск волн. Медленно-медленно-натягивая шкот, он вместе с индейцем развернул парус — тяжелый парус, сшитый из дубленых шкур молодых оленей. Драккар, подгоняемый легким бризом, тихо поплыл к выходу из бухты. Теряя сознание и вновь приходя в себя, Асмунд добрался до руля, помог судну миновать рифы. …Когда ослепительный диск солнца поднялся к зениту, Рыжий ярл был далеко в море. Его мучила жажда, и Мискит то и дело давал ему пить, черпая воду ковшом из огромного глиняного сосуда. Потом ярл распластался на кормовой площадке, закрыл глаза. Жизнь постепенно уходила из могучего тела. Нещадно палило солнце, в борт драккара с гулом била крутая волна. Хлопал парус. И ярлу было хорошо. Сквозь непрерывный звон в ушах он слышал песнь океана. Мискит снова дал ему воды. На миг прояснилось сознание. Асмунд обвел взглядом лазурное небо. Вдруг ему почудилось: все случившееся с ним в эти годы — просто короткое сновидение в перерыве между двумя набегами. Никуда он не спешит, он в родном фьорде. Впереди долгий заслуженный отдых. Но тут он увидел Мискита, с мрачной покорностью сложившего руки на груди. Еле слышно Асмунд выдавил: — Где твоя родина? Мискит помедлил, указал рукой на север, где стояли башни кучевых облаков: — Там, в сторону ночи… шаман, так говорят майя. Но мне не найти дорогу… Я все забыл. Помню лишь великую реку, где жил мальчиком. — Не падай духом… — хрипел ярл. — Держи вот этот руль. На север, все время на север. Вот так… Драккар приплывет к земле. Ты найдешь свою реку… А я ухожу в Валгаллу. Агония началась вечером. Асмунду чудилось: по небесной дороге летит белый как снег и чистый, как свет, конь. Всадница-валькирия приветливо машет ему, Асмунду. «Она зовет меня в Валгаллу, — подумал ярл, — к отцу всех викингов и героев — могучему Вотану…». Потом в сиянии Валгаллы он увидел самого Вотана. Но тут путь ему преградил злобно ухмыляющийся Локи, взмахнул черным крылом, обдал ярла ледяным ветром. «Удар меча… блеск топора», — беззвучно проносилось в меркнущем сознание ярла. То были слова песни Великого Скальда. «И мир исчез в твоих глазах… Валгаллы луч бежит к тебе». Кроваво-красный диск солнца медленно погружался в океан. Четкий силуэт корабля с тяжело хлопающим парусом уплывал все дальше и дальше, пока его не поглотил быстро сгущавшийся мрак.Об авторе Колпаков Александр Лаврентьевич. Родился в 1922 году в Нижнем Поволжье. Участник Великой Отечественной войны. До 1956 года служил в Советской Армии на офицерских должностях. Окончил военную академию, В течение последних пятнадцати лет работает в различных научно-исследовательских институтах Москвы. По специальности инженер-химик. Имеет несколько авторских свидетельств по химической технологии. Литературной деятельностью занимается с 1958 года — сначала в качестве научного популяризатора. Опубликовал множество статей в газетах и журналах, две брошюры в издательстве «Знание». Активно сотрудничает в журнале «В мире книг». В 1960 году в издательстве «Молодая гвардия» опубликовал научно-фантастический роман «Гриада», а в 1961 году — два рассказа в издательском сборнике «Альфа Эридана», в 1964 году в издательстве «Советская Россия» напечатал сборник научно-фантастических рассказов «Море Мечты». В последние годы постоянно выступает в журналах «Октябрь», «Детская литература», «Наш современник» с литературно-критическими статьями и рецензиями. В сборнике «На суше и на море» публиковался в 1961, 1962,1964, 1968 годах (научно-фантастические повести «И возгорится Солнце», «Око далекого мира», рассказы «Континуум два зет» и «Если это случится…»). В настоящее время работает над фантастическим рассказом о Полинезии эпохи II тысячелетия до н. э., а также заканчивает новый фантастический роман «Восьмая спираль».
Игорь Росоховатский
ДРЕВНИЙ РЕЦЕПТ

Научно-фантастический рассказ Рис. Б. Лаврова
1
Послышался тихий, нерешительный стук в дверь… Василий Кузьмич постарался представить человека, который сейчас войдет. Пока дверь открывалась, он успел подумать: «Загнанный и отвергнутый врачами, или же один из местных знахарей?» Человек был и похож и не похож на тех, кого представлял себе Василий Кузьмич. Худое, обветренное лицо. Болезненная бледность не смогла совсем смыть с него загар. Резкие морщины у глаз, как у каждого, кто привык щуриться на южном солнце. Веки полуопущены, и выражения глаз не увидеть. Нос с горбинкой. Больше похож на араба, чем на таджика. Василий Кузьмич ответил на приветствие и указал на стул: — Слушаю вас… И словами, и всем своим видом он откровенно показывал, что у него очень мало свободного времени. Посетитель понял это. — Возьмите меня в экспедицию. «Откуда он мог узнать о моих планах?» — удивился Василий Кузьмич. Попытался заглянуть в глаза посетителю, но тот упорно отводил взгляд. — Я несколько раз водил на Памир геологов. Был проводником, рабочим, оператором… — У вас язва желудка? — спросил Василий Кузьмич. Посетитель не удивился, что врач сумел определить по его внешнему виду болезнь. Но догадался, что последует за этими словами, и предупредил следующую фразу Василия Кузьмича: — Не беспокойтесь, я выдерживаю большие нагрузки. — Этого и не следует делать, — поучительным тоном врача сказал Василий Кузьмич. — Меня лечили два года, а болезнь лишь обострилась, — объяснил посетитель, и теперь его гортанный акцент прозвучал явственнее. — Остается операция… — Ну и что же? — пожал плечами Василий Кузьмич. — Вы пойдете за ягодами галуб-явана? — вопросом на вопрос ответил посетитель. Его голос зазвучал решительнее: — Мне сказали, что вам удалось найти записки Сей-кила, и вы хотите проверить его рецепты… — Вы знаете о Сейкиле, о сжигателях трупов? — заинтересовался Василий Кузьмич. Он предполагал, что предками сжигающих трупы были греки — воины Александра Македонского. Завоеватель поселил их в предгорьях Памира на правах колонизаторов. И если догадки верны, то медицина сжигателей трупов уходила корнями в медицину древних греков. — Кое-что. Я хотел бы попробовать полечиться по их рецепту. Не поможет — останется операция. — Подождите моего возвращения. Если найду ягоды… — Я помогу вам их найти, — в голосе посетителя слышалась странная уверенность. — У меня уже есть помощник. Больше никого не нужно, — нетерпеливо проговорил Василий Кузьмич, придвигая к себе книгу. Но посетитель и не думал уходить: — Вам не придется мне платить. — Вы больны, ослаблены. Вам нельзя отправляться в такой путь, — раздраженно сказал Василий Кузьмич. — Кстати, откуда вы узнали о моих делах? — Слухи подобны воде, а человеческое молчание — решету… «Он к тому же и скрытен, — подумал Василий Кузьмич. — Интересный субъект. Авантюрист? Жаль, нет времени выяснить». Он проговорил, открывая книгу: — Извините, до свидания. Посетитель сделал шаг к столу, впервые подняв взгляд. Его глаза оказались цепкими, в них не было робости. — Все-таки вы возьмете меня. Я правнук Сейкила. «Авантюрист!» — решил Василий Кузьмич, соображая, как бы поскорее разделаться с посетителем. — А тот достал из кармана паспорт, положил на стол перед врачом. Василий Кузьмич прочел: «Руми Сейкил». — Почему сразу не сказали? — Боялся, что вы суеверны. Василий Кузьмич вспомнил закон сжигателей трупов: «Наши тайны живут с нами и уйдут с нами». Если кому-то из чужих удавалось проникнуть в тайны племени, его убивали. Известны случаи, когда люди племени находили такого чужака даже в других странах, за много сотен километров, и не останавливались ни перед чем, чтобы уничтожить похитителя родовых секретов. Руми подошел еще ближе к Василию Кузьмичу, заглянул в глаза: — Думал: вы можете испугаться… — Ладно, раз вы — правнук Сейкила, готовьтесь в дорогу. Только не подумайте, будто я доказываю свою смелость. Руми улыбнулся: — Все знают, что глупые обычаи умирают раньше людей… — Оставьте заявление и документы, я попрошу оформить вас, — предложил Василий Кузьмич. — А пока расскажите немного о племени и прадеде. Историки упоминают, что Сей-кил был когда-то знаменитым врачевателем. Я думаю, что он использовал знания древних греков, объединив их с местной народной медициной. — Очевидно, вам известно больше моего, — сказал Руми. — Я слышал от деда, что его отец был великим лекарем. Но дед протоптал для себя иную тропу — стал охотником. И мой отец принял от него ружье, но рано умер. За ним ушла и мать. В тринадцать лет я остался сиротой, воспитывался у деда, потом — у друзей отца. Сейчас мне тридцать восемь, а я ничего еще не сделал в жизни. Был чужой тенью, шел чужими тропами, даже гнезда не свил… В его голосе звучало сожаление об упущенном: — Книга прошлого раскрыта перед вами, а не передо мной. Записки прадеда разыскали вы. Я лишь слышал о них. Он быстро взглянул на ученого: — Говорят, вы большой знаток не только народной медицины, но и истории Памира. — Слухи значительно преувеличены, — внешне сурово, но польщенный в душе сказал Василий Кузьмич.2
Они вылетели вдвоем: помощник ученого неожиданно заболел. Самолет нес их над степью, покрытой кустами янтака — верблюжьей колючки. Маленькие, круглые, они с небольшой высоты были похожи на полчища ежей. Рядом с крохотным аэродромом, куда приземлился самолет, журчала вода в арыке и сухо шелестел песок. Вода журчала громче, песок лишь вкрадчиво напоминал о себе, ожидая, когда люди выйдут в путь. Мощный вертолет проглотил пассажиров и легко перенес их через песок и воду, промчал над берегами Сырдарьи, где, по преданиям, когда-то властвовали тигры, над затерявшимися в пустыне озерами. Василий Кузьмич показал вниз, на буйно заросший камышом берег и прокричал Руми в ухо: — Рассказывают, будто там можно поохотиться на тигров! — Я их не встречал, — ответил Руми. Неожиданно, без тени улыбки, добавил: — Наверное, тигры превратились в кошек. Те, что решили уцелеть. Василий Кузьмич засмеялся, представив себе этот процесс превращения под дулом ружья. Вертолет высадил людей далеко за подножиями Памира, оглушительно застрекотал и улетел… Василий Кузьмич разложил карту на большом камне, вынул блокнот с записями. — Если верить Сейкилу, — отсюда надо идти через Змеиное ущелье. Но разве нет пути короче? — Есть, — ответил Руми. Он показал путь на карте. — Отлично! — обрадовался Василий Кузьмич. — Значительно короче и к тому же безопаснее. Ведь ущелье не зря зовется Змеиным? — Не зря, — подтвердил Руми. — Значит, пойдем вот так, — карандаш уже начал вести линию… — Надо верить старому Сейкилу, — строго возразил Руми. — Он знал много дорог, но выбрал одну. Как думаете — почему? — Не знаю, — растерянно сказал ученый. — И я не знаю. Значит, надо идти по его тропе. — Странная логика, — пробурчал Василий Кузьмич. — Хотите проверить его рецепт? Тогда-идите его дорогой. «Пожалуй, он прав. Во всяком случае, стоит попытаться», — подумал Василий Кузьмич. Он был не из боязливых, но напрасного риска не одобрял. Они переобулись в чокои — легкую охотничью обувь из сыромятной кожи, взвалили на плечи тяжелые рюкзаки. Тропа то круто уходила вверх, то петляла между скал и камней. Василий Кузьмич и Руми не сворачивали с нее. Здесь нечего мудрствовать: тропу проложил не один человек. Она прокладывалась и выверялась тысячами людей на протяжении многих лет. И если тропа вьется змейкой, то, значит, так легче взбираться на гору. Если идет в обход камня через ручей, то ненадежен камень, а если в обход ручья, то опасен ручей. Говоря точнее, тропу не прокладывают, а сочиняют, как песню, как легенду. Руми легко отыскивал неброские приметы тропы: вытоптанную или едва примятую траву, следы на камнях. Вот тропа ринулась вниз, и Руми предостерегающе поднял руку. Перед ними лежало Змеиное ущелье. Оно ничем не отличалось от других ущелий — яркая, будто рисованная зелень с густыми тенями, из которой подымаются посеребренные зазубренные скалы. Оно ожидало людей молча — без пугающего шипения и многозначительного шелеста.
Руми достал нож, срезал две ветки с развилками, обстругал. Одну дал Василию Кузьмичу. Опираясь на посохи, они начали спускаться. Камушки не катились из-под ног, — значит, Руми верно ступал по тропе. Тени шли рядом с ними, то исчезая, то появляясь. Вот Руми низко нагнулся, проходя под свисающими ветками, подал знак, чтобы ученый сделал то же. Василий Кузьмич приготовился отвести ветку — и вздрогнул. Ветка посмотрела на него блестящими глазками и зашипела. Это была змея. Она взбиралась на дерево, видимо, чтобы полакомиться птичьими яйцами. Василий Кузьмич инстинктивно поднял палку. Древесная гадюка проворно поползла по ветке, стараясь быстрее скрыться в листьях. Запоздалый луч блеснул на ее ярко-зеленой с желтыми крапинками коже. Василий Кузьмич опустил палку и поспешил дальше. Руми быстро взглянул на него, но ничего не сказал. Им пришлось двигаться гораздо медленнее и осторожнее. Теперь змеи встречались на каждом шагу. Несколько раз Василий Кузьмич замечал щитомордника, однажды на поляне увидел кобру. Хорошо, что она оказалась достаточно далеко и лишь повернула голову к людям. На ее коже не было характерного рисунка очков. Василий Кузьмич знал о молниеносности нападения этой змеи. Она выбрасывала голову так быстро, что на небольшом расстоянии даже опытный путешественник не успевал защититься. Внезапно с дерева на плечо Руми упала зеленая лента. Василий Кузьмич едва сдержал крик. Как можно спокойнее, подавляя дрожь в голосе, сказал: — Руми, старайтесь не делать резких движений, у вас на плече — змея. Руми чуть-чуть повернул голову, скосил глаза, затем быстро схватил змею за голову. Зеленая лента изогнулась, забилась, силясь вырваться, но было поздно. Руми ножом раскрыл змее пасть и сказал: — Она не ядовитая. Довольно безобидное создание. — Все же не рекомендую… — начал было Василий Кузьмич, но Руми уже поднес змею к ветке, и она исчезла в листьях. — У сжигателей трупов есть поверье, что после смерти в змей превращаются добрые люди, а в голубей — самые злые, чтобы скрыться от наказания за грехи, — как бы между прочим сказал Руми. — Это поверье они сохранили от древних греков, — подтвердил Василий Кузьмич. — У многих древних народов змея олицетворяла не зло, а мудрость. Он сделал несколько шагов и добавил: — Человеку всегда было свойственно переносить свои качества на животных. Руми поманил его и показал на полянку, где резвилось несколько змей. Они переплетались в живой канат, терлись головами друг о друга, будто целовались,_затем отводили головы, подымали их, раскачиваясь… — Танец змей, — прошептал Василий Кузьмич, с интересом наблюдая за пресмыкающимися. — Они любят, как и люди, — тоже шепотом заметил Руми и продекламировал: — «В любви и ненависти змея сравнится с орлом, а орел — с человеком». — И все-таки древние зря приписывали змеям мудрость, — сказал Василий Кузьмич, вызывая Руми на спор. — В сущности змеи (уж не говоря об ужах) — довольно примитивные животные. — Вы правы, — вопреки его ожиданиям согласился Руми. — Но разве чувства людей иногда не бывают примитивными? Разве голод — такой же примитивный, как у змей, не способен заглушить другие, более сложные чувства? — Не у всех, — насупился ученый. — Разница между людьми больше, чем между любыми животными внутри вида. В этом как раз и состоит одно из главных отличий человека от зверя. — И в этом тоже, — как бы про себя проговорил Руми, ускоряя шаг. Василий Кузьмич шел за ним и думал уже не о змеях, а о Руми. Этот человек интересовал его — и чем дальше, тем больше. Иногда казалось, что знание леса и гор он унаследовал, как инстинкты, от своих предков, но Василий Кузьмич понимал, что это только кажется. Правда, чувства Руми сохранились более обостренными, чем у жителей городов: запахи и следы говорили ему больше, чем горожанам, но в основе его знания был опыт. «Какую же роль в данном случае играет инстинкт, не преуменьшаю ли я его значение?»— думал ученый. Они прошли ущелье. Василий Кузьмич достал карту. Теперь тропа круто уходила вверх. «Будешь идти, карабкаться, оступаться, ползти, — писал Сейкил. — Глаза дикого человека гор будут следить за тобой. Остерегайся разгневать его! Помни: ты вошел в его дом, и хозяин — он. Каким бы удивительным ни показалось тебе его поведение, не обнаруживай удивления: он — у себя дома. Смиренно прими его обычаи, и он не причинит тебе зла». Василий Кузьмич дал Руми прочесть эту часть записок. Спросил: — Вам приходилось видеть галуб-явана? — Нет, — ответил Руми. — Но я не видел и света далеких звезд. Мне говорят о них астрономы. — Вы слышали о споре вокруг снежного человека, — с уверенностью сказал ученый. — Если не можешь увидеть и не хочешь верить, не говори поспешно ни «да», ни «нет». Сейкила вы тоже не видели. Но если идете за его лекарством по его пути, то выполняйте его советы. — Уговорили. Не будем дразнить галуб-явана. — Не будем, — совершенно серьезно сказал Руми. И от этой его серьезности Василию Кузьмичу стало не по себе. Показалось даже, что чувствует на себе чей-то тяжелый взгляд из лесной чащи. И потом никак не мог отделаться от этого ощущения. Не помогали ни холодная рассудительность, ни обидные слова, обращенные к себе. «Как мало нам нужно для тревоги, — подумал он. — Может быть, потому, что весь процесс жизни — хождение по тонкому канату над пропастью? Чем больше знаешь, тем больше тревожишься. Но погоди. Ведь должно быть наоборот. Бояться должен тот, кто знает меньше о мире! Суеверный. А я свободен от суеверий. Во всяком случае, мне так много говорили об этом, что я почти поверил. Чего же я теперь боюсь? Если даже снежный человек существует, то он не обладает никакими сверхъестественными силами. У него нет даже ружья, а ведь человека с ружьем следовало бы бояться больше…» Василий Кузьмич присмотрелся к Руми, и по его настороженной походке, по напряженной шее с обозначавшимися мышцами понял, что он боится тоже, но умеет держать себя в руках. Ученый услышал шорох за спиной, в чаще. Подумал: «Чудится». Шорохи сопровождали его неотступно. Руми, очевидно, тоже слышал их, но не оборачивался. Василий Кузьмич стал за дерево — шорох затих, пошел — шорох повторился. Что-то белое мелькнуло в зарослях, сверкнули огоньками глаза. — Руми, кто-то идет за нами. — Это галуб-яван. Не оборачивайтесь. Василий Кузьмич снял ружье: — Кто бы там ни был, лучше всего отпугнуть. Руйи поспешно напомнил: — Вы сами говорили: не будем дразнить!.. Его охрипший от волнения голос подействовал на Василия Кузьмича. Но ружье ученый не повесил за спину, — понес в руке. Они вышли к горному озеру, расположились на привал. Руми развел костер, вскипятил воду, бросил в нее кубики концентрата. В чистый запах леса и гор влился дразнящий аромат. Шорох в чаще усилился: как видно, преследователь стал нетерпеливее. — Вот что, Руми, — сказал Василий Кузьмич, зачерпывая ложкой суп, — надоели загадки. Я выйду на свой след и посмотрю, кто идет за нами. — Это делают, когда охотятся на тигра. Но мы ни на кого не охотимся, — возразил Руми. Он съел совсем немного супа — болел желудок, язва все настойчивее напоминала о себе. Иногда он кусал губы, чтобы не застонать. — Да, да, мы сейчас не охотники, но я не согласен быть и дичью, — решительно сказал Василий Кузьмич. — Как хотите, но я выйду на след. Резкие складки у губ Руми показали, как глубоко он осуждает решение своего начальника. «Вот тебе и необычный человек! — подумал Василий Кузьмич. — А суеверия вполне обычные. Неужели я ошибся в своих предположениях, и он самый заурядный полуграмотный бродяга?» Василий Кузьмич встречал немало и таких людей. Каждый из них казался на первый взгляд колоритной фигурой, но за этим колоритом и загадочностью, за нахватанными, чужими манерами и фразами скрывались бессилие, лень, неприспособленность к жизни. Не глядя на сердитое лицо Руми, ученый вымыл свою чашку, собрал рюкзак и первым тронулся в путь. Василий Кузьмич не мог разобрать, откуда слышится шорох. Он специально шел через заросли и несколько раз сворачивал, чтобы, сделав петлю, выйти на свой след и неожиданно для преследователя столкнуться с ним лицом к лицу. Василий Кузьмич скорее ощутил, чем увидел опасность. Что это за снежная горка выросла метрах в пяти впереди, почему она шевелится? Почему в ней сверкают янтарные злобные глаза? В сотую долю секунды мозг «проявил» принятое изображение — и ученый увидел снежного барса, изготовившегося к прыжку, оскалившегося, с подрагивающим хвостом. Ученый едва ли успел вспомнить, что за секунду барс одолевает прыжком пятнадцать метров и, значит, пять он одолеет за треть секунды. Лишь сигнал опасности мелькнул в подсознании. И когда он молниеносно вскинул ружье, еще молниеноснее возникла мысль: «Поздно!» В тот самый миг сзади раздалось громоподобное рычание. Удар в локоть, выстрел. Ружье отлетело в траву. Барс почему-то не прыгнул, а только нерешительно зарычал и попятился. Затем, напуганный грозным ревом и выстрелом, кинулся в сторону и скрылся за деревьями. Василий Кузьмич рывком обернулся — и увидел искаженное, какое-то звериное лицо Руми, его горящие глаза, напряженное тело, словно тот собирался прыгнуть навстречу барсу. Руми стоило большого труда вернуться в прежнее состояние. Улыбка тронула его губы, — а глаза все еще меняли выражение. Наконец он улыбнулся по-настоящему и проговорил, вспоминая только что пережитое, отвечая на свои мысли: — Значит, не разучился… — Что это было? — спросил Василий Кузьмич, опомнившись. — Этому меня научил дед… Он говорил: «Если сможешь так крикнуть, и тигр, и барс не тронут тебя, уйдут». — Фирменный секрет племени? — пошутил Василий Кузьмич и, сразу став серьезным, добавил: — Вы спасли мне жизнь, спасибо! — Долг платежом красен! Ведь это благодаря вам мы из дичи превратились в охотников, — ответил Руми. — Если бы вы не вышли на след, зверь мог выбрать более удачный момент для прыжка. Барс или очень голоден или ранен. Иначе он не спустился бы с гор и тем более не охотился бы за людьми. Василий Кузьмич посмотрел вверх, на возвышающиеся скалы, где в поисках пищи бродят киики и архары[27], где властвуют барсы и орлы. Он перевел взгляд на Руми и впервыеотметил, как соответствует окружающей природе весь облик этого человека — выверенный прищур глаз и смуглая кожа, гибкая легкая фигура, наклоненная вперед. Вот только недуг слегка исказил его облик; боль все чаще давала о себе знать. «Место, где живет человек, привязывает его к себе и накладывает свой отпечаток. Оно проникает в человека, поселяется в нем навсегда, становится частью его, — думал Василий Кузьмич. — Раньше так было всегда. Но теперь печать местности затмевается печатью профессии. Все больше и глубже. Затрагивая даже интимные стороны характера. Затушевывая и стирая национальные черты. Хорошо это или плохо, когда работа, которую выполняет человек, постепенно становится самым важным для него?..» Его отвлекло от этих мыслей восклицание Руми. Над ними пролетала огромная птица. Она тяжело взмахивала крыльями, неся в лапах добычу. — Какая сила! — с восхищением сказал Руми. — Орел-ягнятник. Молодого архара взял. В воздухе никому не хочет уступать власти. На самолет — и то нападает… — А зайца вот не может взять, — засмеялся Василий Кузьмич.

— Да, волка берет запросто, а зайца — никак, — развел руками Руми. — Длинноухий тактику против орла хитрую придумал — бросается на спину и барабанит ногами по воздуху. Орел устанет низко над землей висеть, поднимется — заяц опять бежит. И так повторяет свой прием, пока не доберется до укрытия. Охотники говорят: «Заяц зенитки включил». Под удар его задних ног и орлу лучше не попадать… Руми умолк, нагнулся, поднял несколько камушков: — Смотрите, выходы медной руды! Надо бы эти места на карте отметить. Он вытащил карту, а Василий Кузьмич раскрыл записки Сейкила: «…И земля становится желтой, и камни начинают сверкать по-особому. Ты проведешь там ночь, и дикий человек с гор проведет ее рядом с тобой, не видимый тебе…» — Руми, взгляни-ка, что пишет Сейкил. Руми задышал над ухом Василия Кузьмича. Ученый не сомневался, что сейчас его спутник скажет о необходимости готовиться к ночлегу. А так как сам Василий Кузьмич изрядно устал, то указания старого Сейкила его вполне устраивали. «…Путь ты продолжишь за час до рассвета, — писал далее Сейкил. — Подымешься на гору. Там увидишь поляну. Разденься и голым ползи по траве, не оглядываясь, но помни о том, кто следит за тобой. И едва первые лучи солнца коснутся травы, загорятся каплями крови ягоды. Ешь их, если тебе разрешит хозяин — дикий человек гор. Ешь, как ест архар, не срывая руками. Ешь, сколько сможешь, до икоты. Потом сорви и возьми с собой на три дня. В это время ничего, кроме ягод, не ешь. И болезнь оставит тебя навсегда…» Руми после недолгих поисков нашел неглубокую пещеру. Они набрали сухих веток, разожгли костер. Ученый сразу же уснул и не слышал, как долго ворочался Руми, корчась от боли, пытаясь найти позу, чтобы хоть немного успокоить зверя, грызущего его внутренности. Василия Кузьмича разбудил протяжный стон. Он приподнялся на локте, осмотрелся. Костер горел маленьким ровным пламенем. Стонал во сне Руми. Крупные капли пота стекали по его лбу. «Бедняга, — подумал Василий Кузьмич. — Сдерживал стоны целый день». Он прикоснулся ко лбу Руми, к горячей влажной коже. «Он сам себе навредил этим путешествием, — подумал ученый. — Такое напряжение нервов и мышц не может не сказаться при язве. Хорошо, что скоро конец пути». Тени еще только начинали сбегать в ущелье. Время от времени слышались рев хищника, крики жертвы. Живые существа выполняли программу природы, охотясь друг на друга. Василий Кузьмич и Руми двинулись в путь. Тропу едва можно было угадать по незначительным приметам: ярче других блестел стертый камень, более низкая трава казалась темнее… Василий Кузьмич испытующе поглядывал на спутника — одолеет ли подъем? Но по гибкой фигуре Руми ничего нельзя было определить — он словно бы и не делал особых усилий, чтобы взбираться на скалы. А его худое лицо в те минуты, когда он поворачивал его к ученому, выражало лишь напряженность и желание поскорее достигнуть цели. Наконец подъем окончился. Его сменило обширное плато. — Здесь, — шепнул Руми и стал раздеваться. Василий Кузьмич только пожал плечами: дескать, делай, как знаешь; но опустился в траву рядом с ним. Тревога спутника передалась ему. Снова слышал потрескивание веток, чувствовал на спине чей-то следящий взгляд. Трава была мокрой от росы, даже сквозь одежду проникал сырой холодок. Немного впереди Василия Кузьмича бесшумно стлался по траве, как ночной хищник, Руми. Его мокрая кожа блестела, будто чешуя. Они передохнули не больше пяти секунд и снова поползли. Первые розовые лучи пробились сквозь листву, пробежали по траве. И когда Руми развел рукой кусты, — сверкнули кровавые капельки. Можно было подумать, что он сильно поранил руку — и на кусты брызнула кровь. Руми сделал несколько быстрых движений и стал срывать ягоды губами и есть их, Василий Кузьмич с минуту наблюдал за своим помощником, затем решительно вышел на поляну. Сорвал несколько ягод и попробовал их. Его губы запрыгали, брови поползли вверх от изумления. Потом он оглушительно захохотал. Ученый видел удивленные, осуждающие глаза Руми, но не мог остановиться: смех переходил чуть ли не в истерику. Он всхлипывал, пытаясь произнести какое-то слово, но звуки сливались, и ничего нельзя было разобрать. Наконец, первый заряд был израсходован, и Василий Кузьмич проговорил, все еще давясь смехом: — Зем-ля-ника!.. Руми, продолжая есть ягоды, с недоумением поглядывал на него. — Да, да, обычная земляника! И за ней — идти на Памир? Василий Кузьмич кое-как справился со вторым приступом смеха и сказал: — Великое открытие, а? В любом справочнике по лекарственным растениям сказано, что земляникой лечат желудочные заболевания, в том числе язвы. Естественно, лечение длится годами и не всегда приносит результат. Позабавился над нами ваш предок! Остроумным человеком, однако, был Сейкил! Руми невозмутимо продолжал поедать ягоды. — Да полноте-вам, Руми! Пора и в обратный путь. Будем вспоминать эту экспедицию как забавный анекдот, рассказанный с помощью древнего юмора. Пошли! Но прошло еще более часа, прежде чем Руми наелся ягод и нарвал их в корзину на три дня пути, как советовал старый Сейкил. Василий Кузьмич продолжал посмеиваться над парнем, но, чем больше времени проходило, тем серьезнее становился ученый. Руми менялся на глазах. Пот больше не бежал по его лбу, судороги страданий не искажали лицо. «Самовнушение», — думал Василий Кузьмич, но для самовнушения такой результат был слишком эффективным. Изменилась даже окраска лица Руми: исчезла синева и характерная желтизна. А когда они добрались до города, рентген и исследования показали, что язва начала зарубцовываться. Василий Кузьмич вертел в руках фотопленку, глядя то на нее, то на Руми. «Что же произошло? — напряженно соображал он. — Была острая язва. Исцеление за три дня, о которых говорилось в древнем рецепте? Обычная земляника и самовнушение?.. Погоди, старина, не спеши! Вспомни еще раз рецепт…» Слабый свет догадки заколебался в его мозгу: «Земляника, растущая на горе. Там, где имеются выходы медной руды. Может быть, у той земляники есть особые свойства, связанные с местом, где она растет? И еще — особые условия, в которые нас поместил старик Сейкил: трудный путь, опасности, нервное напряжение на пределе… Возможно, именно это учитывал древний мудрец. Весь комплекс. То, о чем иногда забываем мы. И потом удивляемся, почему выращенный на плантациях женьшень не приносит того эффекта, который ему приписывали умудренные опытом лекари. И обвиняем древних в излишней фантазии…» Василий Кузьмич вынул записи Сейкила, перечитал их. Он так увлекся, что забыл о присутствии Руми, и опомнился лишь, когда услышал его голос: — Если идешь по тропе мудреца, выполняй его советы. Василию Кузьмичу вдруг захотелось возразить то ли Руми, то ли себе. Он уступил «бесу противоречия»: — Не все советы надо выполнять. К чему, например, Сейкил требовал раздеваться на поляне и ползти? — Там была роса. Она тоже лечит, — уверенно сказал Руми. «Он умеет думать, этот человек. Я не ошибался в нем. И кто знает, кем бы он стал, если бы избрал другой путь в жизни и учился? Но речь сейчас не о нем. И не о Сейкиле, который не мог ставить научных опытов, доступных нам, но умел чувствовать глубокое единство человека и породившей его природы. Речь о нас — обо мне, о моих коллегах и товарищах. Неужели все дело в том, что мы научились ставить опыты, но зато разучились наблюдать? Вернее, у нас уже не хватает времени на наблюдения, на пристальное созерцание природы. А ведь она ставит в миллионы раз больше опытов, чем мы! Каждое ее движение и дыхание — опыт. А мы так заняты экспериментами в своих лабораториях, что у нас едва остается время, чтобы осмыслить их результаты. И те большей частью незримые связи, которые делают всех нас гигантским единым организмом, невероятно сложным, живущим и дышащим в одном ритме со всей Вселенной. Добиваясь объективности, мы делаем свое познание слишком субъективным, оставляя ему один-два пути и отсекая все иные. Где же выход? Терять и приобретать, приобретать И терять — и всегда терзаться сомнением: не теряем ли мы больше, чем приобретаем?..» Он поднял взгляд на Руми, будто надеясь услышать от него ответ на свой немой вопрос. А Руми с любопытством ожидал, что скажет ученый человек о его чудесном исцелении. Впрочем, таком ли уж чудесном?..
Об авторе Росоховатский Игорь Маркович. Родился в 1929 году в гор. Шпола Черкасской области. Окончил Киевский пединститут им. М. Горького. Литератор и журналист, член Союза журналистов СССР. Работает литсотрудником редакции газеты украинских пионеров «Юный ленинец». Автор свыше ста научно-популярных статей и ряда книг: сборника стихотворений «Мост», сборника рассказов о милиции «Два куска сахару», а также сборников фантастического жанра «Загадка акулы», «Виток истории», «Встреча во времени», «Дело командора». В нашем альманахе публикуется второй раз. Впервые выступал в выпуске 1965 года. В настоящее время работает в соавторстве над очерковой научно-фантастической книгой «Кибернетический двойник» для издательства АН УССР «Наукова думка».
Олег Гурский
БЛИЖЕ, ЧЕМ ДУМАЮТ ЛЮДИ

Фантазия Рис. Ю. Нолева-Соболева
Около пяти часов утра меня разбудил далекий гул, доносившийся откуда-то с вышины. Словно басовые звуки гигантских струн прокатились над лесами. Выбежав из дому, я посмотрел вверх. В бездонной синеве висело круглое светящееся облако. Оно ритмично пульсировало, озаряясь изнутри всеми цветами радуги. Через несколько секунд из него выплыл огненный шар. Медленно и бесшумно он опускался на Лысую сопку. Быстро одевшись, я снял сочтены ружье, кликнул Венту и бросился в сторону сопки, размышляя, что бы это могло быть: космический корабль или редкое и таинственное явление природы? У Голубых столбов, где из-под камней бьют горячие источники, лайка насторожилась и зарычала. Вскоре я заметил человеческие фигуры, мелькнувшие среди хмурых елей. Неизвестных было двое. Они направлялись ко мне открыто — значит, не замышляли дурного или были уверены в своей силе. Одеты они были в эластичные костюмы, наподобие комбинезонов, из светлого материала, искрящегося в лучах зари. Мгновение я колебался: не спрятаться ли среди скал? Затем решил, что вижу, наверное, летчиков или космонавтов, испытывающих аппарат новой конструкции, и, забросив ружье за спину, остался на месте. Мне сделалось неловко за свою чрезмерную осторожность, когда я разглядел их приветливые лица. — Эй, далеко ли путь держите? — крикнул я бодро, когда они вышли из лесу. Вента тихо повизгивала, но не лаяла. Они продолжали смотреть на меня пристально и явно доброжелательно. Наконец тот, что повыше ростом, русоволосый, ладно скроенный парень, вежливо ответил: — Здравствуйте. Вы, конечно, видели, как мы садились, — он махнул рукой в сторону сопки. — Не так ли? Говорил он негромко, но голос его был звучен, приятен. Человек этот сразу располагал к себе. — Видел, — сознался я, не находя причины таиться. — И хотите знать, кто мы и откуда? — продолжал незнакомец. — Вообще-то я не любопытен. Если вы не подожгли тайгу и не собираетесь делать ничего худого… — Зачем? — возразил он, пожав плечами. — Пока наши друзья там, — он вновь указал на сопку, — заняты исследованиями, мы могли бы познакомиться, если вы не против. — Рад потолковать. Как вы догадались, что здесь кто-то есть? — Мы заметили в этой стороне жилище. Оно излучало тепло. Вы турист? — Вроде того, — уклончиво ответил я, соображая, какова на их корабле аппаратура, если она способна за несколько километров уловить тепло от печи, истопленной вчера утром. На всякий случай я добавил: — Нас — целая партия в здешних местах… Я не стал распространяться, что приятель, с которым мы странствовали по тайге, отправился накануне в стан геологов, километров за тридцать; я же остался в случайно обнаруженной нами охотничьей избушке, чтобы дать отдых ноге, которую подвернул, переходя через бурный ручей. Беседуя и приглядываясь друг к другу, мы шли неторопливо к моему пристанищу. Вскоре я уже не ощущал никаких опасений, хотя помнил правило: в тайге всегда будь начеку. Эти люди казались настроенными мирно, я не заметил у них ничего, что хоть отдаленно напоминало бы оружие. Кто они, однако? По-русски высокий говорил свободно. Ученые, космонавты? Судя по речи, манере держаться — вполне возможно. Но откуда столь диковинный сферический аппарат? Что за исследования они проводят? — Мы — инопланетяне, — прервав мои размышления, неожиданно произнес смуглый, похожий на индуса незнакомец. Я растерянно на него уставился. Он заметил, что я озадачен его словами, и, чуть улыбнувшись, продолжал: — Вернее, мы — те, кого у вас называют этим словом, понимаемым многими не совсем правильно. Обычно земляне думают, что инопланетянин — это мыслящее существо, прилетевшее с иной планеты. Но не в иной планете суть (хотя и это имеет значение). Инопланетянин — тот, кто перешел в данный мировой материальный план из иного мирового плана, из одной субвселенной в другую. Я не знал, что и сказать. Мистифицируют меня? Для чего? Нет, вряд ли. По их лицам — не похоже. — Значит, вы — из иного плана Вселенной? — вымолвил я наконец. Смуглый кивнул, задумчиво вертя в пальцах сухой прутик. Его товарищ пояснил: — Мы — из субвселенной, соседней с вашей. Вообще-то попытки отделять, например, географию вашей Земли от «географии» космоса очень искусственны. Ваши космонавты и некоторые ученые понимают это сегодня гораздо лучше других людей. На деле Земля и космос — органическое, природное единство, неразрывное Единое Целое, скрепленное бесчисленным множеством зависимостей, поэтому истинная «география» как Земли, так и космоса гораздо сложнее, чем вы обычно представляете. Он пристально взглянул на меня и продолжал: — Строго говоря, каждый человек является для другого и инопланетянином, так как каждый существует в своем особом микропространстве и микровремени. Любой человек— это особый, неповторимый микрокосм. Но кроме неисчислимых микрокосмов-микропланов имеются в природе мировые планы, или уровни, материальности. Они составляют материальную основу ряда субвселенных, которые проникают одна сквозь другую, не «мешая» одна другой. При этом субвселенные более «тонких» планов материальности вообще не ощутимы, или почти не ощутимы, для существ, обитающих в субвселенных более «грубых» планов. Такова естественная «география» материальной Сверхвселенной. Вам это ясно? Ясно ли было мне? Поток новых понятий и представлений ошеломил меня. Кроме того, я никак не мог принять мысль, что рядом со мной идут, возможно, самые настоящие неземные существа. Слишком буднично выглядела наша встреча. Не сон ли это? — Так кто же вы все-таки? Кем вас считать? Они переглянулись. Ответил высокий: — Говоря просто, мы — представители неземных цивилизаций. Или, как у вас иногда выражаются, ваши братья по разуму. А точнее — по духу и эволюции. — Вы это серьезно?.. без игры? — пробормотал я, не в силах поверить им, а никакого подходящего объяснения, зачем они выдают себя за неземлян, в голову не приходило. Конечно, я читал и слышал немало фантастических историй о пришельцах из космоса. Но то была литература, а здесь… — И вы, наверное, не впервые на Земле? — снова спросил я, переводя взгляд с одного на другого. — Да, мы часто бываем на этой планете, — кивнул светловолосый. — Мой друг даже родился на ней, однако большую часть жизни провел за ее пределами. Моя родина — иной мир. Но на Земле я прожил в общей сложности уже много лет. — Хм… Меня зовут Надеждин, Алеша Надеждин. По профессии художник и немного литератор. Приехал сюда из Москвы, — отрекомендовался я. Они помолчали. Потом высокий сказал: — Вы правы, пора нам познакомиться. Мое земное имя — Сергей. На этой планете я предпочитаю жить преимущественно здесь, в России. — Зенд, — назвался второй. И добавил: — За Гималаями у меня другое имя — Джаланлар. Голос его был певучим, взгляд — серьезным и проницательным. «Р» своего индусского имени он произносил как английское или церебральное «г». — Значит, у вас две профессии? — обратился ко мне тот, кто назвал себя Сергеем. — Две основные, — усмехнулся я. — У меня их значительно больше. В наше время понятие профессии перестало быть характерным для некоторых людей. Они кидаются от одной профессии к другой, ища себе дело и по душе, и по плечу. Я — из их числа… — Следовательно, вы — полиспециалист. Это-то и хорошо. — Почему? — Разве не так? — отвечал Сергей. — Полиспециалист избавлен от опасности замкнуться в узком колодце одной профессии. Он лучше других подготовлен к разностороннему восприятию мира. Специализация — однобокое развитие сознания. Разнообразие знаний предопределяет стремление делать многое и в разных сферах. А это ускоряет эволюцию и человека, и общества. Впрочем, в книгах и журналах, издаваемых у вас, об этом писали немало. — Видимо, вам известно господствующее у нас мнение: человек должен быть глубоким специалистом в одной области и более или менее уметь разбираться в остальных, — возразил я. — Не следует быть поверхностным ни в одной сфере знания, которая привлекла вас, — ответил Сергей. — Всюду умейте взять для себя основное, отбросив горы шелухи, формалистических понятий, отживших традиций. — Человеку земной расы это пока нелегко, — вступил в разговор Зенд. — Да, — согласился Сергей. — Им надо больше доверять интуиции, освобождаться от тирании во многом слепого интеллекта… Так, беседуя, мы брели вдоль ручья, и я все больше ощущал какую-то странную связь с незнакомцами. Они властно располагали к себе. Их речь, интонации, их ясные, открытые лица, приветливые глубокие глаза — все говорило о том, что они не обманывали, назвав себя теми, о ком мы привыкли думать и говорить как о пришельцах из космоса. Я шел среди них и никак не мог отделаться от мысли, которая все еще казалась мне безумной: вот рядом со мной — эти существа, о которых люди говорят и спорят так много. Существа из иной вселенной… С виду они почти совсем как мы. И все-таки чувствовалось в них что-то особенное, трудно определимое, что делало их непохожими на земных людей. Лишь однажды брови Сергея слегка сдвинулись и взгляд омрачился — когда я принялся собирать лесные фиалки, в изобилии росшие вокруг. — Зачем это вам? — спросил он наконец. — Хочу подарить моим новым друзьям, — сознался я. Они добродушно усмехнулись, потом Зенд сказал: — Мы ценим ваше чувство, Алеша, и благодарим вас. Но пожалуйста, не рвите их. Они так естественны, когда растут… Мы не любим сорванных цветов. В замешательстве я глядел то на свой букет, то на них. Сергей взял букет, разделил его натрое и вдел каждому по нескольку цветков в нагрудный карман. Так был исчерпан инцидент. И я не ощутил какой-либо досады или обиды — настолько тактично это было сделано. Я видел, что им приятно мое искреннее чувство, а сорванные цветы — лишь мимолетная деталь, на которой не стоит задерживать внимание. Впрочем, с тех пор я не рву цветов, и мне делается грустно, когда я вижу, как их рвут другие. «Мы не любим сорванных цветов», — вспоминается мне в такие минуты певучий голос Зенда. Когда мы вошли в избушку, я усадил их на массивной скамье у окна, а сам принялся колоть тесаком лучину, чтобы вскипятить чай. Они расспрашивали о моих делах, о том, чем я больше всего люблю заниматься, к чему стремлюсь. Я ничего не стал скрывать, так как чувствовал в них гораздо больше, нежели друзей. Я признался им, что в юности мечтал стать великим художником. Но в эпоху космических полетов и атомной энергии дух рационализма стал настолько беспощадным, что условности древних родов искусства становятся для некоторых наших современников все более непонятными, странными, порой даже смешными. Кино, фотография, плакатная графика вытесняют из жизни подвижнический дух истинного художника — творца неповторимо прекрасного. Потом я пытался заняться музыкой, литературой. Но и из этого мало что получилось. Самая давняя и заветная моя мечта — понять закономерности эволюции мира и суть человеческого «я». Хотелось бы разгадать, является ли каждый из нас в этот мир в общем весьма случайно (встретились двое, полюбили друг друга, сошлись — и вот извольте вы пожаловать в этот «лучший из миров», хотите вы того или нет), либо существуют какие-то высшие закономерности, регулирующие этот процесс? Вот почему в последние годы меня привлекает философия.

Гости внимательно выслушали мою исповедь и не согласились со мной в том, что искусство как творчество неповторимо прекрасного исчезнет с развитием человечества, но одобрили мое стремление понять мир и роль человека в нем. — По основному своему назначению каждый человек призван быть тем, кого у вас называют философом, — сказал Зенд. — Это заложено в самом существе человека — вечном искателе, путешественнике, познавателе Вселенной, а также ее творце и преобразователе. Ибо материальная Вселенная творится постоянно, — и в этом суть ее бытия. Я глянул на него в изумлении. Творце и преобразователе Вселенной?! Он ласково поглаживал Венту, которая доверчиво улеглась у его ног. — И много в вашем обществе таких людей? — спросил я его напрямик. Он взглянул на меня большими темными глазами. — Как же иначе? Любой человек — это творец. Но чтобы стать действительными творцами Вселенной, люди должны пройти космически огромный путь духовной эволюции. — Вы говорите об этом так, словно каждый из вас бессмертен, — заметил я, невольно любуясь их статными, крепкими фигурами, казалось, излучавшими невидимый свет бодрости и высокого, осмысленного счастья. — Бессмертие не является чьей-либо привилегией, — снова возразил Зенд. Я недоверчиво усмехнулся. В ту минуту я думал, что эти слова надо понимать иносказательно — как некую дружескую шутку. Однако скоро я понял, что мои гости не шутят. — Вы, конечно, хотели сказать, что наука способна когда-нибудь сделать бессмертным любого человека? — спросил я. — Нет. Я сказал именно то, что хотел, — ответил он. — Но как вас понять? — недоумевал я. — Мы читали книги, написанные земными учеными и фантастами на эту тему, — вступил в беседу Сергей. — Нам понятно ваше недоумение. — Как видно, вы хорошо знаете нашу научную и популярную литературу. — Многие книги, изданные на Земле, поступают и к нам в хранилища знаний. Больше того, в некоторых наших специальных библиотеках можно найти такие манускрипты, рукописи, глиняные таблички, записи на камне, кости и дереве, о существовании которых ваши ученые и не подозревают. Хотя все это — земного происхождения. Воистину — талантливые рукописи не исчезают бесследно!.. — Однако ж сгорела, например, Александрийская библиотека, — напомнил я, подумав, что хоть в этом пункте одержу верх. — А сколько бесценных книг пропало при наводнениях, землетрясениях, от пожаров, во время войн! — Оригиналы или копии лучших свитков из Александрийской библиотеки и еще гораздо более древних хранятся в надежных местах. А главное — гениальные идеи, будучи однажды кем-то рождены, остаются жить для потомков века и тысячелетия, если даже не запечатлены в письменных знаках… Я так недоверчиво посмотрел на Сергея, что он рассмеялся от души. — Ладно, допустим… Вы знаете, что говорят земные писатели о бессмертии, контактах с инопланетянами и тому подобных проблемах века. Что думаете вы обо всем этом? — Истина сияет редко, — отвечал Зенд. — Это происходит оттого, что многие из людей односторонне и однопланово представляют себе бесконечный мир, в котором живут. Поэтому-то так наивны, например, ваши различные прожекты «бессмертия». Одни предлагают периодически омолаживать физический организм человека, другие — «копировать» его с помощью электронных аппаратов, третьи — поместить человека в такие искусственные условия, в которых его тело «могло бы не стареть»… — Все-таки их дискуссии о проблеме бессмертия полезны, — заметил Сергей. — Они вскоре подведут многих людей Земли к необходимости глубже осознать сущность человеческого «я» как вечно действующей и творящей силы Вселенной. Чай поспел. Я заварил его брусничным листом, наполнил кружки. Достал и разложил на столе печенье и сухари, насыпал в берестяной кулек сахару. — Не обессудьте. Чем богаты… Гости в легком замешательстве взглянули друг на друга. Потом Сергей взял кружку и, посасывая сахар, стал пить чай. Зенд последовал его примеру. Вытряхивая из котелка вчерашнюю кашу для Венты, я незаметно посматривал на них — и вновь сомнение зашевелилось в душе: «Неужели они — самые настоящие пришельцы из неведомых глубин космоса? Или мой ум помутился, или меня искусно разыгрывают? Но огненный шар-корабль?.. Их лица, их речи…» — Напрасно вы мучаете свое сердце, — вдруг тихо сказал Зенд, с сочувствием глядя на меня. — Мы в самом деле те, за кого себя выдаем. Я даже вздрогнул от этих слов, так как понял: они без труда читают мои мысли. — От вас ничего не скроешь, — пробормотал я, пытаясь вспомнить, не было ли в моих мыслях за минувший час чего-либо обидного для гостей. — Как вы это делаете? Зенд охотно отозвался: — Создана целая наука о средствах и методах общения — без нее нам теперь трудно представить эволюцию каждого «я». У нас законы общения изучают с самых ранних лет. — Счастливы дети, которые рождаются там, в ваших цивилизациях! — не без зависти сказал я. — Космическая эволюция — такой процесс, что раньше или позже каждая из существующих цивилизаций пройдет через те или иные стадии развития. Эволюция регулируется наиболее общими, фундаментальными закономерностями Сверхвселенной. Вновь это прозвучало для меня загадкой, Должно быть, мы говорили на разных языках, хотя все их слова звучали вполне логично. Я вспоминал о так называемых интеллектуальных барьерах, о которых прочитал когда-то в журналах. Люди различного уровня развития слишком по-разному видят мир. Поэтому, даже объясняясь с помощью одной и той же лексики, они все-таки могут не понимать друг друга. Только название «интеллектуальный барьер», на мой взгляд, неточно. Непонимание объясняется тем, что существа, находящиеся на разных ступенях эволюции, отличаются друг от друга не одним лишь интеллектом, но и бесконечной совокупностью, сложнейшим спектром всех других духовных и психических качеств. И, разумеется, не поймет своего собеседника в основном тот, кто по сравнению с ним — пока что примитивный дикарь. Теперь в роли этого дикаря выступал я. Гости сразу заметили, что я приуныл. Сергей, желая, наверное, отвлечь меня от грустных мыслей, стал рассказывать забавную историю. Однажды в большом городе (дело было у нас на Земле) он приехал к философу, известному своими трудами о формах контактов разума во Вселенной. С этим человеком Сергей был знаком несколько лет. В тот вечер разговор невзначай зашел об инопланетянах и связях с ними. Философ заявил, что если телепатические контакты он еще допускает (как вполне вероятную форму общения), то личные контакты землян с пришельцами из космоса в нашу эпоху считает дикой, беспочвенной фантазией. «Но если бы к вам в самом деле заявился инопланетянин и доказал, что он — из иного мира? Неужели вы продолжали бы упорствовать?» — не сдержался Сергей. «Пусть он только пожалует ко мне! — захохотал философ. — Я тотчас определю, какого рода помешательством он страдает…» Сергею пришлось признать свое поражение. — Если бы вы встретились мне в городе и я не видел бы вашего корабля, я тоже не поверил бы, что вы — представители иных миров, — сознался я. — Да и любой здравомыслящий человек поступит так же. — Вот почему мы редко говорим земным людям в городах, кто мы, — сказал Сергей. — Здесь — другое дело. В естественных условиях многое приобретает иное, более реальное освещение, чем в центрах ваших цивилизаций. Солнце, прорвавшись сквозь буйные заросли, метнуло сверкающий луч в узкое оконце хижины. Зенд предложил выйти погулять. Они стали благодарить меня за гостеприимство и угощение. Окрестности давно пробудились. Дятел, пестрый, как клоун, сосредоточенно долбил полусухое дерево над нашими головами. В прозрачном потоке играла, прыгая через валуны, крупная непуганая рыба. Хозяин тайги — медведь, присев у воды, миролюбиво взирал на нас издали, с другого берега. — Еще есть время, чтобы продолжить разговор, — сказал Сергей, глянув в сторону сопки, — там пока не закончили работу. Я не заметил у них даже часов. «Откуда же он знает, закончили их товарищи работу или нет?» — невольно подумал я. Сергей тотчас обернулся ко мне, будто собираясь что-то произнести, но промолчал. Однако неожиданно я понял, что он хотел сказать. «Мы можем переговариваться мысленно» — вот что прочитал я в его взгляде. — Вы проводите нас? — спросил Зенд. — О, если позволите! Проводить их? Да я готов был, не раздумывая, лететь с ними куда угодно! И вновь разговор зашел о бессмертии. Зенд стал терпеливо объяснять мне, в чем они видят сущность бессмертия и почему эта проблема неразрывно связана с характером бытия многоплановой Вселенной. Я понимал далеко не все, но слушал жадно и, боюсь, замучил моих гостей вопросами. По их представлениям, мир, воспринимаемый нашими физическими органами чувств, — есть мир форм, или, как они говорят, мир формной субстанции. Формности — это совокупности форм. Они непрерывно изменяются, превращаясь все в новые и новые комбинации форм, возвращаясь иногда к прежним комбинациям и вновь изменяясь. Это неостановимый процесс, пока существует сам мир. Именно поэтому никакие комбинации форм, никакие структуры не вечны. Никакие! В том числе — самые устойчивые из микрочастиц, не разрушающиеся, как полагают, даже при мощнейших звездных и галактических катаклизмах. Наше представление о любой формности всегда относительно, а сами они — конечны, размерны и непрестанно изменчивы. Только одни формности меняются быстрее, другие — гораздо медленнее. Понятно, что на их основе нельзя создать никакую вечную структуру, поэтому невозможно на основе формной субстанции достичь и бессмертия человеческого «я», как бесконечно сложного комплекса индивидуализированной воли и сознания. Но формная субстанция — это лишь одно из основных всемирных состояний Единой мировой субстанции, из которой «слагается» Сверхвселенная. — Если те или иные формности (в том числе самые «элементарные» из микрочастиц) разрушаются полностью, абсолютно (а такой процесс тоже возможен в природе), сама субстанция, составляющая их, никуда, разумеется, не исчезает, — объяснял мне Зенд. — Просто одно мировое качество субстанции сменяется другим: формное становится неформным, конечное — бесконечным. Словом, я понял их объяснения так, что бессмертие достижимо лишь на основе неформной субстанции. Таково их убеждение. Из рассказа Зенда я узнал также, что его цивилизация хранит особые, священные предания неимоверной древности. Некоторые из них гласят, что возможен полный переход того или иного существа в состояние неформности — «самое гармоничное из всех мировых состояний». Это — один из величайших и таинственнейших актов в Сверхвселенной — полный переход в Пламенную Бесконечность Неформного. Переход в Пламенную Бесконечность Неформного?.. Не связано ли это с идеями о дерзком проникновении могучих духом существ в загадочные огненные глубины Солнца, звезд? Не о попытке ли такого проникновения повествует древнегреческий миф об Икаре? — Древнейшим расам Земли было известно немало сокровенных тайн о солнце, — сказал мне Сергей. — Солнце недаром считалось некогда главным божеством. И не только потому, что оно — источник и причина всякой жизни на Земле. Мудрейшие из мудрых знали: оно — вечный маяк эволюции земной цивилизации. В недрах солнца, звезд, галактических ядер и других космических «тоннелей», соединяющих все мировые планы формной субстанции с Пламенной Бесконечностью Неформного, творятся и исчезают первичные формы — «кирпичики» материальной Вселенной. В каждой субвселенной одно и то же солнце (как и звезды) выглядит по-разному, в зависимости от того, какой спектр воспринимается. Оно — видимый светоч и двигатель жизни для всех космических планов материальности, составляющих его систему…
Незаметно мы достигли Синих камней. Сергей просил меня не ходить дальше, чтобы не подвергаться действию излучений при подъеме аппарата и переходе его в иное пространство. Мы простились. Мне было грустно, будто я терял самых близких, самых дорогих мне друзей, которых знал много лет. Вента взволнованно лаяла: тоже не хотела, чтобы они покидали нас… — Неужели больше никогда не увидимся? — спросил я. — У видимся непременно, — ответил Зенд, обнимая меня. — И когда кто-нибудь из наших братьев явится однажды к вам в городе и скажет: «Я неземлянин», вы ведь не станете теперь думать, что он — сумасшедший, не так ли? Самый надежный для вас способ убедиться в том, кто он, — глаза. Есть и другие признаки; но глаза человека никогда не лгут, надо лишь научиться читать в них…
Они подарили мне шарик из металла, который обладает способностью самопроизвольно конденсировать электрическую и некоторые другие виды энергии из окружающего пространства и отдавать ее при определенных условиях. Волшебный металл для энергетиков! Однако я храню этот шарик у себя. Знаю: даже он не поможет мне доказать, что я встречался и разговаривал с пришельцами из иной субвселенной.

Принять эту мысль как истинную люди смогут тогда, когда поймут, что в личных контактах землян с теми, кто находится выше нас на Эволюционной Спирали, нет ничего сверхъестественного и чудесного, ничего такого, что случалось бы, скажем, только раз в 5500 лет. Они — гораздо ближе к нам, чем обычно думают люди, чем думают астрономы, упорно нацеливающие свои радиотелескопы на отдаленные созвездия и галактики, чтобы уловить радиоголоса «братьев по разуму». Ищите их ближе! Века и тысячелетия неземляне были рядом с нами, следили и следят за нами. «Почему же тогда они не помогают нам в наших бедах и страданиях?» — спрашивают обычно некоторые, услыхав такие суждения. Здесь не место обсуждать столь сложный вопрос. Замечу одно: помощь может оказываться совсем не теми способами, какие мы предполагаем, и вовсе не та, какой мы ждем. Знаем ли мы сами наверняка, какая помощь извне будет для людей Земли наилучшей? В мысли, что они могут быть рядом с нами и среди нас, нет ничего неестественного, если допустить существование непрерывности иерархической цепи разума во Вселенной (о чем я тоже узнал от Зенда). Так осуществляется одна из форм контакта. Расстояние и время для такой связи — не препятствие. Об этом гениально догадывался, например, К. Э. Циолковский…[28] Разные мировые материальные планы, разные мировые духовные сферы и разные стадии космической эволюции — все эти понятия взаимосвязаны. Наш уровень эволюции обусловливает то, в какой субвселенной мы обитаем, на какой планете живем.
Мне осталось немногое добавить. Я видел, как они улетели. Снова над тайгой раскатился вибрирующий гул гигантских басовых струн. Он родился в тот момент, когда сверкающий синим пламенем аппарат, зависнув на несколько мгновений высоко в воздухе, начал словно бы таять, расплываться и быстро исчез. Тут-то я вспомнил, что так и не спросил Сергея и Зенда, как называются их родные миры и цивилизации. Впрочем, имеет ли это значение? Они обитают в гораздо более сложной и «тонкой», чем наша, вселенной, куда мы пока не имеем доступа. Но, может быть, когда-нибудь таинственный путь в иные субвселенные и даже — в Огненный Мир Бесконечности откроется и для людей нашей планеты… На другой день я ходил на сопку и обнаружил там широкую вмятину в почве. Лишь многотонное тело могло выдавить такую яму. А вблизи от нее сопку рассек чудовищный карьер — длинный, узкий и глубокий, словно колоссальный нож выхватил громадный кусок земли. Но сколько я ни искал, вынутого грунта нигде не обнаружил. К вечеру пришел мой приятель. Я рассказал ему все, и, разумеется, он не поверил, что я встречался и говорил с ними. Вента, увы, не могла подтвердить правоту моих слов. Я повел моего товарища на сопку и показал ямы. Конечно, и это его не убедило; однако странный карьер произвел на него внушительное впечатление. «Ты мог видеть корабль издали, — сказал он, — остальное — галлюцинация, которая почему-то возникла у тебя. Может быть, даже — под воздействием неизвестной комбинации излучений. Счастье еще, что ты остался жив! Ведь бывали в тайге случаи и похуже…» Он смотрел на меня с тревогой и сожалением, когда я стал говорить ему, что инопланетяне и в наше время живут среди земных людей, ходят среди нас в наших городах. — Нам лучше бы отправиться к геологам, — уклончиво отвечал приятель, скрывая волнение. — Там обо всем и потолкуем… Я показал на муравейник. — Взгляни, разве муравьи догадываются, что мы сейчас видим их беготню? Это ведь и есть в сущности то самое — следить за «низшими» из иного пространства. А ты когда-нибудь наблюдал за рыбами, живущими в аквариуме? Аквариум — это их крохотная субвселенная, за пределами которой они… Не выдержав, он честно признался: — Боюсь я за тебя, Лешка! Ты стал какой-то не такой… Тогда я извлек из внутреннего кармана теплый шарик и протянул этому маловеру. Он долго вертел его в руках, понюхал, даже лизнул зачем-то и, не зная, что сказать, предложил наконец «слетать к геологам и сделать анализ». — Поди ты к лешему со своими геологами! — взорвался я. — Никакие анализы тебе не помогут. Дело — в тебе самом… Горячился я зря. Будь я на месте моего друга, еще не знаю, как бы я себя вел. Лишь постепенно он, заметив перемену в моем характере и строе мышления и поняв, что я тем не менее не собираюсь сшибать деревья лбом или провозгласить себя Фердинандом Вторым гишпанским, смутно начал осознавать, что в тот день у меня действительно была встреча с чем-то необычным. А я с тех пор живу ожиданием новой встречи. Мне о стольких вещах надо еще спросить у них! Порою, однако, меня сдавливает острая тоска, наваливается отчаяние. Правда, такие минуты — кратки, и они, наверное, от все усиливающегося желания снова видеть их и говорить сними. В такие минуты я спрашиваю себя: «Неужели все это — было? Может, в самом деле — сон, галлюцинация?..» Было ли? Как только это сомнение начинает закрадываться в мой ум, я достаю из потайного кармана металлический шарик и смотрю на него. (На анализ я все-таки его носил — и едва спас, насилу вырвал из хищных лап физиков и химиков. Если бы вы видели, как они уцепились за этот кусочек металла, когда анализы показали, что перед ними — нечто невероятное и науке совершенно неизвестное!) Он согревает мои ладони — и бодрящее тепло от него струится по всему телу. Было ли это? Я вспоминаю ясную улыбку Сергея, темные, немного печальные глаза Зенда, исчезающий в небесах огненный шар — и тихий внутренний голос отвечает мне: «Больше верь себе!» Да и почему — не верить? Что абсурдного или сверхъестественного в идее о многоплановом мироздании? Почему не допустить, что инопланетяне — существа из иных планов Сверхвселенной — приходят к нам время от времени? В самом деле: почему бы нет?
Об авторе Гурский Олег Николаевич. Родился в 1928 году в гор. Армавире. Окончил факультет журналистики МГУ, член Союза журналистов СССР. Публиковаться начал с 1941 года. Рассказы-фантазии и статьи О. Гурского неоднократно публиковались в альманахе «На суше и на море». В настоящее время автор продолжает писать в жанре фантазий и философских фантазий, работая над серией повестей, рассказов и статей. Занимается поисками и в теории современной фантастической литературы; в частности увлечен идеями о так называемой «преднаучной фантастике», «фантастике исторического оптимизма», «фантастике серьезного мышления»; вопросами соотношения и взаимодействия науки, философии и фантазии в ее литературном и других выражениях.
Михаил Грешнов
ДОРОГОСТОЯЩИЙ ОПЫТ

Фантастический рассказ Рис. Г. Калиновского
1
— Итак, вы согласны, Гарри! — Профессор Баттли говорил несколько торжественно, как на ученом совете, хотя в комнате было всего три человека. — Вы предоставляете себя в наше распоряжение и получаете после завершения опыта пятьдесят тысяч долларов. Вы согласны на эксперимент добровольно. Гарри, за весь разговор не поднявший глаз от стиснутых рук, сделал попытку взглянуть на профессора: — Добровольно, — подтвердил он. — Но… вы понимаете? — Понимаю, сэр. Это опасно. — Поэтому мы и оплачиваем риск кругленькой суммой. — Да, — кивнул Гарри. — И требуем выполнения нашей программы полностью. — Я выполню ее, сэр. Третий участник беседы, Глен Эмин,молчал. По его бледному лицу трудно было судить, одобряет он разговор или нет. Только пальцы, барабанившие по канцелярской папке с бумагами, выдавали его волнение. Это он привел Гарри Польмана, бывшего друга по колледжу, в кабинет профессора Баттли, где начался разговор на не совсем обычную тему. Предложение Гарри от имени профессора тоже было сделано Гленом. Гарри дал согласие сразу, как только услышал о сумме в пятьдесят тысяч долларов. Сейчас разговор шел о контракте. — Я бы хотел… получить аванс, — сказал Гарри. — И скорее покончить с этим. — Аванс получите завтра. Как только договор будет подписан. — Мистер Баттли… Мне нужно сейчас, — почти с отчаянием сказал Гарри. — Хоть немного наличными. Глен уловил нотку страха в голосе Гарри. И видел причину этого: Гарри боялся, что не получит ни цента. Лицо профессора выразило брезгливость: просьба Гарри была не джентльменской просьбой. Но ведь Гарри и не джентльмен! Когда профессор вынимал из кармана две пятидолларовые бумажки, Глен заметил, как нетерпеливо шевельнулись пальцы Гарри. — До завтра… — сказал Баттли, давая понять, что разговор окончен. Выходя с Гленом на террасу главного здания, после того как Гарри ушел, Баттли все с той же брезгливостью, будто перешагнул через ушат с помоями, проговорил: — Пойти на риск из-за пачки долларов. Бр-р!.. Однако, — повернул он к Глену крупное породистое лицо, — опыт дорогостоящий, Глен, заметьте! Баттли презирал деньги, и в этом Глен не понимал его. Может, потому, что деньги доставались шефу легко? Впрочем, не так-то легко, — институт не бросал ассигнований на ветер. Баттли просто удачлив: ему первому удалась пересадка человеческого мозга, он первый синтезировал плазму крови. Тут Глен Эмин знал профессора лучше — это был смелый и неутомимый экспериментатор. Если он был на верном пути, он напоминал гончую, рвущуюся по следу. Для Баттли тогда не существовало ничего, кроме цели. Но он презирал деньги и людей, которые тянулись к деньгам, — словно не знал, что они иногда бывают нужны, как воздух. — Кто финансирует опыт? — спросил Глен. — Безразлично кто, — ответил профессор. — Мне нужен опыт, нужны результаты, Глен! В этом и был весь Баттли, тщеславный, а иногда и жестокий, Напал на след и теперь будет рваться вперед, не оглядываясь по сторонам.Опыт ставился тайно. Ни одна из научных ассоциаций не дала бы на него разрешения. А идея была заманчивой: перекинуть мост между животными и человеком. Естественно, для этого был выбран дельфин. Не потому, что дельфин самое смышленное из животных, самое доброжелательное к людям и вообще самое, самое… — об этом теперь пишут в газетах. А потому, что с изобретением биометилтонала — сокращенно БМТ — кровь теплокровных животных можно было по составу приблизить к человеческой крови. И здесь это «самое» ближе всего подходило к дельфину. Изобрел БМТ Глен Эмин. А Баттли переманил его к себе в лабораторию. Опять-таки — за высокий оклад. Вот почему сейчас, когда они шли по террасе, Глен ненавидел шефа и сочувствовал Гарри Польману. Купив Глена за деньги, Баттли презирал его не меньше Гарри. Только не показывал этого открыто — Глен нужен ему для успеха. Из всего, что могло пощекотать самолюбие, Баттли предпочитал успех. Так было с изобретением БМТ: в устах всего ученого мира ходили легенды о лабораториях Баттли и, естественно, упоминалось только его имя. Но аппетит приходит во время еды. Баттли хотел большего, был задуман эксперимент «Меркури». У одного из русских фантастов описан таинственный сад доктора Сальватора, где в окружении каменных стен проводились невообразимые опыты над животными: пересадка голов и других частей организма от одной особи другой. Нечто подобное было с комплексом лабораторий Калифорнийского исследовательского института. С запада лаборатории граничили с океаном, на востоке примыкали к скалистым обрывам Берегового хребта. Многомильная полоса побережья была рассечена проволокой на квадраты, там и тут защищенные от случайного взгляда металлическими щитами. В Калифорнии изгороди — дело обычное: огораживаются атомные заводы, виллы миллиардеров. Это не вызывает протестов и любопытства. Но здесь было кое-что, прикрытое большой тайной. И прежде всего — эксперимент «Меркури», в котором ставка была покрупнее, чем в других опытах: человеческая жизнь. Риск и опасность эксперимента были отлично известны профессору. — Что вы на это скажете, Глен? — спросил он, остановившись в конце террасы. С океана тянуло ветром. Начиналась весна, ранняя в этом году и потому неожиданная. Туман рассеялся, небо и море были яркими, помолодевшими, настраивали на мирный тон. Но в душе Глена не было мира, разговаривать не хотелось. Баттли ждал ответа. — Мне жаль этого парня, — сказал откровенно Глен, зная, что его реплика идет вразрез с мыслями шефа. Но он может позволить себе эту вольность — в эксперименте «Меркури» Глен Эмин незаменим. — Намекаете на риск, которому подвергается Польман? — Отчасти… — Часть — это еще не целое. Что вы думаете в целом, Глен? В целом Глен считал, что вместе с профессором идет на преступление, одинаково наказуемое кодексами любой страны: эксперимент наверняка кончится гибелью Гарри. Баттли знал это прекрасно. Понимал, что делает Глена соучастником преступления и что Глен идет на это соучастие. Но об этом Глен, конечно, не скажет. Не только потому, что вопрос поставлен шефом прямо и резко, — это бывает нередко. А потому, что, откажись Глен от эксперимента, это будет концом его карьеры и благополучия. Кроме того, у Глена есть Джесси, его жена, и Айк, четырехлетний сын. Вот оно, целое, которого домогается Баттли. Поэтому Глен ответил уклончиво: — Думаю, что подготовку к эксперименту можно будет начать завтра.
Договор был подписан на следующий день в десять часов утра. А еще через два часа — в двенадцать по местному времени — дельфину Иглу был введен препарат БМТ. Одновременно в вены Гарри тоже влили первые кубики биометилтонала. Цель эксперимента заключалась в подсадке дельфину коры головного мозга человека. Тончайшая операция, сравнимая разве с работой гранильщика драгоценных камней… Проще было бы пересадить мозг целиком, но это не даст нужного результата: мозг останется полностью человеческим. Задача сводилась к тому, чтобы оставить дельфина самим собой, подключив ему человеческое сознание. Операцию пересадки готовился сделать Баттли. Глен должен был при помощи БМТ уравнять химический состав крови подопытных, а потом переключить мозг человека на новое кровообращение — от дельфина. Процедура предварительной подготовки длилась шесть дней. На седьмой день Баттли произвел операцию пересадки. — Как вы себя чувствуете, Гарри? — был первый вопрос к подопытному. Ответа Баттли не ждал. Мозг дельфина и Гарри был под наркозом, но человек должен пробудиться раньше животного, и теперь Баттли передавал информацию — как можно больше информации, чтобы человек осваивался с новым своим состоянием постепенно. Кроме того, нужно было видеть, успешно ли прошла хирургическая операция. Баттли ловил малейшее движение человека-дельфина. — Как вы себя чувствуете? — повторял он. Вопросы передавались по радио. Миниатюрный приемник был вживлен в кору привитого Иглу мозга. Передатчик для ответного разговора с людьми вмонтирован еще проще: на два зуба верхней и нижней челюстей были надеты металлические коронки, которые, контактируя, замыкали цепь микропередатчика, вставленного тоже между зубами. Гарри услышал вопрос. Как он себя чувствует? Пока что он только слышит голос профессора. — Будьте мужественны, — продолжал Баттли. — Главное начнется, когда мы снимем наркоз… Тут впервые Гарри захотелось спросить, что с ним и с его телом. — Вы живы, Гарри, запомните, вы живы и будете жить, — говорил Баттли. — Как только кончится опыт, мы сделаем обратную операцию, вернем кору вашего мозга на место. Но что ему теперь делать, спрашивал себя Гарри. — Станьте дельфином. Полностью станьте дельфином, — не умолкая, говорил Баттли. Гарри прислушивался к себе, но, кроме голоса Баттли, ничего не ощущал и не слышал. — Глен, — обратился Баттли к помощнику. — Начнем общее пробуждение. Постепенно — самыми маленькими шагами..

Первое, что ощутил Гарри, была бесконечность. Казалось, что он один на маленьком острове, на пятачке среди огромного мрака. Было с ним только его «я» — ничтожная искра, не способная осветить и раздвинуть мрак. Это его испугало: хотелось крикнуть, но не было голоса, шевельнуться — не было рук и ног. — Гарри, Гарри… — слышал он где-то вблизи слова профессора. Но у него самого не было голоса, чтобы ответить. — Гарри, вы пробуждаетесь в новом мире, вы стали дельфином, Гарри. Мы предвидели, что вам будет трудно. Вы теперь дельфин, Гарри, вы теперь Иглу… Нам нужно знать, как вы себя чувствуете. Вы нас слышите? Говорят доктор Баттли и Глен. Гарри боролся со страхом и с бесконечной тьмой. — Гарри, была операция… И вдруг мрак исчез. Гарри увидел лабораторию, склонившихся над ним Баттли и Глена. Он сначала не понял, куда исчез мрак, а потом сама собою пришла догадка: у него открылись глаза. Но глаза открыл не он, Гарри Польман, — их открыл дельфин Иглу. Это его удивило: неужели он будет зависеть теперь от животного?.. — Что вы можете сделать, Гарри? — спрашивал Баттли. Что он может сделать? А может ли он закрыть глаза? Гарри приказал себе: закрой глаза. Это ему удалось — веки закрылись. Видимо, Баттли понял, что это первое его осмысленное движение. — Еще раз откройте и закройте глаза, — сказал он. Гарри открыл и закрыл. — Хорошо, — сказал Баттли с облегчением, — Переходите на разговор, пользуйтесь передатчиком. Гарри шевельнул челюстью — Иглу всплеснул плавниками. Тело его качнулось в воде. Гарри показалось, что он валится на бок. Он мысленно вскинул руки, как человек, поскользнувшийся на дорожке, — плавники судорожно взмыли в воде, тело чуть не выпрыгнуло из ванны. Плеснула вода. — Осторожнее, Гарри… — Баттли стряхивал с халата брызги. — Я ничего не сделал, — передал азбукой Морзе Гарри. — Мне очень легко… Баттли ответил: — Вам надо научиться координировать движения. Шевельните хвостовым плавником. К радости Гарри, это ему удалось. И опять он едва не выскочил из ванны. — Так… — сказал Баттли. — Для начала неплохо. Даже если вы будете только плавать, эксперимент мы завершим успешно.
Выходя из лаборатории, Глен думал о последней реплике шефа: не слишком ли узкую цель ставит Баттли, если считает, что умение плавать удовлетворит задачам эксперимента. Впрочем, это его, Глена, уже не касалось. Его дело — биологическая основа, действие препарата БМТ. Цели и задачи определяет дирекция института. Потом он начал думать о Гарри Польмане. И о себе. Вдруг представил себя на его месте, в роли подопытного. Почувствовал холодок на спине — никогда! Он видел Гарри после операции. Это был живой труп. Глен слабо разбирался в нейрохирургии, но об экспериментах, которые ведутся в лаборатории, знал. У животных — кошек, собак — удалялась кора головного мозга. Животные жили: ели, если им давали пищу, двигались, если их водили на цепочке, издавали мяуканье, лай. Но что за походка была у них, что за голос!.. Гарри после удаления мозговой коры открыл глаза. Какие это были глаза!.. Холод опять пробегает по спине Глена. Они были товарищами по Энвери-колледжу. Но Гарри не смог завершить учебу. Что-то случилось с его отцом, — кажется, растратил чужие деньги. За три месяца до окончания курса Гарри исчез из колледжа. Встретились они через семнадцать лет в Сан-Франциско. Глен уже стал ученым с именем. А Гарри? Работал препаратором в какой-то захудалой лаборатории, и по его внешности можно было судить, что дела его шли не блестяще. «Я тебя устрою на хорошее место», — пообещал Глен. Потом уже, после прощания, понял, что ничего не знает о Гарри, кроме его скромной профессии. Но обещание было дано, и Глену пришлось здорово врать Баттли, расхваливая друга детства, чтобы устроить его на работу. Баттли был человеком момента, принимал решения сразу. Видимо, Глен пришел к нему в добрый час, и вопрос о приеме Гарри на место препаратора был решен. Позже Глену стало невыносимо от молчаливой благодарности друга, от его взгляда, похожего на взгляд случайно пригретой собаки, и вместо сближения с бывшим товарищем Глен почувствовал к нему холодок. Так он и не узнал, как прожил Гарри семнадцать минувших лет и как он живет сейчас. Когда встал вопрос об эксперименте с дельфином и стали искать добровольца, Гарри опять попался на глаза Глену. Глен предложил ему от имени шефа пятьдесят тысяч долларов, Гарри поспешил согласиться. Глен не презирал деньги, он знал им цену. Но сейчас Глен не мирился с мыслью, что Гарри пошел на эксперимент ради денег. Во всяком случае, он, Глен Эмин, никогда бы не согласился на такой опыт.
2
Гарри вывели в море после четырехдневных испытаний в вольере. Операция и приживление мозга прошли успешно. Баттли радовался удаче: центры нервной системы функционировали нормально. — Гарри, — шутил он, — теперь вы настоящий Нептун. Подводное царство — ваше. Плывите! Но вольер — не то, что открытое море. Из тихой заводи Гарри попал в бушующий ураган, который оглушил и опрокинул его. Человек на суше видит и слышит, обоняет запахи, осязает тепло и холод. Увеличьте стократно каждое ощущение, и вы приближенно представите себе мир дельфина. «Подвижный в подвижном» — таков был девиз «Наутилуса» в прошлом веке, когда считали, что океан нем, лишен цвета и запахов. «Подвижный в подвижном» правильно и сегодня, а все остальное обернулось своей противоположностью: кваканье, карканье, клохтанье, хрюканье, блеянье обрушились на Гарри со всех сторон. Стонами, вскриками были полны глубины. — Гарри! Гарри! — надрывался приемник в его мозгу. — Где вы?.. — Я ничего не слышу, — растерянно отозвался Гарри. Бесшумный электробот сопровождал его в первый выход. На борту не поняли, почему Гарри не слышит. Судно шло на аккумуляторах, обороты винта были почти бесшумными. С электробота ответили: — Держитесь прежнего курса — право по борту! Океан надвигался на Гарри, как разъяренный зверь: что-то ухало, ахало в нем, верещало, кудахтало, вздыхало и умирало. Позади гремел камнями прибой, впереди басовитым утробным рокотом извещал о своем приближении находившийся где-то за тысячу миль отсюда шторм. — Почему вы молчите, Гарри? — взывали с электробота. — Разве вы можете меня слышать?.. — В чем дело? У нас полная тишина! — Мне постоянно мешает шум. — Опуститесь на глубину! — последовала команда. Гарри пошел в глубину. С каждым метром все вокруг изменялось. Мелькали огненные штрихи, зигзаги — будто проносились пороховые ракеты; глубже ракеты превратились в светильники — голубые, зеленые, — висевшие точно луны. А потом вместо ожидаемой тьмы глубоко внизу появилось багровое с желтым отливом зарево — светился придонный ил… Там и тут колыхались синие или рыжие гривы мерцающих водорослей, негаснущими полянами рдели колонии голотурий; камни светились красным, между ними шуршали, мерцали морские ежи, креветки; молниями проносились мурены, а звезды так и оставались звездами, только опрокинутыми в глубину… Это было удивительное, зачаровывающее зрелище, доступное глазам только обитателей моря. Оно было бы даже красивым, не окажись с первого взгляда жестоким. Это был мир с предельно обнаженной жестокостью, где сильный пожирает слабого открыто и беспощадно. Зубы и широкие пасти господствовали здесь над слабым и беззащитным, и, чтобы слабому не быть сожранным без следа, ему надо было размножаться, как планктону — в миллиардах себе подобных. Гарри был потрясен беспрерывной охотой всех за всеми, хрустом и хлопаньем челюстей, вскриками, визгами, пронизывающими толщу вод… Почувствовав потребность вздохнуть, он вынырнул на поверхность. С бота его спросили, что он видел в глубине. Гарри ответил: — Ужас…Человек хочет знать тайны океана и космоса, стремится заглянуть в мир дельфина, тигра, амебы. Открытия, которые его ждут, будут более потрясающими, чем некогда были открытия материков и полярных стран. Совершенно новая область, которой пока еще нет названия. Может быть, человек назовет ее зоопсихикой?.. Что она принесет с собой? Готов ли человек к путешествию по этой неизвестной стране? Вооружившись психикой неведомых нам существ, их в тысячу раз обостренными чувствами, не станет ли человек их пленником и жертвой?.. Завоевание природы не обходилось без жертв с обеих сторон. Человек вырубал леса, распахивал большие пространства и получал эрозию почвы, пыльные бури. Ставил заводы, и дым разъедал ему легкие и глаза. И все-таки… все-таки! Человек не был бы человеком, если бы не стремился вперед. Даже ценою жертв. Познание — вот что нужно ему и что делает его подлинно Человеком. На пространствах вырубленных лесов выросла цивилизация, давшая миру Коперника и Эйнштейна. Заводы усилили мощь человека, развили технику — пришли Дизель, Гагарин. А потом — мы еще очень молоды на Земле. Мы знаем немногое и хотим знать больше. И будем знать больше! Если не остановимся и если силы, которые мы вызвали в мир, не отбросят нас. Может быть, Гарри Польман оказался неспособным вынести новый мир? Столкновение с неизвестным далось ему слишком трудно. Дважды пришлось спасаться от акул под защиту электробота; сородичи-дельфины почувствовали в нем что-то не свойственное им, отвергали его, угрожая зубами; невидимая морская мелочь рвала ему плавники, заставляя метаться и выпрыгивать из воды. — Мистер Баттли, — просил он, когда его возвращали в спокойный вольер, — я не могу этого вынести. — Терпение, Гарри, — отвечал шеф. — Привыкайте. — Я хотел бы прекратить опыты, — настаивал Гарри. — Это мне не по силам. — Впереди еще главное. — Что именно, мистер Баттли? — На это свой день, Гарри, и свой час. — Но я не могу! — Привыкнете. — Мистер Баттли… — Контракт, Гарри, вы же согласились… — напоминал Баттли. Это смиряло подопытного. — Дайте мне отдохнуть, — просил он. — Не забывайте, что времени у нас месяц. Испытания — впереди. — Что впереди?.. — со страхом спрашивал Гарри. Шеф пожимал плечами. Похоже, что он не знал, какие испытания будут, или ожидал на этот счет указаний от руководителей института. В конце концов успех опыта был успехом не одного только Баттли. Выше его стоял ученый совет. А еще выше — дирекция, связанная с государственным аппаратом. Достижения института становились достижением государства. И чем значительнее было достижение, тем больше возможностей предоставляло оно государству и тем крепче брало государство это достижение в свои руки. Баттли, Глен Эмин, Гарри?.. Для государственной машины все они были безличны и безразличны. Важен результат их работы, и государство пользовалось результатом, как ему было угодно. Поэтому Баттли, доложив об успехе опыта, не был уже хозяином своего дела, он становился винтиком в машине, которая и его, Баттли, могла теперь повернуть в любом направлении. — Не знаю, — признавался он Глену, — что будет дальше. Наверху человека-дельфина встретили аплодисментами. Теперь надо ждать испытаний. Наших нервов — в первую очередь. О характере испытаний Глен узнал совершенно случайно. Он был у шефа с утра. Кабинет, выходивший окнами на террасу, выглядел празднично светлым. Голубой и светло-зеленый пластик панелей и стен сочетался с блеском моря, сверкавшего в гигантском — от потолка до пола — окне. Это делало кабинет похожим на светлый аквариум, стоящий на солнечном подоконнике. Настроение у шефа было тоже светлым, он увлеченно фантазировал: — Биометилтоналу предстоит в будущем немаловажная роль. Дельфины — только начало, Глен. На третьем месте по развитию после дельфинов и обезьян стоят слоны. Нам удалось заглянуть в океан, но впереди — джунгли, Глен, с запахами листвы, земли, африканская саванна… Легкое гудение зуммера и вспыхнувшее табло «Неотложно!» прервали разговор. — Один момент, Глен, это из хирургического, — сказал он, поднимаясь из-за стола. — Посидите, я вернусь через минуту. Подумайте о нашем разговоре, о перспективах… Минута проходила за минутой, а Баттли не возвращался. Два раза позвонил телефон. Глен не осмелился поднять трубку. Раздался третий звонок. «Может, мне звонит шеф?» — подумал Глен и поднял с рычага трубку. — Генерал Биддмен, — заговорили в трубке, видимо, продолжая разговор с кем-то, — предлагает провести испытания в среду. Для участия выделим два эсминца… — Простите, — ответил Глен, — вы звоните не по адресу. — Это кабинет мистера Грэви? — В трубке назвали директора института. — Кто говорит? — Телефон директора 22-72-17,— ответил Глен и положил трубку. Профессор задерживался. Надо было идти. Разговор об эсминцах и генерале в эту минуту Глен не связал ни с чем. Не успел связать: в кабинет стремительно вошел Баттли. — Несчастье, Глен, — сказал он, проходя к своему столу. — Умер Гарри. — Гарри?.. — не понял Глен. — Дельфин? — Польман! — Баттли барабанил пальцами по столу. — Его тело — безмозглый футляр… — Шеф повысил голос, ругая ассистентов: — Как они посмели недосмотреть? Институт здесь, черт возьми, или ресторанная судомойка?! Не довели нити до полной стерильности. Швы загноились, Глен. Ведь он не мог ни сказать, ни пожаловаться!.. Трагедия начала доходить до сознания Глена. — Слишком я доверился олухам-ассистентам, — продолжал Баттли. — За неделю они довели воспаление до гангрены. Скоты! — Что же теперь делать? — прошептал Глен. — Гарри останется дельфином. Навсегда! — Но захочет ли он?.. — Захочет или не захочет, — Баттли сделал неопределенный жест, — будет разыскивать жемчуг и подводные клады. — А как же семья? У Гарри жена, ребенок! — Что я могу поделать? — Баттли поднял голову, у него было расстроенное лицо. — Что я могу поделать, Глен?.. О том, что в испытаниях будут участвовать военные корабли, Глен вспомнил позже, когда оправился от потрясения в связи с гибелью Гарри. Институт, насколько он знал, не связан с военным ведомством. Но сейчас, вспоминая разговор по телефону, — тон, прозвучавший в словах о генерале и эсминцах, был сердечный, каким на уикэндах говорят уважающие друг друга партнеры, — Глен был встревожен. Видимо, институт, Баттли и сам Глен служат не тем целям, которые рекламируются: развитие медицины, победа над барьером несовместимости… Эксперимент «Меркури» тоже задуман для иной цели… Подозрения Глена подтвердились. Он был вызван для участия в испытаниях в качестве помощника шефа. Глен окончательно убедился, что институт работает в контакте с военными. Тайное стало явным — очевидно, Гарри был крупной ставкой в игре, чтобы скрывать от Глена и от профессора такие мелочи, как связь института с военным ведомством. Гарри заставили плавать с различной скоростью, прикрепляли ему на кожу датчики, снимали электрограммы, динамограммы, пускали наперегонки с торпедами, — обыкновенной и с покрытием «ломинфло», эрзацем дельфиньей кожи. В тех и других гонках выигрывал Гарри. Но, судя по разговору во время гонок, у Гарри что-то не ладилось. — Как работают мышцы, кожа? Понимаете — кожа?.. — спрашивал профессор. — Как вы добиваетесь скорости? Чувствуете ли завихрения? Гарри отвечал, что плавать для него так же естественно, как для человека ходить, — ведь человек не чувствует сокращения мускулов, когда ходит. — Поймите, Гарри, нас интересует кожа, секрет ее приспособляемости к движению, — вмешивался в разговор генерал Биддмен. — Всю эту музыку мы затеяли, чтобы разгадать секрет быстрого плавания дельфина. Вы нам сообщаете меньше того, что мы уже знаем! Разделите каждое движение на составные, передайте нам элементы, анализ!.. У Гарри не получалось. Он неохотно поворачивал от одного эсминца к другому, чаще выныривал, чтобы вздохнуть, реже откликался на окрики. — Бестолочь! — сердился генерал, прикрывая рукой микрофон. — Гарри! — опять обращался он к подопытному. — Как вам удается преодолевать сопротивление среды? Не помогает ли вам вода не толкает ли, смыкаясь за вами? Как получается ваша скорость? Гарри перестал отвечать, испытания закончились безрезультатно. — Да-а… — нервно кусал сигару генерал Биддмен. — Или он, — генерал в разговоре с профессором намеренно избегал называть дельфина человеческим именем, — не осознает полученной силы, или настолько глуп, что не хочет понять ее. — Вас это злит? — спрашивал Баттли. В глубине души он был на стороне подопытного. Профессора интересовала физиологическая, даже философская сторона эксперимента. Но прежде чем заняться энцефалограммами Гарри-дельфина, изучением его ощущений, директорат института настоял провести опыты по программе генерала Биддмена. Определенные круги интересовались загадкой движения дельфина в воде, — это дало бы невиданные возможности увеличить скорость подводных лодок!.. И еще в глубине души Баттли чувствовал свою вину перед подопытным. То, что Гарри-человек умер и остался дельфин, потрясло Баттли не меньше, чем Глена. Последствия этого трудно предвидеть и трудно назвать. Совесть Баттли встревожена. В пылу работы профессор отвлекался от этих мыслей, но ведь придет момент, когда со своей совестью останешься с глазу на глаз. «У Гарри жена и ребенок!..» — вспоминал Баттли слова своего молодого помощника. Глен прав: как сказать о смерти Гарри его семье?.. Но помимо правоты, Глен молод и экспансивен. Он глубже переживает трагедию. Чем все это кончится? — Испытания надо продолжить, — настаивал генерал. — А если Гарри не выдержит? — Ваше дело, — не без иронии ответил Биддмен, — найти общий язык с владыкой моря… Баттли не нашел, что сказать. — А еще, — фыркал генерал, — дельфинам приписывают чуть ли не человеческий интеллект… Однако повторные испытания не состоялись. Гарри отказался от опытов, потребовал возвращения в человеческий облик. Уговоры профессора, ссылки на срок контракта не помогали. Гарри настаивал на своем. В окно лаборатории Глен видел, как шеф крупными шагами шел от вольера. «Ко мне», — подумал он. Дверь открылась, Баттли подошел к Глену. — Образумьте его! Докажите Гарри, что выход у него в беспрекословном повиновении. Поставьте перед совершившимся фактом. Вы его друг, вам это сделать легче. — Но, мистер Баттли… — Глен в это утро не был настроен мирно, предложение шефа показалось ему бесстыдным, и он тут же решил воспользоваться советом профессора — оперировать фактами. — Гарри посчитает нас преступниками! — Как вы сказали? — Баттли посмотрел ассистенту в глаза. — Убийцами. — Глен… У вас рискованный выбор слов. — Ну, а если? — настаивал Глен. — И ради чего? Чтобы экспериментом воспользовались военные? Эти гонки с торпедами, мистер Батт ли!.. — Не будьте наивны, Глен, — попытался успокоить его профессор. — Нам подсунули эту программу. Поймите: вы и я находимся в услужении. Ради долларов, Глен. И Гарри погиб из-за денег. Чистой науки нет, Глен, запомните. Впервые шеф заговорил о деньгах, и, как показалось Глену, он понял профессора: Баттли так же ничтожен, как и он, Глен Эмин, находится в тех же руках, что и Глен и все в институте. Пожалуй, Баттли не так уж презирает деньги, потому что делал за деньги и делает все, что от него требуют. Это были путы, золотая цепь, которую ни разорвать, ни сбросить с себя. Профессор жалок в такой же мере, как Глен и как Гарри Польман. Но Глен не дал увлечь себя жалости. Главное в том, — и это Глен видел с необычайной ясностью, — что они оба преступники. Наука? — говорит Баттли. Наука не должна идти по трупам людей. Они с профессором убили Гарри, совершили преступление. Это уничтожало Глена, вышибало у него почву из-под ног. — Идите! — настаивал Баттли. Глен молча пошел к вольеру. В голове его была пустота. Что он скажет Гарри? Что может сказать? — Старина… — начал он фамильярно, склонившись к дельфину. Маленькие круглые глазки животного немигающе глядели в его зрачки, плавники шевелились, поддерживая голову дельфина над поверхностью. Голос Глена осекся. Ему вдруг почудилось, что перед ним нет Гарри, нет давнего друга — ничего нет человеческого, и его «старина» нелепо, чудовищно перед дельфином. — Гарри… — попробовал он назвать животное человеческим именем. Но и это было плохо: дельфин разжал челюсти, унизанные сотней зубов. Все же Глен пересилил себя: — Гарри, — сказал он, — надо продолжать опыт. — Нет, — передал Гарри отказ азбукой Морзе. — Почему? — спросил Глен, чувствуя, что голос его выравнивается, но по-прежнему ощущая холод в душе: ничего человеческого не было в их разговоре. — С меня довольно, — ответил Гарри. — Плавать вперегонки с торпедами — с меня хватит… — Но ведь не в этом главное. — В этом! — ожесточенно сказал Гарри. — Больше я не хочу. Верните мне мое тело. — Гарри… — Глен почувствовал, что ему трудно лгать. — Я не все сказал, Глен, — перебил Гарри. — Может, я согласился бы еще плавать, обгонять торпедные катера и делать все, что они там придумают. Но причина в другом, пойми меня, Глен. Я боюсь. Я в постоянном ужасе. Я исчезаю, Глен. Может быть, не могу объяснить тебе это, но я исчезаю, растворяюсь в дельфине — мое человеческое сознание гаснет. Вчера я укусил Лисси… Лисси — один из пяти дельфинов, приручавшихся в океанариуме.

— Лисси мне ничего не сделал, — продолжал Гарри. — Я не должен был кусать Лисси!.. Теперь я думаю над этим и меня берет страх. Я становлюсь животным. Вот и сейчас не могу припомнить имя своей дочурки… Верните мне тело, Глен. Я погибаю!.. — Гарри… — Ужас сковал Глена настолько, что он еле шевелил языком. — У тебя нет тела, Гарри, оно погибло. Ассистенты плохо сделали швы… — Глен чувствовал, что не надо говорить об ужасных подробностях, но уже не мог остановиться, его подхлестывал страх, передающийся от чудовища, шевелившего плавниками и глядевшего на него парой пустых, точно дыры, глаз. — Гангрена сделала остальное, Гарри, у тебя нет тела… Нет тела, — повторял Глен, завороженный пустотой и ужасом глядевших на него глаз. — Нет тела, Гарри. Нет тела!..
Четыре часа спинной плавник Гарри резал воду океанариума. Бассейн был круглый, и Глену, все это время остававшемуся на берегу, казалось, что Гарри закручивает невидимую спираль, и в какую-то секунду спираль разомкнется, произойдет что-то непоправимое. — Гарри, Гарри! — звал он по гидрофону, но ответом была лишь белая вспененная полоска, там и тут мелькавшая на поверхности. Глен был в отчаянии. Может быть, вызвать Баттли? А что Баттли мог сделать? Но вот Глену показалось, что круговое движение нарушилось. Человек-дельфин приближался к нему, Глен поднялся со скамьи, надеясь опять поговорить с Гарри. Но дельфин вдруг резко переменил направление. На глазах убыстряя ход, он разрезал океанариум по диаметру, как пуля, вырвался из воды и, перемахнув через сетку, исчез в океане.
3
Глен остановил машину на улице Вознесения. Боже мой, кто и почему придумал название этой улице? Может быть, потому, что она вползала на холм и дома возносились один над другим, как ступени гигантской лестницы?.. Все жилые меблированные дома, переполненные людьми, словно улья пчелами. Глен приехал сюда по поручению директора института. В кармане у него чек на двадцать тысяч долларов — часть недовыполненного контракта, выписанный на имя Анны Амади Польман, вдовы погибшего Гарри. Глен должен передать чек в руки Анны и выразить ей соболезнование по поводу гибели мужа от кровоизлияния в мозг. Таковы инструкции, данные Глену. Где же дом сто пять? Глен заметил, что идет по четной стороне улицы, перешел на другую сторону. Улица подбиралась к вершине холма. Грязи чуточку меньше, а дома — выше. Дом сто пятый он нашел в глубине двора — семиэтажную коробку с неопрятными маршами лестниц. Он взобрался на шестой этаж, отыскал семьдесят вторую квартиру; долго стоял у двери, стараясь унять колотившееся сердце. Лестница выжала из него больше сил, чем напряженная работа в лаборатории. Темные туннели коридора уходили вправо и влево, ряд дверей по обе стороны скрывал странную муравьиную жизнь: когда Глен проходил мимо, он слышал за дверьми шуршание, смутные голоса, звон посуды. Отерев со лба пот, Глен постучал в дверь. На стук никто не ответил. Глен постучал второй раз. Детский высокий голос ответил: — Войдите! Открыв дверь, Глен увидел комнату с двумя кроватями по обе стороны от окна, столом посередине, старым буфетом и ширмой, отгородившей раковину водопровода. Несмотря на внешнюю чистоту, занавес на окне, комната имела удручающий вид. Но не это привлекло внимание Глена. На одной из кроватей сидела девочка. Ее остренькие коленки под тонким фланелевым одеялом были подняты к подбородку, заслоняя нижнюю часть лица. Глен видел только ее глаза — большие и не по возрасту умные; девочке, казалось, лет одиннадцать, может, двенадцать. В глазах ее не было страха перед незнакомцем, вторгшимся в комнату, не было удивления, — они были открыты навстречу Глену и спокойны удивительным, притерпевшимся ко всему спокойствием. Войди в комнату палач с веревкой, сама смерть — глаза остались бы такими же невозмутимо спокойными, готовыми ко всему. И это поразило Глена. — Я не помешал вам? — спросил он, не в силах отделаться от смущения перед этим неестественным спокойствием глаз. — Меня зовут Эджери, — сказала девочка. — Эджери, — повторил за ней Глен. — А меня — Глен Эмин. — Вы от папы? — спросила Эджери. — М-м… — не нашелся Глен, что ответить. — Можно сказать — от папы… — Мы не видим его уже три недели. — А где ваша мама? — спросил Глен, стараясь переменить тему разговора. — Вы садитесь, — Эджери указала на стул. — Мама уехала к тете Милли. За время разговора Эджери не переменила позы, не подняла головы. Что с ней, думал^ Глен, чувствуя, что смущение перед девочкой не пропадает, а, наоборот, усиливается. Эджери, кажется, поняла его мысли. — Извините меня, мистер Глен, — сказала она, — что я не подала вам чаю. Я не могу встать, я калека. Глен содрогнулся — так просто, обычно было сказано это слово. — Это Джим Лесли, — продолжала Эджери. — Мы жили во Фриско, в таком же доме: квартиры на шестом этаже всегда дешевле, — она повела глазами по комнате. — Джим, пьяный, толкнул меня с лестницы. У меня в двух местах сломан позвоночник… Глаза Эджери остановились на лице Глена, и он почувствовал боль искалеченного ребенка. — Надо лечиться… — сказал он машинально, скорее, отвечая своим мыслям, чем Эджери. — Надо, — ответила Эджери. — Когда папа заработает, он будет меня лечить. Он уже говорил с доктором Уилки. Но нужны большие деньги. — Сколько же просит доктор? — опять спросил Глен, мысленно ругая себя за то, что не может найти другой темы для разговора. — Пятьдесят тысяч долларов, — ответила Эджери. — Папа говорил, что эти деньги он заработает, как только подпишет контракт. В последний раз папа принес две пятидолларовые бумажки, и мне купили подарок… Тонкой рукой Эджери погладила плюшевого медвежонка, лежавшего сбоку. Как все несчастные дети, Эджери была памятливой, помнила пятидолларовые бумажки и, наверное, вскользь оброненные слова о контракте. Но ее речь отзывалась в душе Глена, как похоронный звон. Не только по погибшему Гарри, но и по ее погибшим мечтам быть здоровой. Сейчас она спросит его об отце, — что он ей скажет? Протянет банковский чек? Но ведь денег не хватит на лечение Эджери!.. Глен вспомнил, с какой настойчивостью Гарри цеплялся за эту сумму. И вот денег нет, и он, Глен Эмин, первым пообещавший их, — убийца Гарри. Эта мысль раздавила его, хотя пришла к нему не впервые. Он думал об этом, говорил с шефом. Но сейчас он наедине с собой и с ребенком, у которого отнял судьбу и отца. Он послал Гарри на опыт. Он убил его. Баттли и он, оба они убийцы. — Где сейчас папа? — услышал он вопрос девочки. — Эджери… — сказал он. — Случилось несчастье. — С папой?!. — Эджери отшатнулась. Медленно колени ее опустились, ноги вытянулись под одеялом. А голова и спина остались в том же неестественном, чудовищном положении. Эджери была похожа на согбенную старуху, на трость с загнутой ручкой… — С папой?.. — спросила она опять, глядя в лицо Глена опустевшими, прозрачными, как вода, глазами. Глен не мог выдержать этого взгляда, встал со стула и, горбясь, пошел из комнаты, забыв прикрыть дверь. — Мистер Глен, — лепетала вслед Эджери шепотом, похожим на шорох ветра в бумажках. — Скажите, что с папой?.. Глен не смел ответить, остановиться. Он плелся по коридору, вышел на лестничную площадку к большому черному, похожему на паука телефону. Только здесь он оглянулся на неприкрытую дверь. Никакая сила не заставит его вернуться к двери и прикрыть ее. Сквозь шорохи дома, звон посуды и смутные голоса он все еще слышал: «Что с папой?..», видел прозрачные от страха глаза, скрюченную фигурку Эджери. Нет, он не может так просто уйти отсюда, убийца Глен Эмин. Не может и не уйдет!.. Чувствуя на лице холодные струйки пота, Глен снял телефонную трубку, набрал номер полицейского управления. На вопрос, кто звонит и зачем, сказал, как в бреду: — Мы убили человека: я, Глен Эмин, и профессор Доннел Чарльз Баттли. Мы убили Гарри Польмана, пообещав ему пятьдесят тысяч долларов… И пока на другом конце провода записывали адрес, откуда звонит преступник и его показания, Глен не переставал повторять: — Убили за пятьдесят тысяч долларов…4
Гарри плыл, энергично работая всем телом: плавниками, кожей, хвостом. Кажется, он начал понимать то, чего от него требовали в опытах, — почему дельфин так быстро плавает. Кожа его вибрировала, на ней создавались тысячи микроволн, которые отталкивали, взморщивали воду в ее толще, заставляли скользить вдоль тела, но не просто скользить, а катиться круглыми капельками, — Гарри скользил в воде, как на шариках. Сравнение грубое, но по-другому не скажешь. Тут он спросил себя, почему он не понимал этого раньше, а понял только сейчас? Ответить на вопрос ему было страшно. Вот уж несколько дней он открывает в себе что-то новое, непонятное и теряет прежнее, человеческое. С утра он не может вспомнить название улицы, на которой живет в Окленде. Это так же страшно, как то, что он забыл имя дочери. Как звали девочку?.. А сейчас он не помнит название улицы. Номер дома сто пятый, а название улицы он не помнит. С тревогой он прислушивается к себе. Все ли он Гарри? Но ведь прежнего Гарри нет. И никогда не будет. Не надо думать об этом. Все продумано, когда он кружился в океанариуме. Теперь надо уйти. Просто уйти. Океан опять лежал перед ним неведомым миром, опять ждал его, и Гарри мчался ему навстречу. Какая удивительная легкость движений! И какая вокруг гамма красок, звуков, холода и тепла!.. Да, да, лучше думать об этом — тысяча оттенков холода и тепла… Глубина, близость берега, течения, пятна от облаков на поверхности — все это ощутимо в воде. Чувствуешь каждый солнечный зайчик!.. Как же название улицы, на которой он живет?.. Жил… А номер дома — сто пятый? Сто пятый?.. Берег исчез. Остались солнце и океан. И глубина. Тяжелая глубина внизу. Или это — новое непонятное чувство? Нет — тяжелая глубина. Она тянет в себя… Я устал, я смертельно устал. От опытов и от долгого плавания. И от Глена… Это Баттли послал его сказать мне, что Гарри умер. Умерло все: имя дочери, название улицы, номер дома. Скоро умрет сознание. Останется жить дельфин — морская зубастая тварь. Будет жрать рыбу, гоняться за самками… Баттли и Глен убили Гарри Польмана, чтобы узнать тайну плавания дельфина. Тайна осталась, а его, Гарри, не будет. Его уже нет. Маленький клочок сознания в мозгу зубастого зверя тает, словно кусочек воска на горячей плите… Сколько ему еще быть человеком? Час, может, минуту?.. Как его имя? Гар… Тяжелым всплеском хвоста Гарри поворачивает вниз, в глубину. Ему хватит минуты — лишь бы не меньше… Медленно сгущается темнота. Как пресс, сжимает тело давление. На сколько дельфин может задержать дыхание?.. Темнота сомкнулась над Гарри. Вода сдавила его, как угольный пласт. И почему-то нет страха. Вниз, и еще вниз, вниз… Когда давление стало невыносимым, когда оно втиснуло плавники в тело и вдавило глаза в орбиты, Гарри с силой вдохнул в себя водяную струю. Он даже не почувствовал боли — только резкий толчок в сердце. Он повис в глубине — с легкими, изодранными в клочья.Об авторе Грешнов Михаил Николаевич. Родился в 1916 году в Ростовской области, окончил Краснодарский педагогический институт. Долгое время работал сельским учителем, директором средней школы. Начал публиковаться в конце 50-х годов в местных издательствах. Главная тема его первых рассказов и очерков — жизнь советской деревни. Потом автор пробует силы в жанре научной фантастики. Всего им опубликовано свыше 60 рассказов, очерков, повестей и статей, в том числе четыре сборника: «Три встречи» (1962), «Обратная связь» (1967), «Все начиналось…» (1968), «Лабинские новеллы» (1969). В нашем альманахе печатался в выпуске 1967-68 годов. В настоящее время работает над второй книгой «Лабинских новелл» и новым сборником фантастических рассказов.
И. Верин
НЕВИДАННАЯ ЭНЕРГИЯ ГЛУБИН

Научно-фантастический рассказ Рис. Б. Лаврова
Стряхнув с обложки книги пыль, невесть как появившуюся за стеклами стеллажа, и открыв книгу на странице, отмеченной уже пожелтевшей закладкой, я прочел: «Что бы Вы сказали о человеке, который, живя в лесу и спокойно взирая на то, как гниет сухостой и валежник, привозил бы из города, для использования в своих печах, спальные гарнитуры? Вот так вело себя человечество на земле до овладения главной энергией». Автору этой книги было всего 20 лет, когда он написал эти строки. Но уже тогда чувствовалось, что он человек не без характера. Вновь прочесть эту фразу из старой книги побудил меня звонок шефа. Автор книги был его идейным противником. Шеф много лет воевалпротив теории Главной энергии, созданной этим ученым. Через два часа я должен ехать на Камчатку. Там вдруг вновь заговорил вулкан, а, по теории шефа, он должен был умолкнуть навеки. В то же время автор противоположной теории главной энергии считал, что мы используем эту энергию еще недостаточно и поэтому вулканы будут время от времени действовать. По телефону шеф сказал, что решил тоже ехать и посмотреть на вулкан. Откровенно говоря, это меня огорчило. Я, было, надеялся отдохнуть от его опеки. Хорошо еще, что едем мы не вместе. Последний год я добирался до Камчатки только самолетом. Но на этот раз врачи рекомендовали мне ехать поездом. Скорые поезда шли до Хабаровска уже только три дня, и я решился. Когда в купе поезда собираются четыре совершенно незнакомых человека, они очень быстро начинают вести себя так, будто бы они были закадычными друзьями уже многие годы. Самые сокровенные мысли могут быть рассказаны случайному попутчику. Так было и тогда, когда поезда двигались с черепашьей скоростью, и теперь, когда они ходят быстрее самолета 20—30-летней давности. Однако в купе поезда пассажиры откровенны, а в самолете — нет. Меня давно занимает этот вопрос. Но чего-либо разумного я придумать так и не смог. И на сей раз я услышал в поезде много интересного, не говоря уже о стечении обстоятельств, которые… В купе я пришел первым. За мной молодая женщина, а через несколько минут неожиданно появился мой шеф — Лев Дмитриевич. Увидя меня, он развел руками, и мы дружно рассмеялись. Женщина удивленно посмотрела на нас. Указав глазами на четвертую, пустующую полку, шеф сказал: — Если четвертым пассажиром окажется моя теща, я нисколько не удивлюсь. — Почему именно теща? — спросила соседка. На ее вопрос решил ответить я и заодно объяснить причину нашего неожиданного бурного веселья. — Видите ли, я купил билет за десять дней, а Лев Дмитриевич час назад пошел его доставать. Поэтому, когда он появился в нашем купе, мы не могли не рассмеяться. Женщина сняла пальто, но почему-то оставила шляпу с черной старомодной вуалью, которая прикрывала ее лицо. — А чему тут удивляться? — сказала женщина. — Обычное совпадение. — Что значит обычное? — возразил Лев Дмитриевич. — Я мог вообще не достать билета на поезд, а вероятность того, что попаду в это же купе, вообще не больше одной сотой. — О какой вероятности вы говорите? — О самой обычной, математической. — Я думаю, что совершенно бессмысленно применять законы известной нам сейчас теории вероятностей к жизненным ситуациям. Теория вероятностей — это наука о независимых, абсолютно случайных явлениях. В жизни же все связано и все обусловлено. — Это каким же образом? — спросил я соседку. Она тем же невозмутимым тоном продолжала: — Вот, например, в вашем случае кассир мог оказаться под влиянием мысли человека, знающего номер нашего вагона и вашего места. — Простите, но в телепатию я не верю. Это мистика, — отрезал шеф. Соседка как ни в чем не бывало ответила: — В то, что сейчас называют телепатией, и нельзя верить. Это набор фантастических измышлений или выводов из недобросовестно выполненных опытов. А зачастую — просто шарлатанство. Но отсюда вовсе не следует, что мы уже все знаем о влиянии людей друг на друга. В это время поезд тронулся, и мы как по команде посмотрели на оставшееся пустым четвертое место. Первой заговорила соседка. — Я не знаю ничего определенного о нашем соседе, но он должен быть мужчиной и будет догонять поезд. Ему почему-то надо обязательно приехать поездом, — как-то задумчиво закончила она. — Кроме того, судя по всему, вы оба географы. Мы переглянулись: не хватало еще ехать три дня в компании с ненормальным человеком. Но женщина быстро поняла наши мысли. Уже другим тоном, чем-то напоминающим голос матери, успокаивающей ребенка, она сказала: — Для того чтобы вы лучше поняли меня, я, если хотите, расскажу вам об одной истории. В ней все верно, даже имена. — Что же, — сказал шеф, — география — это землеописание. Надеюсь, действие произошло на Земле? — Не вполне, — загадочно улыбнулась соседка. — События, о которых я рассказываю, начались в Ленинграде. Конференц-зал Ленинградского университета был полон. Стояли в простенках, сидели на окнах. Шла лекция профессора Позднева. — Кого-кого? — переспросил шеф. — Профессора Позднева, — повторила соседка, явно недовольная, что ее перебили в самом начале. Шеф вынул портсигар. — Простите нас, пожалуйста, но мы выйдем покурить. Соседка пожала плечами. На площадке, куда мы вышли покурить, Лев Дмитриевич, раздосадованный тем, что ему навязывают разговор о человеке, которого он ненавидит, сказал: — Саша, надо что-то предпринять. Не могу же я спокойно сидеть и выслушивать сентенции об этом человеке. — Может, перейдем в другой вагон? — осторожно предложил я. — Вы видели, Саша, когда-нибудь академика Лапина бегущим с поля боя? Даже если ему присвоили почетное звание географа? — Но ведь вы не хотите ее слушать? — Да. Слушать эти сентенции не хочу. Но я не могу просто сбежать, когда ведется пропаганда невежества. Да еще где? В мягком вагоне, среди незнакомых, но явно интеллигентных людей. Шеф нервно смял недокуренную папиросу и большими шагами направился к двери купе. Неожиданно он остановился и сказал шепотом: — Не надо говорить пока, Саша, кто мы такие. Будем выдавать себя за географов, если ей так хочется. Черт с ним. Договорились? Войдя в купе, он сел и обратился к соседке: — Итак, вы начали рассказ о профессоре Запоздалом. — Не Запоздалом, а Поздневе. — Какая разница, все равно человек с такой фамилией явно опоздал родиться. — Я бы не стала придавать фамилиям такого значения. Быть может, вам неинтересен рассказ? — Нет, отчего же. Ведь вы с вашей проницательностью решили, что это интересно географам. — Итак, я начала с лекции. Последние слова лектора были такими: «В масштабах Вселенной жизнь бессмертна и существует вечность. Только при нормальной эволюции каждая новая цивилизация делает еще шаг к прогрессу, подобно тому как на Земле мы растем от поколения к поколению». Эти слова профессора словно заворожили аудиторию. Долго длилось молчание: так это было ново и неожиданно. А затем зал разразился аплодисментами и начал забрасывать профессора записками. — Вы применили интересный оборот: «Зал разозлился аплодисментами». А ведь верно, и такое возможно, — вставил шеф. — Не разозлился, а разразился. Но я продолжаю. Мои молодые друзья Николай и Маша шли после лекции вдоль парапета Университетской набережной. Когда молодые люди стали переходить мост лейтенанта Шмидта, Николай почти дословно повторил про себя запомнившиеся ему слова профессора. Я их тоже не зря повторяю вам: «Человечество на Земле может достичь невероятных вершин культуры и умереть естественной смертью через несколько миллиардов лет, наследовав достигнутое следующему роду мыслящих существ где-то на другой планете. Но может и покончить жизнь самоубийством в пожарище атомной войны, не достигнув даже зрелости. Но всегда…» Тут он вдруг почувствовал, что Маша с силой остановила его. Прямо на них неслась «Волга», они еле успели отскочить. Когда они перебежали на другую сторону, Маша сказала: «Если, находясь под впечатлением лекции, мы попадем под машину, то гипотеза профессора от этого не получит подтверждения. Не так ли?» «Маша, это грандиозно. Ты только подумай: эволюция жизни в масштабах всей Вселенной! — сказал Николай». «Значит, ты согласен с тем, что у всего человечества где-то на других планетах тоже будут потомки? И они могут наследовать что-то из того, что приобрел человек на Земле?» — «Да, если прав профессор». — «Это невероятно, — в глазах Маши было недоумение, — а сколько детей может быть на других планетах у миллиардов людей, живущих на Земле?» — не без иронии добавила она. «Детей, — как эхо отозвался Николай, — это не то слово, Маша, все гораздо сложнее». Мы с шефом переглянулись. Что это? Чеховская дама с пьесой? Но у него хватило мужества промолчать. Рассказчица продолжала: — Маша была физиком, училась у академика Лапина, человека фанатично преданного направлению, которое он развивал в науке. О гипотезе профессора Позднева Лапин говорил всегда с возмущением — она противоречила его взглядам. «Надо быть круглым идиотом, — взорвался как-то он, просмотрев последнюю статью профессора, — чтобы на мгновение допустить, что протон не элементарная частица, а сложная система из шести тысяч более простых субчастиц». — Я думаю, что он сказал «не идиотом», а «ослом», — с кислой улыбкой поправил шеф. — Возможно, — спокойно согласилась рассказчица, — но послушайте дальше. Через два месяца после лекции Николаю пришлось выехать на Камчатку. — Почему именно на Камчатку? — снова не выдержал шеф. — Сейчас все узнаете, потерпите немного, — ответила соседка. «Приехав на место назначения, Николай не сразу узнал профессора в этом маленьком человеке в стеганке. Длинные папиросные затяжки, куски глины на очках, которые он непрерывно поправлял грязными руками, выдавали его состояние. Буровая установка была уже остановлена. Все с надеждой и тревогой ждали появления бура из скважины. И когда бур подняли, председатель комиссии созвал всех. Прямо на походный легкий столик рабочие поставили прозрачный сосуд, в котором находился образец породы. Сосуд чем-то напоминал «термос» с брикетом Главной энергии. Ведь брикеты эти тоже добывались на большой глубине. Принесли микроскоп. Члены комиссии поочередно исследовали породу. Затем проверили, не просочился ли воздух в сосуд, и убедились, что там хороший вакуум. Последним приступил к работе Николай, он должен был сделать ряд фотографий. Когда осмотр закончили, председатель заявил с некоторой торжественностью: «Итак, констатируем, что проба базальта, взятая с глубины сорок километров, находится в герметически закрытом сосуде и во время подъема не имела соприкосновения с породой в верхних слоях». Члены комиссии поставили подписи под актом. Профессор взял два экземпляра акта, сложил их вчетверо, чтобы спрятать в карман, и только тогда заметил, что руки его густо измазаны глиной. «Зачем ему порода, которая находилась миллиарды лет при температуре не ниже тысячи градусов и явно не может иметь ничего относящегося к живому? Непонятно…» — думал Николай, наблюдая, как профессор укладывает запечатанный сосуд с породой в ящик. «Зачем ему понадобилось поднятый наверх сосуд запечатать так, чтобы малейшая попытка проникнуть внутрь была бы сразу обнаружена?» — продолжал размышлять Николай. Когда на ученом совете утверждали состав комиссии, он отказывался войти в нее в качестве специалиста по генетике, считая, что не сможет быть объективным, так как сочувственно относится к идеям профессора. Но его кандидатуру все же утвердили. Биологи высоко ценили его диссертационную работу о некоторых наследственных задатках, которые природа закодировала на малых частях молекул. Маша тоже не хотела, чтобы Николай участвовал в комиссии. Она, как и ее учитель, академик Лапин, считала, что работы профессора Позднева противоречат основам физики, а следовательно, ошибочны». Я слушал и недоумевал. Откуда вдруг у шефа появилась такая выдержка? Ведь герой чеховского рассказа убил даму, читавшую ему пьесу, и присяжные оправдали его. Но шеф только порывисто встал и закурил прямо в купе. Рассказчица остановилась, но потом, вздохнув, продолжала. «И вот теперь Николаю как члену комиссии надо было во всем разобраться. Профессор Позднев ни словом не намекал, зачем ему мертвая порода из глубины земли. А то, что она должна быть мертвой, очевидно. На этой глубине уже выделяется, хотя и немного, Главная энергия. Она не может способствовать жизни. В конце концов Николай решил об этом спросить самого профессора. Тот, продолжая возиться с упаковкой ящика, отделался шуткой: «Полью ее живой водой, она и перестанет быть мертвой». Сказал и улыбнулся, но глаза его не смеялись, они как бы говорили: «Для тебя это только шутка, а для меня вполне серьезная вещь». Профессор вскоре неожиданно уехал. Молодые ребята — механики, мотористы — даже обиделись. Они надеялись, что, получив свою «порцию мертвой породы», профессор поделится своими дальнейшими планами. Им очень хотелось их знать. Но он уехал, пожав всем крепко руки. На прощание как-то особенно задушевно с каждым поговорил. Это, конечно, сгладило обиду, вызванную скорым отъездом, но еще больше разожгло любопытство. За профессора пришлось отдуваться Николаю и начальнику экспедиции Иванову. В палатку вечером набилось много народу, и всем хотелось побольше узнать об ученом и его работе». В купе заговорило радио. Объявили о том, что поезд подходит к большой станции, стоянка — пятнадцать минут. Мы втроем вышли на перрон. Вокзал был расположен в таком месте, что с площадки перрона открывалась панорама нового города. Она была столь необычна и интересна, что мы залюбовались ею. — Я никогда тут не бывала, — призналась наша попутчица. — А вы? — Та-ак! — провозгласил шеф. — Зуб за зуб, слово за слово. Теперь слушайте рассказ географа. — Буду признательна, — мило согласилась наша соседка, пропустив мимо ушей колкость шефа. — Это город энергетиков, — яростно начал шеф. — Отсюда идет основной поток брикетов Главной энергии. Техника развивается по спирали. Она вернулась к добыванию топлива из недр, но уже иного и на иной глубине. Отсюда «новым углем земных глубин» снабжается весь мир! Как бы в подтверждение его слов в вагоны стоявшего на соседнем пути железнодорожного состава автоматы стали грузить контейнеры, вид которых известен, конечно, всем. Это были энерготермосы, заполненные брикетами Главной энергии. Шеф, широким жестом обведя открывавшуюся перед нами панораму, продолжал: — Полюбуйтесь этими решетчатыми небоскребами буровых шахт, уходящих вглубь до двухсот километров к самой сокровенной и таинственной части земного шара. Столетия мы изучали Вселенную, миры, отстоящие от нас на миллионы световых лет, а в глубь Земли заглядывали лишь на десяток километров. — Я вам говорила о сорока километрах, — заметила слушательница. — Все равно, — отмахнулся шеф. — Полюбуйтесь. В этом городе нет ни одной дымовой трубы. Автотранспорт не отравляет воздух выхлопными газами. Здесь не найти и следа прежнего, варварского способа использования таких бесценных продуктов, как нефть и уголь. Если хотите, это и есть основа новой географии. — А далеко до буровых скважин, добывающих брикеты? Шеф многозначительно взглянул на часы: — У нас осталось всего тринадцать минут. Представьте, что мы мчимся вот по этому шоссе. Видите? Вы что-то рассказывали о породе, поднятой с глубины сорок километров. Допустим, мы подъезжаем вон к тому сооружению в десяток Эйфелевых башен высотой. Архитектура дерзости. Это храм техники, где с глубины ста двадцати километров добывают породу, в которой протекала реакция с выделением Главной энергии. Чтобы сохранить ее активность, брикет подвергают быстрому и глубокому замораживанию почти до абсолютного нуля. И тогда энергетические консервы становятся удобными и для транспортировки, и для использования образующейся на концах брикетов разности электрических потенциалов. Подключай к ним любой электромотор, как к древним аккумуляторам. — И намного хватит одного брикета? — Хватит, чтобы доставить наш поезд на Камчатку. Тут шеф в пылу своеобразной «мести» выложил нашей спутнице столько научной информации, что у той голова должна была пойти кругом. Но вместо ахов и охов она лукаво заметила: — А вы знаете, что место, где построен этот город, считалось сейсмически опасным? Здесь бывали землетрясения и в девять баллов. — Почему же тогда здесь город построили? — хмуро спросил шеф. — Поверили академику Лапину. Говорят, сей авторитет утверждал, что землетрясений и извержений вулканов не будет, если в данном районе интенсивно добывать Главную энергию. Шеф закашлялся. Дело в том, что он на Камчатку ехал именно потому, что там «незаконно» заработал уснувший вулкан. Посмотрев на заоблачные стрелы сооружений нового города, оставлявших незабываемое впечатление, он буркнул: — Кажется, этот авторитет, как вы изволили выразиться, не подвел. Вон они, башни, какие и вавилонянам не снились, стоят себе, чуть до звезд не достают. На них ночью посмотреть стоит. Но поезд, конечно, не стал дожидаться сумерек. В купе мы долго молчали. За окном мелькали леса, поля, перелески, многоглазые, отражающие заходящее солнце корпуса заводов. — Ну что ж, — сказала наконец соседка. — Око за око, фраза за фразу. Придется вам дослушать мой рассказ. Он имеет к вам некоторое отношение. Так вот. Профессор высказал такую гипотезу: частицы, которые входят в состав человеческого организма, уже участвовали в создании мыслящих существ, и не раз. Если не на Земле, то на планетах других звездных систем в бесконечной Вселенной. — Как же эти атомы сохранились, позвольте узнать? — перебил шеф. — О том же спросили и в палатке экспедиции после отъезда профессора. А также спросили, почему атомы должны были попасть на нашу планету, когда на ней зарождалась жизнь? Сомнений было немало. Заговорил наш геофизик Иванов: «По всей Вселенной носятся многие миллиарды лет космические лучи. Больше всего в их составе протонов, есть и ядра атомов. Частицы эти не уничтожаются ни при каких процессах. Самые мощные ядерные взрывы, происходящие внутри звезд или, например, на так называемых новых звездах, их не уничтожают. Профессор и предположил, что…» В этот момент в палатку вбежал радист. «Вот телеграмма от профессора», — сказал он, протягивая Иванову небольшой листок. Все насторожились. Иванов прочел телеграмму вслух: «Дорогие друзья! Мое бегство вызвано желанием немедленно провести опыт, которого я жду более двадцати лет. В моем рюкзаке есть магнитные записи некоторых моих соображений. Кто хочет, пусть послушает. Прошу на все вопросы ответить Николая Константиновича». Когда принесли рюкзак профессора с магнитофоном, в палатке стало совсем тихо. Николай нажал клавишу. «Я полагаю, — раздался негромкий, но ровный и твердый голос профессора, — что основные особенности мыслящих существ закодированы на уровне микрочастиц — протонов и электронов. Эта кодировка формировалась на протяжении огромного отрезка времени, по сравнению с которым несколько миллиардов лет существования Земли лишь мгновение. Формирование кода происходит в процессе эволюции Вселенной и продолжается сейчас». «Не понимаю, какой такой код?» — пробасил кто-то. На него зашикали, но Николай выключил магнитофон и пояснил: «Основные функции живых организмов, в частности способность передачи всех особенностей рода от одного поколения другому — наследственность и способность клеток к определенному обмену веществ, записаны или, можно сказать, закодированы определенным порядком расположения атомов в белковых молекулах живого организма. Это подобно тому, как человек записывает с помощью того или иного кода в кибернетических машинах определенную информацию, которую потом машина воспроизводит или использует. Понятно?» В палатке загалдели, а когда снова воцарилась тишина, Николай опять включил магнитофон.

«На уровне молекул и атомов, — звучал голос профессора, — в процессе эволюции, например на Земле, применительно к земным условиям, записывается жизненный код организмов. Но способность атомов и молекул играть роль столь сложной кибернетической машины заложена гораздо глубже — в структуре микрочастиц. Да, микрочастиц, как сложных систем, состоящих из многих субчастиц. В процессе эволюции Земли, Солнечной системы и даже звездных галактик микрочастицы не уничтожаются, оставаясь как бы неделимыми, частицами-кирпичиками мироздания. Эти кирпичики и являются, по-моему, фундаментальными носителями жизни во Вселенной…» До глубокой ночи затянулось обсуждение. Николай еле добрел до своей палатки и уснул, не раздеваясь. А через три дня в лагере появился вертолет. Оказалось, что его прислали за Николаем, чтобы быстрее доставить на аэродром, а оттуда самолетом в Ленинград. Его ждали в лаборатории профессора Позднева по какому-то неожиданно возникшему сложному делу. К приезду Николая там собрались уже все члены комиссии. Пришли академик Лапин с двумя своими сотрудниками и Маша. Маша была чем-то сильно взволнована. К Николаю обратился один из присутствующих и спросил, как он проверял состояние породы, которая была взята на большой глубине, как делались микрофотографии и электронограммы. Николай вынул из портфеля пачку фотографий. Все склонились над ними и стали внимательно рассматривать. Снимки были сделаны в определенных местах образца. Николая подробно расспросили, как он определил эти места, и только убедившись, что все сказанное точно совпадает с записями в акте комиссии, ему протянули пачку новых фотографий. Николай вгляделся и онемел от изумления. Фотографии, сделанные в лаборатории, заметно отличались от того, что было запечатлено на его снимках! Вместо безжизненной базальтовой породы отчетливо виднелись скопища каких-то микроорганизмов. Сличая фотографии, выполненные через некоторые промежутки времени, Николай с удивлением обнаружил, что эти организмы двигались. — Что все это значит? — спросил он. Ему объяснили, что фотографировали те же места образца и что внутрь сосуда не мог проникнуть ни один атом. Николай попросил разрешения повторить фотографирование. — Это невозможно, — сказал председатель комиссии, — сосуд сейчас очень радиоактивен. Уловив недоуменный взгляд Николая, он добавил: — Фотографии были сделаны в специальной камере, сосуд и сейчас там. — Я хочу поговорить с профессором Поздневым, — сказал Николай недовольным тоном. Все это напоминало ему какой-то мистический рассказ. — Профессор Позднев умер вчера от лучевой болезни, — глухо проговорил ровным голосом один из строгих мужчин. Председатель протянул Николаю небольшую тетрадь и указал на одну из страниц: — Вот это может пролить какой-то свет на все, что вы видели. Николай узнал почерк профессора. Размашисто было написано: «Я полагаю, что при определенных условиях процесс эволюционного развития живых существ можно ускорить. Вместо миллиардов лет на это, может быть, потребуются годы, а может, и дни. Как мне хочется поставить этот опыт!» Этими словами профессора соседка по купе закончила свой рассказ. Шеф мял в пальцах потухшую папиросу. Понимая, как трудно ему сейчас говорить, я решил прервать молчание. — Вы упоминали академика Лапина, вы с ним встречались? — С академиком?.. Я много слышала о нем, — ответила она уклончиво. Шеф посмотрел на меня и понимающе улыбнулся. Возможность сохранения инкогнито его явно устраивала. Он начал издалека: — Но в вашем рассказе чувствовалось не очень доброжелательное отношение к этому ученому. — Вы ошиблись. У меня нет и не может быть недоброжелательства к самому грамотному физику мира. — Ну уж… — Шеф явно опешил от такого комплимента, столь неожиданно прозвучавшего в устах соседки. — Безусловно, знания его чрезвычайно обширны, но он не принадлежит к тем, кто глубоко понимает то, что знает. В этом отношении он просто рядовой профессор. — Как это — знать и не понимать? У вас не сходятся концы с концами, — возмутился я. — Разрешите по этому поводу привести небольшой исторический факт. У профессора Эшби, одного из крупнейших математиков, как-то спросили, как он оценивает математические знания Альберта Эйнштейна. На это Эшби ответил: «Любой мой аспирант заткнул бы Эйнштейна за пояс. Но никто из них не создал и вряд ли создаст теорию относительности». — Вы хотите сказать, что и Лапин ничего не создал? — Нет, что вы! Он создал самую грамотную школу физиков в мире. Но эта самая нетерпимая к инакомыслящим школа. А такая нетерпимость всегда ведет в конечном итоге к тому, что развитие науки прекращается. Этого уже шеф выдержать не смог. — Я не знаю, кто вы, ведь парапсихолог — это не специальность. Но положение дел в современной физической науке вам явно неведомо. В это время поезд резко затормозил и остановился. Мы посмотрели в окно, Но никаких строений не увидели. Неподалеку виднелась лишь «станция питания», от которой поступал электрический ток в двигатели электровозов. — Знаю, что это называют «станцией питания» и что она использует Главную энергию. Географы должны иметь представление обо всем, что меняет лик Земли. Почему эта станция не пользуется брикетами? Шеф внушительно засопел. — Видите ли, мы действительно имеем представление о Главной энергии и ее использовании, но прежде чем рассказывать об этом, хотелось бы знать, в какой степени вы вообще знакомы с источниками электрической энергии. Соседка на несколько секунд задумалась, а потом сказала: — Рассказывайте так, как вы рассказывали бы человеку, имеющему инженерное образование в другой области, но интересующемуся физикой. — Ну что ж, попробую. Как вы знаете, до открытия Главной энергии все электростанции делились на тепловые, гидравлические и атомные. Правда, к моменту зарождения теории Главной энергии появились электростанции, которые непосредственно использовали тепло земных недр в источниках горячих подземных вод. Но эти станции были столь маломощны, что в общем балансе добываемой энергии играли весьма малую роль. — Я это знаю, — сказала наша спутница, как бы желая подтолкнуть шефа быстрее перейти к сути вопроса. — Не сомневаюсь, но всегда полезно начать с общеизвестных истин. Главной мы называем энергию, которая непрерывно выделяется в центре земного шара в условиях огромных давлений и температур. О сущности этих, явлений мы поговорим потом. Сейчас я вам расскажу, как эта энергия используется. Вы что-нибудь слышали о термоэлементах? — Конечно, ведь термоэлектричеством еще в пятидесятых годах много занимался Институт полупроводников, возглавляемый академиком Иоффе. — Совершенно верно. Академик Иоффе заложил основы теории так называемого термоэлектричества, но до открытия Главной энергии термоэлементы были настолько маломощными, что их использовали только в приборах и миниатюрных электрогенераторах. Недостатком этих устройств был чрезвычайно малый коэффициент полезного действия. Лишь незначительное количество тепла превращалось в электроэнергию. — А сейчас коэффициент полезного действия высок? — Чрезвычайно. Но дело не в нем. В это время открылась дверь нашего купе и вошла пожилая женщина. Она огляделась и, тяжело дыша, спросила: — Простите, двадцатое место здесь? И, получив утвердительный ответ, прошла по коридору за чемоданом и вновь вернулась к нам. Так появилась еще одна попутчица. А ведь, по предсказаниям первой соседки, четвертое место в купе должен был занять мужчина. Шеф ехидно напомнил об этом. Неожиданно вошедшая ответила: — Совершенно верно. В командировку должен был поехать мой муж, но в самый последний момент почувствовал себя плохо. Дело чрезвычайно важное, а мы работаем вместе. Поэтому, как только ему стало легче, я решила поехать вместо него. Первая соседка сделала победный жест рукой, но шеф не сдавался. Он вспомнил, что она утверждала, будто тому, кто отсутствует в нашем купе, обязательно надо ехать на этом поезде, и поэтому спросил вошедшую: — А зачем вам понадобилось догонять наш поезд? Можно было лететь самолетом или ехать другим поездом. — Нет. Я должна была непременно попасть в этот вагон. — И новая соседка замолчала, явно показывая нежелание продолжать на эту тему разговор. Она села у окна, вынула какие-то записи и, извинившись, углубилась в них. Женщина под вуалью попросила шефа закончить рассказ, выразив надежду, что это не помешает новой пассажирке. — Термоэлементы, как вы знаете, превращают теплоту непосредственно в электроэнергию. Происходит это очень просто. Если на двух спаях разнородных материалов создается разность температур, то по цепи, образованной этими проводниками, идет электрический ток, в который превращается часть тепловой энергии, идущей от горячего спая к холодному. В недрах Земли выделяется огромное количество тепла за счет Главной энергии. Чтобы использовать это тепло, применили особого вида термопары. Один спай термопар находится в море или в каком-нибудь большом подземном водном резервуаре с относительно низкой температурой, а другой спай помещается ближе к недрам Земли при очень высокой температуре. В результате образуется электрическая энергия. — Непонятно, — возразила молодая соседка, — между охлаждающими резервуарами и высокотемпературными слоями земных недр огромное расстояние. Оно так велико, что в проводниках, которые соединяют горячие и холодные спаи, потеряется если не вся, то большая часть полученной энергии. — Это было бы так, — вмешался я, — если бы в качестве элементов, соединяющих горячие и холодные спаи, использовали обычные проводники. А в новых термоэлементах используются сверхпроводники из сплавов, обладающих сверхпроводимостью при высоких температурах, и потому практически энергия совершенно не теряется. В наш разговор неожиданно вмешалась новая пассажирка. — Так уж и не теряется. Ваши высокотемпературные сверхпроводники излучают такое большое количество энергии, что мы очень обеспокоены судьбой животного мира в морях. — Ну это уж вы слишком, — возразил шеф, — наши электроды занимают одну миллиардную долю поверхности морей и примерно такую же долю поверхности глубинных озер. — Так что если б даже и терялось много энергии, то и тогда это никак не повлияло бы ни на что живое. — Вы так думаете? Есть основание считать, что эта энергия наряду с колоссальной энергией, которая выделяется высокочастотными электростанциями, мешает нормально существовать не только животному миру водной среды, но даже и нам с вами. — Как может такая ничтожная часть энергии оказывать существенный вред животному миру? — недовольно возразил шеф. — Во-первых, эта ничтожная часть, как вы сказали, от очень больших величин, совсем не так уж мала. Но дело в конце концов не в абсолютной величине рассеиваемой энергии, а в ее характере. — Совершенно верно, — заметила первая соседка, — многие годы ученые всего мира отрицали влияние космических лучей на процессы, протекающие на Земле. Они говорили, что это-де очень маленькая энергия в сравнении с той, которая участвует, скажем, в атмосферных процессах. Но сейчас уже твердо установлено, что нельзя судить об энергии лишь на основании ее внешних проявлений. — Но какое это имеет отношение к ничтожным выделениям энергии в каналах наших энергетических термопар? — Самое непосредственное. Эти процессы также сопровождаются возмущением вакуума, а мы никак не можем привыкнуть к тому, что не только атомная материя определяет процессы, протекающие на Земле, что вакуум подчас играет определяющую роль. Проводник принес чай. Разговор прервался. Я стал размышлять, почему, собственно, разгорелся жаркий спор между людьми, случайно собравшимися в одном купе. Чем руководствовался каждый в желании что-то доказать, в чем-то убедить собеседника? Ну зачем, скажем, нашей новой спутнице, пожилому, усталому, взволнованному человеку, убеждать в чем-то случайных попутчиков? Кончится наша совместная поездка, мы разойдемся каждый по своим делам и, наверное, больше никогда не встретимся. Зачем же нужно с такой страстностью и убежденностью спорить? По-видимому, и остальные углубились в свои мысли, сосредоточенно пили чай и молчали. Первым нарушил его мой шеф. — Физики и биологи были, конечно, правы, когда обвиняли энергетиков в том, что, сжигая нефть и каменный уголь для получения тепла и электроэнергии, они совершали варварство. Но и сейчас, когда овладели Главной энергией, вы опять выражаете недовольство, обвиняете их в том, что наряду с пользой, которую приносит Главная энергия человечеству на Земле, она несет с собой горе. — А чему вы удивляетесь? — спросила вторая соседка. — Так было всегда, и это, наверное, естественный ход развития. Когда изобрели автомобиль, вначале никто не предвидел, с какими неприятностями это будет связано. И беда была не только в том, что автомобили пожирали бесценный бензин. Они отравляли атмосферу. Они буквально вытесняли людей из города. На дорогах гибли тысячи и тысячи жизней. — Да, у медали всегда есть оборотная сторона. У любого самого хорошего открытия всегда были теневые стороны, — добавила первая соседка. — Открытие ядерной энергии породило атомную бомбу. Всякое развитие есть борьба противоположностей, борьба добра и зла. Наверное, это неизбежно. — А почему неизбежно? — возразил шеф. — Почему хорошее и плохое обязательно должны сосуществовать? Почему нельзя сделать так, чтобы было главным образом хорошее, а плохое лишь временно сопутствовало ему? — Вот это уже, наверное, настоящая мистика, — задорно поддела шефа первая соседка, вспомнив его восклицания при первой встрече в купе. — Отчего же? — Да потому, что это лишь благое пожелание, не имеющее ничего общего с реальной действительностью, основными законами природы. — Вы неверно их трактуете. Действительно, основная движущая сила всякого развития — это, конечно, борьба противоположных сил, но побеждает ведь всегда одна из них. Развитие — всегда прогрессивная тенденция, и, следовательно, добро должно доминировать в борьбе со злом. — По-вашему, это происходило всегда? — Далеко не всегда. Но лишь потому, что мы искусственно вызывали развитие тех или иных процессов в неправильном, неестественном направлении. Во всех правильно протекающих по законам природы процессах доминирует добро, и только добро.

— Мне бы вашу уверенность. Очень трудно, изучая процесс или явление, определить, какие силы там доминируют. Обо всем можно судить только потом, по последствиям, а исправлять что-нибудь безумно трудно. — Трудно, да, но необходимо. Вот вы говорили о вреде, который принесли нашей цивилизации бензиновые автомобили. Но ведь если бы к началу развития городского транспорта открыли главную энергию, они бы никогда не существовали. Я внимательно слушал возникавшую и замиравшую беседу и смотрел в окно. Шли часы за часами. Менялись пейзажи. Мысленно улыбаясь, я думал о том, почему все-таки наша первая соседка приняла нас с шефом за географов. Но это заставило меня как-то зорче вглядываться в мелькавшие мимо пейзажи. Какими они были вчера, какими стали сегодня, какими будут завтра? Что влияет на это? Я видел огромные моря, которые огибала насыпь по самому берегу, и знал, что они созданы ради того, чтобы работали гидростанции. Не пережиток ли это теперь, когда Главная энергия вытесняет собой все старые способы получения энергии? Как изменится лик Земли теперь, когда из глубин земного шара в грандиозных сооружениях, о которых рассказал шеф, добываются брикеты жизни? И как это перекликается с работами профессора Позднева, о которых поведала наша соседка? Об этом стоило подумать. Энергия, сосредоточенная на самом глубоком уровне познаваемого вещества, жизнь, записанная кодом природы на самых глубинных образованиях вещества! И рассказ первой соседки, и вся наша поездка, и наша с шефом деятельность как-то в моем сознании слились воедино. Каждое утро мы с шефом ждали в коридоре, пока наши дамы приведут себя в порядок, потом возобновлялась прерванная накануне беседа. — Человек преобразует природу, — задумчиво глядя в окно, так ни разу и не сняв вуали, говорила наша первая спутница, — конструктивно преобразует ее, когда ведет наступление продуманно и планово. Но если он бездумно пользуется благами природы, то губит ее. Я смотрю в окно и вижу, как поредели леса, обмелели речки. — Но не видите, сколько убавилось в них рыбы, — вставила вторая соседка. — Это тоже меня беспокоит, и не одну меня… — Никак я не могу понять, кто вы по профессии, чем занимаетесь, — пробасил мой шеф. Наша молодая спутница откинулась на спинку дивана: — Зато я о многом догадалась. Вот мы проехали почти всю Евразию. Я не случайно сказала, что вы географы. Я не гадалка, а только наблюдательный человек. Разве я не видела, как вы реагировали на отвоеванные у морей просторы? На вновь посаженные леса? Не везде это еще сделано, не везде. Но, уже делается. Хотите удивлю вас своей догадливостью еще раз? — Перестал удивляться, — буркнул шеф. — Я открою вам причину, по которой наша уважаемая попутчица поехала вместо мужа поездом. — Как вы узнали? — удивилась пожилая женщина. — Ведь вы же болеете за весь живой мир. И вы, конечно, договорились с вашим супругом, что взглянете хотя бы из окошка вагона на изменившиеся после открытия Главной энергии ландшафты. С самолета ведь мало- что увидишь. — Из окна вагона тоже маловато, — проворчал шеф. — Надо бы на лошадях, а еще лучше пешочком. — Это только рекогносцировка, — живо заговорила по-жилая спутница. — Муж, он тоже биолог, хочет создать исследовательские биоотряды защиты природы. Я всегда была его помощницей и сейчас отправилась в разведку взглянуть его глазами. — Какая проницательность! Шерлок Холмс под маской Фантомаса, — пробасил шеф, взглянув на нашу молодую спутницу. Та лишь звонко и заразительно рассмеялась. Поезд тормозил. Мы подъезжали к крупной сибирской станции. Наша вторая соседка, чем-то взволнованная, подсела к окну. По перрону бежал молодой человек с цветами. Окно нашего купе было открыто, и он направился прямо к нам. Улыбаясь, он подал в окно букет. Молодая спутница обернулась к шефу: — Это Коля, тот самый Николай, о котором я рассказывала. Я предупредила его, что еду в этом вагоне. — Я тоже сыну сообщила, — смущенно сказала пожилая женщина. — Позвольте, — взорвался академик Лапин. — Объясните в конце концов, что здесь происходит? — Ничего особенного, — с особым ударением сказала старшая спутница, указывая глазами на младшую, которая, разговаривая через окно с Николаем, сняла вуаль. Шеф оторопел от изумления. Это была сбежавшая из его аспирантуры к биологам Маша. Но как сильно она изменилась! У обладательницы звонкого смеха и мелодичного голоса было изуродованное лицо. — Вы ничего не слышали о вырвавшейся из недр Земли жизни? Чудовищные микробы, — прошептала старшая соседка. — Она первая работала с ними. Я ее сразу узнала. Коля столько говорил мне о ней. Николай целовал протянутую ему через окно руку. Маша звонко смеялась. Мать дотянулась до сына, чтобы поцеловать его в лоб. Поезд тронулся. — А теперь, Машенька, извольте сообщить, почему же академик Лапин и его спутники — географы? Что общего между физикой и географией? — потребовал мой шеф. Маша снова прикрыла свое лицо вуалью и с присущей ей лукавой интонацией сказала: — Очень просто, вы на протяжении всего пути убеждали и меня и себя, что это так. Я не могла не узнать своего бывшего учителя. Главная энергия меняет облик нашей планеты. А раз вы приложили к этому руку, вы и есть подлинные географы. — Вы правы, — согласился шеф. — Вы правы, Машенька. Физика с помощью Главной энергии меняет мир. Да здравствует география грядущего! Поезд с самолетной скоростью проносился меж чуть отступивших от насыпи зеленых стен сибирской тайги. Земля казалась нетронутой, первозданной.
Об авторе Верин Илья Львович. Родился в 1919 году в Нижнем Новгороде. Физик-теоретик. Автор трех монографий и пятнадцати статей по физике. Имеет десять авторских свидетельств на изобретения. Им написано одиннадцать киносценариев, по которым сняты научно-популярные и учебные кинофильмы. В нашем сборнике выступает в третий раз. В творческих планах автора научно-художественная книга «Где природа хранит информацию».
Род Серлинг
ЛЮДИ, ГДЕ ВЫ?.

Научно-фантастический рассказ Перевод с английского Е. Кубичева Рис. В. Юрлова
Ощущение, которое он испытывал, нельзя было сравнить ни с чем, что он знал до сих пор. Он проснулся, но тем не менее никак не мог вспомнить, что засыпал. И он вовсе не лежал в постели. Он шел, шагал по дороге, по черному асфальту шоссе, разделенному посредине яркой белой полосой. Он остановился, взглянул на синее небо, на жаркий диск утреннего солнца. Затем осмотрелся — мирный сельский пейзаж лежал вокруг него, высокие, одетые буйной летней листвой деревья двумя шеренгами окаймляли шоссе. За их строем золотом зрелой пшеницы струились поля. Похоже на Огайо, подумалось ему. А может быть, на Индиану. Или на северную часть штата Нью-Йорк. Внезапно до него дошло значение этих прозвучавших в его мозгу названий: Огайо, Индиана, Нью-Йорк. Ему пришло на мысль, что он не знает, где находится. И тотчас — снова — он не знает и того, кто он сам! Он наклонил голову и взглянул на себя, на свое тело, пробежал пальцами по зеленой ткани комбинезона, присел и потрогал свои тяжелые высокие ботинки, пощупал застежку «молнию», бежавшую от горла до самого низа. Он потрогал свое лицо, а потом волосы. Инвентарный список, не больше. Попытка собрать в одно вещи, которые все же помнятся. Знакомство с миром кончиками пальцев. Он провел рукой и ощутил небритый подбородок, нос, его горбинку, не слишком густые брови, коротко подстриженные волосы на голове. Не под «нуль», не наголо, но очень коротко подстриженные. Он молод. Во всяком случае, достаточно молод. И чувствует себя хорошо. Чувствует себя здоровым… Ничто не тревожило его. Он мало что понимал, но вовсе не был испуган. Он отошел к обочине, вытащил из кармана сигарету и закурил. Так он стоял, прислонившись к стволу, в тени одного из огромных дубов, выстроившихся вдоль шоссе, и думал: я не знаю, кто я такой. Не знаю, где я. Но сейчас лето, я где-то за городом, и, похоже на то, у меня память отшибло или еще что-нибудь в этом роде. Он затянулся — глубоко, с наслаждением. Вынув сигарету изо рта, он взглянул на этот белый столбик, зажатый в его пальцах. Длинная, с фильтром. В памяти всплыла фраза: У сигареты «Уинстон» вкустакой, как у никакой другой». Потом — «В сигаретах «Малборо» есть все, что может вам понравиться». И еще одна — «Вы стали курить больше, но получаете все меньше удовольствия?».. Это начало рекламы сигарет «Кэмел», подумал он, таких сигарет, что ради того, чтобы их купить, не жалко и милю отшагать. Он улыбнулся и тотчас же громко расхохотался. Вот ведь сила рекламы! Он стоит здесь, не зная ни имени своего, ни того, где он, но табачная поэзия двадцатого века тем не менее уверенно пробилась через китайскую стену амнезии[29]. Он оборвал смех и задумался. Сигареты и эти рекламные сентенции означали Америку. Вот, значит, он кто — американец. Щелчком он отбросил сигарету и двинулся дальше. Через несколько сот ярдов послышались звуки музыки — они доносились откуда-то из-за поворота, что был впереди. Громкое пение труб. Хороших труб. Трубы сопровождал барабан, но чистое соло трубы вдруг вырвалось, прозвенело и затихло серией коротких стонов. Свинг. Вот что это такое, и он снова осознал смысл слова-символа, все, что оно означало для него. Свинг… Эту мелодию он мог отнести к совершенно определенному времени. Тридцатые годы. Но это было давно. Он же был в пятидесятых. Пусть, подумал он, пусть набираются факты. У него возникло такое ощущение, будто он — центральный рисунок разрезной картинки-загадки, а все остальные части мало-помалу начинают собираться вокруг него, составляя изображение, где уже можно было кое-что разобрать. И странно, подумал он, какой строго определенный составлялся рисунок. Он почему-то знал теперь, что сейчас 1959 год. Знал наверняка. Тысяча девятьсот пятьдесят девятый. Пройдя поворот, он понял, откуда доносилась эта музыка, и тотчас же снова быстро собрал в уме все, что ему стало известно. Он американец, где-то в возрасте между двадцатью и тридцатью, стоит лето, и вот он здесь. Перед ним был придорожный ресторанчик, небольшой, коробкой, сборный домик с табличкой «Открыто» на двери. Музыка доносилась как раз из этой двери. Он вошел внутрь и тотчас почувствовал, что попал в знакомую обстановку. Ему приходилось прежде бывать в подобных местах, это-то он знал определенно. Длинная стойка, уставленная бутылочками кетчупа и зажимами для бумажных салфеток; черного цвета стена сзади, на которой висели написанные от руки меню-объявления: есть сандвичи, такие-то и такие-то супы, пирог «Новинка» и еще с дюжину других. Здесь же была наклеена парочка больших плакатов: девушки в купальных костюмах поднимают бутылки с кока-колой. В дальнем конце комнаты стоял, как он догадался, автоматический проигрыватель; оттуда-то и слышна была музыка. Он прошел вдоль всей стойки, крутнув по пути пару круглых табуретов. Открытая дверь за стойкой вела в кухню с большой ресторанной плитой. Кофейник внушительных размеров захлебывался на плите торопливым фырканьем. Булькающие звуки шипящего кофе тоже были знакомы и настраивали на безмятежный лад, распространяя аромат завтрака, создавая атмосферу ясного, доброго утра. Молодой человек улыбнулся, будто увидел старого друга, или, что еще лучше, ощутил его присутствие. Он уселся на самый крайний табурет так, чтобы видеть кухню, полки, уставленные консервными банками, большой холодильник с двумя дверцами, деревянный разделочный стол, дверь во двор, затянутую кисеей. Он поднял глаза на стенные надписи. Сандвич по-денверски. Сандвич с котлеткой. С сыром. Яичница с ветчиной. И снова ему пришло в голову, что вот он, уже в который раз, не задумываясь, отождествляет знакомые ему, без всякого сомнения, слова с тем смыслом, который они таят в себе. Ну что такое, к примеру, этот сандвич по-денверски? И что такое пирог «Новинка»? Он спрашивал себя и вслед за вопросом в уме тотчас возникал образ, и ему даже казалось, что и вкус. Странная мысль поразила его, что он словно ребенок, взрослеющий фантастически ускоренными, прямо-таки реактивными темпами. Музыка из автомата в углу прервала его рассуждения своим бесцеремонным и громким натиском. — Это что — нужно, чтобы было так громко? — крикнул он в раскрытую дверь кухни. Молчание. Только музыка, и больше ни звука. Он повысил голос: — Вы слышите? И снова не последовало ответа. Тогда он подошел к музыкальному ящику, отодвинул его на несколько сантиметров от стены, на ощупь отыскал внизу маленькую рукоятку регулятора громкости и повернул ее. Музыка словно отдалилась, и в комнате тотчас стало тише и как будто даже уютнее. Он снова придвинул автомат к стене и вернулся на свое место. Взяв со стойки меню, отпечатанное на плотном картоне, — оно было прислонено к зажиму с салфетками, — молодой человек стал внимательно читать его, время от времени поглядывая в раскрытую дверь кухни. Ему видны были золотистые бока четырех пирогов, румянившихся за стеклом духовки, и он снова ощутил это острое чувство соприкосновения с чем-то знакомым, даже дружественным, с чем-то таким, что находило отклик в его душе. — Я, пожалуй, съем яичницу с ветчиной, — снова крикнул он в кухню. — Яйца не нужно сильно прожаривать, а ветчину порежьте помельче… И снова из кухни ни голоса, ни движения. — Я увидел надпись, что здесь у вас неподалеку какой-то городок. Как он называется?.. Кофе бурлил в большом эмалированном кофейнике, в воздух подымался пар. Легкий сквозняк двигал раму с натянутой на ней кисеей, прозрачная эта дверь поскрипывала — несколько сантиметров туда, несколько обратно; мурлыкал потихоньку проигрыватель. По мере того как у молодого человека разыгрывался аппетит, он стал ощущать и легкие уколы раздражения. — Эй! — позвал он. — Я вас, кажется, спрашиваю! Как называется этот город, здесь неподалеку? Он помедлил немного и, снова не дождавшись ответа, поднялся, обогнул стойку и вошел в кухню. Там никого не было. Он пересек кухню, подошел к кисейной двери, толкнул ее и вышел во двор. Это был просторный задний двор, покрытый гравием, совершенно пустынный, если не считать нескольких мусорных урн, выстроенных в ряд; одна урна опрокинулась, усеяв землю вокруг консервными банками, коричневой пылью высохшей кофейной гущи, скорлупой от яиц; тут же валялось несколько коробок из-под кукурузных и рисовых хлопьев, печенья и крекеров, плетенки, в которых, перевозят апельсины, сломанное, почти без спиц, колесо, три или четыре кипы старых газет. Он хотел было уже вернуться в дом, как вдруг что-то приковало его к месту. Он снова взглянул на урны. Чего-то здесь не хватало. Какой-то мелочи, без которой было нельзя. Он не знал, чего именно. Казалось, еще мгновение, и стрелки неведомого механизма, тикающего в его мозгу, сойдясь, дадут разумный и точный ответ, но этого не случилось. Что-то на дворе было не так, а он не мог вспомнить, что именно. Это породило слабое беспокойство, но он внутренне отмахнулся от него до поры до времени. Он вернулся в кухню, подошел к кофейнику, опять ощутив его горячий аромат, поднял и перенес его на разделочный стол. Потом отыскал кружку и налил себе кофе, оперся спиной о стол и стоял так, потягивая горячий напиток, наслаждаясь им, вспоминая его. Потом вышел в соседнюю комнату и из широкой стеклянной вазы выбрал себе большущую пышку. Возвратившись с ней на кухню, он прислонился к косяку двери, чтобы держать в поле зрения сразу обе комнаты. Он медленно жевал пышку, глотал кофе и размышлял. Хозяин этой забегаловки, думал он, либо занялся чем-то в подвале, либо его жене приспело время рожать и он помчался к ней. А может быть, парень вдруг заболел. Может, с ним случился инфаркт или что-нибудь в этом роде. Надо, пожалуй, взглянуть — где здесь дверь в подвал. Взгляд его упал на кассовый аппарат за стойкой. Разлюли-малина для жулика — бери не хочу! Или ешь бесплатно. Или еще что-нибудь. Он запустил руку в карман комбинезона и выгреб пригоршню мелочи с долларовой бумажкой. — Американские деньги, — сказал он вслух. — Тогда все ясно. Тут уж никаких сомнений быть не может. Я точно — американец. Так… Две по полдоллара… Четвертак… Десятицентовик… Четыре центовика и доллар бумажкой. Точно — американские деньги. Он снова прошел в кухню, переводя взгляд с полки на полку, разглядывая коробки и банки со знакомыми названиями. Вот банки с кэмпбелловским консервированным супом. Это, кажется, тот самый суп, которого пятьдесят семь сортов? И снова ёго стала сверлить мысль — кто он и где он. Он задумался над несвязанными между собой, непоследовательными мыслями и образами, что роились в его мозгу; над тем, что вот ему известно, оказывается, про музыку; над разговорными выражениями, которые он использует, над меню, которое он прочел и превосходно понял. Яичница, рубленая ветчина — это все были вещи, образ которых, даже запах и вкус были ему знакомы… Целая шеренга вопросов выстроилась перед ним. Кто же он, все-таки? Какого черта он здесь делает? И где это «здесь»? И почему? Почему — вот это очень важный вопрос. Почему он внезапно проснулся на дороге, не зная, кто он? И почему нет никого в этом ресторанчике? Где его владелец, или повар или тот, кто обслуживает клиентов? Почему их нет?.. И снова зашевелился тихий червячок того беспокойства, которое впервые кольнуло его там, во дворе. Он прожевал остатки пышки, запил последним глотком кофе и вышел в соседнюю комнату. Еще раз обогнул стойку, хлопнув четверть доллара на ее гладкую поверхность. У выхода оглянулся и снова внимательным взглядом обвел помещение. Черт его совсем побери, но все выглядело так нормально, естественно, по-настоящему! — слова, и само это место, и запах, и вид всего этого… Он взялся за ручку и, потянув, отворил дверь. Он уже ступил, было, через порог, как вдруг его поразила одна мысль. Внезапно он осознал, что именно смутило его, когда он смотрел на урны для мусора. Он вышел под жаркое утреннее солнце с тенью беспокойства в душе. Теперь он знал, чего там не хватало, в этом дворе ресторанчика, и мысль захлестнула его волной мрачного холодного предчувствия, которого он не испытывал до сих пор. Что-то темное сформировалось и утвердилось в мозгу, и мурашки побежали по коже. Что-то, чего нельзя было понять. Что-то, лежащее за гранью нормального. За символикой слов, за реальностью логики, что поддерживала его, отвечала на его вопросы, служила связующим звеном с действительностью. Там не было мух… Он зашел за угол дома, чтобы снова заглянуть на задний двор с его шеренгой мусорных урн. Мух не было. Была тишина и ни намека на какое-либо движение. Он медленно двинулся к шоссе, точно теперь зная, что здесь кругом неладно. Деревья были настоящие, настоящее было и шоссе и ресторанчик со всем, что в нем есть. Запах кофе был настоящий, и вкус пышки, и на коробках в кухне были настоящие, правильные названия, и кока-кола в бутылке настоящая и стоит десять центов. Все было в порядке, все было всамделишное и все на своем месте. Но во всем этом не было жизни! Вот чего не хватало — деятельности! С этой мыслью он ступил на шоссе и двинулся по нему мимо указателя с надписью: «Карсвилл, 1 миля».
Он вошел в город и город распростерся перед ним — аккуратный и симпатичный. Неширокая главная улица огибала парк, который, таким образом, был в центре всего. В этом парке, ближе к одной его стороне возвышалось большое школьное здание. На кольцевой главной улице выстроились в ряд магазинчики, за кинотеатром снова шли лавки и, наконец, виднелся полицейский участок. Еще подальше высилась церковь, позади нее тянулась улица особняков, а в доме на углу помещалась аптека. Был книжный магазин, магазин верхней одежды, бакалейная лавка, на тротуаре перед которой торчала небольшая стойка с надписью: «Остановка автобуса». Мирный и словно умытый, городок дремал в потоках яркого утреннего света и был абсолютно тих. Ниоткуда не доносилось ни звука. Он зашагал по тротуару, заглядывая в витрины. Все магазинчики были открыты. В булочной на полках лежали свежие пирожные и булочки. В книжном объявлялась специальная распродажа. Рекламный щит над входом в кинотеатр обещал фильм про летчиков. Трехэтажное здание было занято конторами адвоката, нотариуса и фирмой по торговле недвижимостью. Еще подальше стояла стеклянная будка общественного телефона, а за ней универсальный магазин; въезд во двор был закрыт с улицы воротами из металлической сетки. И снова он задумался над этим странным явлением. Было все, что полагается иметь городу, — магазины, парк, автобусная остановка, полным-полно работы, и не было людей. Ни души вокруг. Он прислонился к стене здания банка и осмотрел улицу из конца в конец, словно надеясь, что если на нее посмотреть достаточно пристально, то что-нибудь шевельнется.

…Девушку он увидел, когда взгляд его остановился на сетчатых воротах грузового въезда во двор универсального магазина, прямо напротив. Во дворе стоял грузовик и она сидела в его кабине, это было ясно, как божий день, — первое живое существо, которое ему встретилось. Сердце у него заколотилось, как заячий хвостик, когда он торопливо ступил с тротуара и бросился к ней. На середине улицы он остановился, чувствуя как у него вспотели ладони. Ему не терпелось сломя голову помчаться к грузовику и в то же время, не теряя даром даже секунды, хотелось прямо отсюда выплеснуть ей все свои вопросы. Он попытался придать голосу этакую непринужденность и даже заставил себя улыбнуться: — Эй, мисс! Мисс, послушайте! — он почувствовал, что против воли голос срывается на крик, и снова сделал над собой усилие, чтобы ввести его в рамки разговорных интонаций. — Мисс, не могли бы вы мне помочь? Не могли бы вы сказать, куда все подевались? Похоже на то, что ни одной живой души нет вокруг! Буквально… ни души!.. Теперь он двигался к ней через улицу непринужденной, как он полагал, походкой, обратив внимание, что девушка продолжала смотреть из своей кабины прямо на него. Он ступил на другую сторону улицы, остановился в нескольких шагах от ворот и снова улыбнулся ей. — Это же с ума можно сойти, — сказал он. — Сумасшествие, маскарад какой-то! Когда я сегодня утром проснулся… — он сделал паузу и задумался. — Ну, не совсем так, чтобы проснулся, — сказал он, — я просто, словно бы, вдруг обнаружил, что иду по шоссе… Он ступил на тротуар и через приоткрытые ворота прошел прямо к кабине грузовика со стороны места для пассажира. Девушка больше не смотрела на него. Она глядела прямо перед собой через ветровое стекло, и ему виден был ее профиль. Красавица. Блондинка с длинными волосами. Но бледная. Он попытался было вспомнить, где он встречал уже такие вот черты лица — полное спокойствие без всякого выражения. Спокойное лицо. Это верно. Но даже больше, чем спокойное, — бездушное. — Послушайте, мисс, — обратился он к ней. — Я не хочу вам навязываться, но должен же быть здесь кто-то, кто может сказать мне… Он взялся за ручку и открыл дверцу, и язык у него прилип к гортани, потому что тело девушки упало на него и вниз, мимо его расширившихся, пораженных смятением глаз наземь, ударившись об асфальт с громким, почти металлическим стуком. Он ошеломленно уставился на ее поднятое к небу лицо и только тут до него дошел смысл надписи на борту грузовика: «Резник. Манекены для витрин». Он снова взглянул на ее лицо — безжизненное, с деревянным выражением, с раскрашенными щеками и ртом, с застывшей полуулыбкой, с глазами, которые были широко открыты и молчали. С глазами, которые были не больше чем два пятна на лице куклы… До него дошел юмор положения. Он улыбнулся, почесал небритый свой подбородок, затем медленно опустился — спиной по борту грузовика, пока не сел на, асфальт рядом с поверженной девушкой, лежавшей, устремив незрячий свой взгляд в синее небо и на жаркий солнечный диск. Он легонько толкнул локтем ее твердую деревянную руку, подмигнул ей и прищелкнул языком: — Прости меня, детка, но у меня и в мыслях не было так с тобой поступить. Честно говоря… — он снова толкнул ее локтем, — меня всегда влекло к таким вот тихоням, как ты… — Он протянул руку, чтобы ущипнуть неподатливую щеку, и снова засмеялся: — Понимаешь, что я хочу сказать, а, детка? Он поднял куклу и бережно посадил ее в кабину грузовика, оправив ей юбку на коленях. Потом захлопнул дверцу, повернулся и сделал несколько бесцельных шагов в сторону. За сетчатыми воротами лежала кольцевая главная улица, окружавшая парк. Он подошел к решетке и снова осмотрел улицу из конца в конец, не пропустив ни одного магазинчика, глядя на все с той же сосредоточенностью, словно она все-таки могла помочь ему найти признаки жизни. Но улица лежала перед ним пустынная, в магазинчиках не было ни души, и ничто не нарушало мертвого молчания дня. Он обогнул грузовик, подошел к служебному входу в универсальный магазин и заглянул в темный холл, где штабелями, один на другом лежали обнаженные манекены. Вид их пробудил у него воспоминания о второй мировой войне, о фотографиях гор человеческих тел в газовых камерах гитлеровских концентрационных лагерей. Сходство больно ударило по нервам, и он поспешил снова выйти на грузовой двор. Уже оттуда он закричал в раскрытую дверь: — Эй! Есть там кто-нибудь? Вы слышите меня? Он снова подошел к грузовику и заглянул в кабину. В замке зажигания не было ключа. Он улыбнулся безжизненному лицу куклы: — Как насчет ключа, детка? Ты, конечно, не знаешь, где он, верно ведь? Кукла упрямо смотрела прямо перед собой через ветровое стекло… Именно в этот момент он услышал звук. Первый звук с тех пор, как он вышел ив придорожного ресторанчика. Сначала он даже не понял, что это такое. Звук не соотносился ни с чем, что уже было ему известно. Затем он вспомнил, что это такое. Звонил телефон. Он побежал к воротам, наткнулся на сетку, пальцы его судорожно схватились за проволочные ячейки, а глаза лихорадочно шарили по улице, пока он не увидел того, что искал. Это была застекленная будка телефона напротив, в нескольких метрах от парка. Телефон все еще звонил. Он вырвался из ворот и помчался через улицу. Задыхаясь, толкнул стеклянную дверь и едва не оторвал телефон, когда схватил трубку. Носком ноги он пнул дверь и она закрылась за ним. — Алло! Алло! — он в отчаянии затряс трубку. — Алло! Станция? Станция! Телефон молчал. Он помедлил, затем яростно швырнул трубку на рычаг. Вытащил из нагрудного кармана комбинезона десятицентовую монету, сунул ее в щель и подождал, И наконец, услышал первый человеческий голос — бесцветный, приторно вежливый голос телефонистки: — Номер, который вы набрали, — сказал голос, — в списке абонентов не значится. Теперь молодой человек рассердился. Он закричал в трубку: — Да вы что там все — с ума посходили? Я никакого номера не набирал!.. — Проверьте набираемый вами номер и, пожалуйста, аккуратнее поворачивайте диск… — Я не набирал номера, станция! Телефон зазвонил и я ответил… — он снова начал трясти трубку. — Станция! Послушайте меня, прошу вас! Мне только надо узнать, где это я? Вы меня поняли? Я просто хочу выяснить, где я и куда подевались люди… Станция, пожалуйста, послушайте… И снова раздался голос телефонистки — безличный, словно с другой планеты: — Номер, который вы набрали, в списке абонентов не значится. Проверьте набираемый вами номер и, пожалуйста, аккуратнее поворачивайте диск. — Наступила длинная пауза, и тот же голос сказал: — Это запись! Молодой человек медленно положил трубку. Вся тишина города за тонким стеклом будки навалилась теперь на него, и он почти с ужасом подумал о мертвом безмолвии над деревьями, крышами и мостовыми, безмолвии, которое только на миг было прервано словами: «Это запись!» Все, все было здесь записью. Звук, отпечатанный на воске. Образы на полотне. Декорации, расставленные по сцене. Все очень эффектно. Но вот голос — это уже просто грязная шутка… Ну ладно — неживые вещи, беспризорные кофейники, манекены, лавки; он мог посмотреть на них, подивиться и уйти. Но человеческий голос — ему до отчаяния хотелось, чтобы этот голос принадлежал живому человеку из плоти и крови. Это нечестно, что голос был сам по себе. Нарушенное обещание… Этот голос заронил зерно страха в его мозг и рассердил его. На цепи висела телефонная книжка. Он схватил ее, раскрыл, едва не разорвав, и начал пробегать глазами страницу за страницей. Имена рябили в глазах. Абель. Бейкер. Ботсфорд. Карстэйры. Кэйтеры. Сипида… — Так где же, где же вы, люди? — закричал он. — Где вы пропадаете? Где вы все живете? Только в этой паршивой книге? Снова он перелистал ее страницы. Демисен. Фарверы. Грэннигэны. И так далее — до человека по фамилии Зателли, который жил на Северной Передней улице и чье имя начиналось с буквы А… Молодой человек выронил книгу. Она закачалась на своей цепи. Медленно-медленно он поднял голову и уставился на пустую улицу. — Послушайте-ка, парни, — мягко сказал он. — А кто же присматривает за магазинами? — Стеклянные витрины молча глядели на него. — Кто присматривает за всеми этими магазинами?.. Он медленно повернулся, положил ладонь на ручку и толкнул дверь. Дверь не подалась. Он снова толкнул. Дверь даже не дрогнула. У него возникло чувство, что все, что происходит с ним, — это какой-то розыгрыш. Очень большой, сложный и ужасно несмешной розыгрыш. Он толкнул дверь еще сильнее, навалился на нее плечом, но она по-прежнему не сдвинулась ни на миллиметр. — Ну ладно! — закричал он. — Ладно! Это очень смешная шутка. Очень смешная! Я обожаю ваш городишко, Я обожаю чувство юмора! Но теперь это уже больше не смешно! Понимаете? Теперь это грязно! Какой это умник запер меня здесь?! — Он принялся пинать, толкать, выдавливать дверь, пока ручейки пота не побежали по его лицу. Он закрыл глаза и на минутку прислонился к стеклу передохнуть и вдруг, взглянув вниз, увидел, что дверные петли торчат в его сторону. Он тихонько потянул ручку, и дверь тотчас распахнулась — немного погнутая, но она распахнулась! Он толкал ее, вместо того чтобы потянуть на себя! Потянуть — и все. Он почувствовал, что ему следует либо засмеяться, либо извиниться перед чем-то или кем-то, но, само собой, извиняться здесь было не перед кем… Он ступил в ослепительный солнечный свет и пошел через парк к зданию, перед которым висел большой стеклянный шар с надписью: «Полиция». Он шел к зданию и улыбался. Держи курс на закон и порядок, подумал он. Больше даже, чем просто закон и порядок — здравомыслие! Может быть, здесь-то как раз он его и найдет. Если ребенку случится потеряться, мать всегда объяснит ему потом, что нужно подойти к доброму полисмену и назвать свое имя. Что ж, теперь он и есть ребенок, потерявшийся ребенок, и в мире не осталось больше никого, к кому он может обратиться. А что касается имени, то… кому-то придется сообщить это имя ему самому. В участке было сумрачно и прохладно, большая комната делилась пополам барьером, за которым стоял стол сержанта, стул, а у дальней стены — место радиста с микрофоном и ультракоротковолновым приемопередатчиком. Решетчатая дверь направо вела в блок камер. Через калиточку в середине барьера он прошел на другую половину к микрофону, взял его в руки, осмотрел, затем ни с того ни с сего, словно это требовалось от него — тоже принять участие во всем этом розыгрыше, сказал официальным «полицейским» голосом: — Вызываю все патрульные автомобили! Вызываю все патрульные автомобили! Неизвестный шатается вокруг участка! Чрезвычайно подозрительный парень. Возможно, хочет… — Голос его дрогнул: над столом сержанта к потолку лениво подымалась струйка дыма. Он медленно положил микрофон и подошел к столу. Большая, на четверть уже выкуренная сигара лежала в пепельнице и дымила. Он поднял ее, затем положил на место, испытывая напряжение, страх, ощущение, что кто-то постоянно подглядывает и подслушивает. Он даже резко обернулся, точно хотел застать кого-то за этим занятием. Комната была пуста. Он отворил решетчатую дверь — она громко заскрипела — и вошел в блок камер. Камер было восемь, по четыре с каждой стороны, и все они были пусты. Через решетку последней камеры с правой стороны виднелся умывальник. Из крана бежала вода. Горячая вода — он видел пар. На полочке над раковиной лежала бритва, вся в каплях воды, и кисточка для бритья, полная пены. Он на секунду прикрыл глаза, потому что это уже было слишком. Это уже было такое… Покажите мне домовых, подумал он, или привидения, или каких-нибудь чудовищ. Покажите мне мертвецов, вышагивающих, как на параде. Пусть резкие и дикие звуки похоронного рожка раздвинут эту мертвенную тишину утра, я не боюсь ничего, только перестаньте пугать меня преувеличенной естественностью вещей! Не подсовывайте мне сигарных окурков в пепельницах и воду, льющуюся из крана, и покрытые пеной кисточки для бритья! Они-то как раз способны потрясти человека больше, чем появление призрака… Он медленно вошел в камеру, приблизился к раковине умывальника, протянул дрожащую руку и дотронулся до пены на кисточке. Пена была настоящая. Теплая на ощупь. Она пахла мылом. Вода потихоньку лилась в раковину. На бритве была надпись: «Жиллет», и ему вспомнилась почему-то серия передач «Вокруг света» по телевидению и футболисты нью-йоркской команды «Гиганты», выигрывающие четыре — ноль у «Кливлендских Индейцев». Но боже мой, это было, должно быть, лет десять назад! А может быть, в прошлом году? Или, возможно, этого вообще еще не было? Потому что теперь у него не стало никакой базы для отсчета, никакой отправной точки, ни даты, ни времени, ни места, на которые он мог бы опереться… Он не услышал скрипа двери в камеру, которая медленно закрывалась за ним, до тех пор, пока не увидел на стене ее черную тень, приближающуюся сантиметр за сантиметром, медленно и неотвратимо. У него вырвалось рыдание, и он стремглав бросился к двери, успев протиснуться в остававшуюся щель, прежде чем дверь затворилась. Какую-то секунду он постоял, прислонившись к ней, переводя дыхание, затем, пятясь, отошел и оперся о решетку противоположной камеры, пристально глядя через неширокий коридор на закрытую и запертую на замок дверь, словно это было какое-то смертоносное животное. Что-то толкнуло его, что надо бежать. Бежать. Бежать, не жалея ног! Наружу! Быстро! Подальше отсюда! Словно кто-то нашептывал ему команду. Это слабеющий в неравной схватке мозг отдавал свой приказ сражаться — сражаться до последнего патрона! Мозг изнемогал от кошмара, от гнетущего его страха. Инстинкты молили о безопасности и спасении. Быстро, быстро отсюда! Беги! Беги! Беги! Он уже был снаружи, на солнце, мчался через улицу, споткнулся о кромку тротуара, исцарапался о живую изгородь, когда врезался в нее. Перебравшись через кусты, он кинулся дальше, в парк, и все бежал, бежал, бежал… Перед ним выросло школьное здание со скульптурой перед фронтоном. Инерция движения вынесла его на ступени постамента, и только здесь он пришел в себя, обнимая металлическую ногу какого-то застывшего в героической позе мужа науки, погибшего в 1911 году: бронзовый, он возвышался темным силуэтом на фоне яркого синего неба. Молодой человек заплакал. Он одним взглядом вобрал в себя все эти магазины, кинотеатр, наконец, статую и всю эту неимоверную тишину и закричал сквозь слезы: — Люди, где же вы? Пожалуйста, богом вас молю, скажите мне… люди, где вы?..
Было уже за полдень. Он сидел на кромке тротуара и смотрел на свою тень и на другие тени вокруг. Маркиза над витриной лавки, стойка с надписью: «Остановка автобуса», фонарный столб — все превращалось под солнцем в плоские бесформенные пятна, перечеркивающие тротуар. Он тяжело поднялся на ноги, бегло взглянул на стойку автобусной остановки и стал смотреть вдоль улицы, словно надеясь в глубине сердца и не веря самому себе, что вот сейчас подойдет огромный красный автобус, откроются его двери и толпа людей сразу заполнит пустынные тротуары. Люди. Вот кого ему хотелось увидеть. Людей, таких же, как он сам… Тишина росла и росла весь день. Она превратилась в сущность, в бытие, давила на него, стала настойчивой, горячей, похожей на душный комок шерсти, вызывающей зуд субстанцией, окружающей его со всех сторон, укрывшей его, и он потел, задыхался и корчился под этим пологом, мечтая только об одном — как бы сбросить его с себя и выбраться наружу. Он медленно двинулся вдоль главной улицы — в четырнадцатый или даже в пятнадцатый раз с утра. Он шагал мимо знакомых уже лавочек, заглядывая в знакомые двери, но все оставалось по-прежнему. Прилавки, товары — все пустынное, мертвое. В четвертый раз после полудня он завернул в банк и, тоже в четвертый раз, прошел в клетушки кассиров, пригоршнями расшвыривая деньги. В одно из таких посещений он прикурил сигарету от стодолларовой бумажки и хохотал, как сумасшедший, глядя на огонек, съедающий банкноту, пока, внезапно бросив ее, полусгоревшую, на пол, не почувствовал, что у него больше нет сил смеяться. Ну хорошо, такие времена настали, что парень может себе позволить спалить сто долларов на прикурку, — и что из этого?.. Он вышел из банка, пересек улицу и направился к аптеке. Надписи, приклеенные к стеклам витрины, объявляли распродажу «два на один» — любые две вещи на доллар. С другого конца улицы донесся голос церковных колоколов, звук больно хлестнул его по нервам: он распластался, раскинув руки, по стене аптеки, глядя безумными глазами в сторону, откуда доносился звон, пока до него не дошло, что это такое. Он вошел в аптеку. Внутри это была просторная квадратная комната, по всем четырем сторонам которой тянулась высокая стойка, а стены закрыты рядами полок со всевозможными стеклянными посудинами. В глубине был расположен большой, с зеркалом позади, прилавок для продажи газированной воды, весь заклеенный рекламами напитков. Он остановился возле табачного отдела, выбрал себе дорогую сигару, снял с нее чехольчик и понюхал. — Хорошая сигара — вот чего не хватает в этой стране, — заявил он вслух на пути к прилавку с газировкой. — Хорошей сигары… Парочки хороших сигар. И двоих людей, чтобы их выкурить… Он осторожно поместил сигару в нагрудный карман и зашел за прилавок. Оттуда он обвел взглядом все помещение, пустые будочки для прослушивания пластинок. И ощутил безмятежность этого места, совершенно несовместимую с его предназначением. Эта комната служила для того, чтобы в ней действовали: она почти готова была пробудиться, ожить, но это никак не получалось… Высокие контейнеры с мороженым стояли за прилавком. Он взял совок, а с полки возле зеркала снял стеклянное блюдце и положил в него две огромные порции. Облил мороженое сиропом, посыпал орехами, добавил вишенку и немного взбитых сливок. Потом поднял взгляд и спросил: — Ну, как — никто не хочет? Специальная воскресная— ну, кто храбрый? — Он помолчал и прислушался к мертвой тишине. — Никто, значит? Ладно… Он набрал полную ложку мороженого вместе с вишней и со сливками, положил все это в рот и едва глаза не зажмурил от удовольствия. В первый раз за все это время он увидел свое отражение в зеркале и нисколько не удивился. Лицо в зеркале было смутно знакомо; это не было лицо красавца, но и неприятным его тоже нельзя было назвать. И молодое, подумал он. Совсем молодое. Лицо человека, которому до тридцати еще жить да жить. Может быть, ему двадцать пять или двадцать шесть — никак не больше. Он внимательно рассматривал свое отражение. — Прости меня, старина, — обратился он к зеркалу, — но я никак не могу вспомнить твоего имени. Лицо вроде и знакомо, но имя — убей, не помню. Он набрал еще одну ложку, покатал мороженое на языке, пока оно не растаяло, проглотил, все время наблюдая за этими манипуляциями в зеркале, непринужденно сделал жест ложкой в сторону отражения: — Я расскажу тебе, в какую беду я влип. Меня мучает кошмар, а проснуться никак не могу. Ты его часть. И ты, и это мороженое, и вот эта сигара. Полицейский участок, и та будка с телефоном… и та кукла в кабине, — он опустил взгляд в блюдце с мороженым, потом обвел глазами аптеку и снова посмотрел на свое отражение. — Весь этот дурацкий городишко — где бы он ни был и чем бы он ни был… — он наклонил голову набок, припомнив внезапно что-то, и улыбнулся своему отражению: — Только что вспомнил одну штуку. Это Скрудж тогда сказал. Помнишь Скруджа, старого товарища Эбенезера Скруджа? Он это выложил привидению — Джекобу Марли: «Ты, может быть, и всего-то непереваренный желудком кусок мяса или капля горчицы. А то крошка сыра или кусочек сырой картофелины… Словом, от тебя не так отдает могилой, как подливой». Он положил теперь совок на стойку и отодвинул от себя блюдце с мороженым. — Понял? Вот и ты тоже такой. Вы все такие. Ты — то, чем я вчера поужинал. — Улыбка исчезла с его лица. Что-то напряженное пробилось и в голосе: — Но теперь я понял. Понял! Я хочу проснуться! — Он повернулся от зеркала к комнате, к пустым будкам для прослушивания записей. — Если уж я не могу проснуться, то тогда надо найти кого-то, с кем можно поговорить. Уж это-то я просто обязан сделать. Надо найти кого-то, с кем я смогу поговорить!.. Только тут он обратил внимание на картонку, стоящую на прилавке. Это был календарный план баскетбольных игр команды карсвиллской средней школы, объявлявший, что 15 сентября состоится матч между карсвиллцами и школьной командой из Коринфа. 21 сентября Карсвилл должен был играть с Лидевиллом. В декабре должны были состояться игры с командами еще шести или семи школ — все это объявлялось вполне официально на большом листе картона. — Я, должно быть, парень с богатым воображением, — произнес молодой человек. — С очень, очень богатым воображением. Все до последней мелочи продумываю. До последней мелочи… Он вышел из-за стойки с газировкой и, перейдя комнату, очутился возле нескольких вращающихся этажерок с карманными изданиями. Здесь все больше были книги про убийства, представленные на обложках полуголыми блондинками, с такими заголовками, как, например, «Смерть приходит в публичный дом», рядом стояли дешевые перепечатки известных детективов и книг ужасов. Какая-то поделка под названием «Безумней некуда», с обложки ее улыбалась рожа полуидиота и крупно была выведена рекламная фраза: «Альфред Нойман говорит: «Чего еще! Буду я ломать голову!..»» Некоторые книги были как будто знакомы. Огоньками узнавания вспыхивали в его мозгу отрывки сюжетов, имена и характеры действующих лиц. Проходя мимо этажерок, он рассеянно крутнул одну. Она заскрипела, повернулась, и заголовки, рисунки, обложки пестрым калейдоскопом замелькали перед глазами, пока он не увидел книжку, которая заставила его обеими руками схватиться за полку, чтобы остановить ее вращение.

На обложке этой книги была изображена пустыня без конца и края, в самом центре которой, подавленная окружающим пространством, виднелась крохотная человеческая фигурка: воздев руки в мольбе, человек смотрел в небо. На горизонте едва прорисовывалась низкая горная гряда, а из-за вершин словно бы всходила единственная строчка заголовка — «Последний человек на Земле». Он глаз не мог оторвать от этой фразы, чувствуя, как изображение сливается с чем-то в его мозгу. «Последний человек на Земле». Был в этих словах какой-то особенный смысл — что-то необыкновенно важное, что-то такое, что внезапно заставило его задохнуться и крутнуть полку так, что странное название немедленно унеслось с глаз долой по пестрой, разноцветной орбите. Но когда витрина замедлила свое вращение, обложка снова очутилась перед его глазами, отчетливая и яркая, и только теперь он понял, что их полным-полно здесь, книг с этим названием. Множество книг про последнего человека на Земле. Ряд за — рядом стояли крошечные фигурки людей с простертыми руками, вокруг каждого из них расстилалась пустыня, и каждая обложка успевала сказать об этом молодому человеку, по мере того как витрина вращалась все медленнее и медленнее и, наконец, остановилась совсем. Он, пятясь, отошел от книг, не в силах оторвать от них взгляда, и все так же, пятясь, дошел до входной двери, где мельком увидел свое отражение в зеркале — на него смотрел парень с побелевшим лицом, стоящий в проеме входа в аптеку, — усталый, одинокий, отчаявшийся и испуганный. Он вышел, приходя понемногу в себя, хотя и тело и мозг все еще не могли успокоиться. Дойдя до середины мостовой, он остановился и стал оглядываться, оглядываться, поворачиваясь во все стороны, поворачиваясь, поворачиваясь… Внезапно он закричал: — Эй? Эй! Эй, кто-нибудь?.. Кто-нибудь видит меня?.. Слышит меня? Эй! Почти тотчас пришел ответ. Басовые, мелодичные голоса церковных колоколов поведали ему, что время катится к вечеру. Пять раз прозвонили они и смолкли. Эхо еще звучало недолго, но потом и оно затихло. Молодой человек снова побрел по улице мимо знакомых магазинчиков, не замечая их. Глаза его были широко раскрыты, но он ничего не видел. Он все думал и думал о названии книги — «Последний человек на Земле»; с ним происходило что-то непонятное. Ощущение было такое, словно, вызывая тошноту, по пищеводу проходил непрожеванный кусок, холодный и тяжелый, как свинец. «Последний человек на Земле». Рисунок и слова с пугающей ясностью отпечатались в его сознании. Ничтожная фигурка, одиноко стоящая среди пустыни с простертыми руками. Едва различимая, одинокая фигурка, чья судьба огромными буквами написана на небе, по вершинам гор — последний человек на Земле… Он шел к парку и все не мог избавиться от наваждения рисунка и слов. Солнце выглядело бледнее и словно отдалилось, оно уже направлялось на покой, но он не замечал этого…
Наступила ночь. Он сидел на скамейке в парке, неподалеку от скульптуры, перед фасадом школы. Палочкой на песке он сам с собой играл в крестики и нолики, выигрывая игру за игрой и затирая каждую победу подошвой ботинка, чтобы начать сызнова. В небольшом ресторанчике еще раньше, вечером, он сварганил себе сандвич. Потом обошел залы универсального магазина и магазина Вулворта, где все продавалось не дороже пяти долларов десяти центов. Он побывал в школе, прошелся по пустым классам и с трудом подавил в себе желание написать на доске неприличное слово. Все что угодно — только бы встряхнуть это болото, расшевелить его, бросить ему вызов. Все что угодно — лишь бы сорвать этот фасад реальности. Он был убежден, что это только фасад. Он твердо верил, что это всего-навсего тонкий покров над ненастоящим, оболочка сна; о, если бы он был в состоянии сорвать эту шелуху и обнаружить, что же там, под ней! — но это было ему неподвластно. Отблеск света упал ему на руку. Пораженный, он поднял взгляд. Уличные фонари зажигались целыми шпалерами, вслед за ними стали вспыхивать и фонари в парке. Один за другим загорались огни по всему городу. Фонари. Витрины — магазинов. Потом ярко замигала реклама над входом в кинотеатр. Он поднялся со скамьи и, подойдя к кинотеатру, остановился около автоматической кассы. Из щели торчал билет. Он сунул его в нагрудный карман и уже хотел было пройти внутрь, когда увидел рекламный плакат фильма, идущего сегодня вечером. На плакате крупным планом лицо летчика военно-воздушных сил, профиль, обращенный к небу, где неслось звено реактивных самолетов. Молодой человек сделал шаг к плакату. Медленно и как бы сами по себе его пальцы тронули комбинезон, который был на нем, и постепенно между ним и летчиком на плакате стал вырастать мост; они были одинаково одеты. Комбинезоны невозможно было отличить. Он заволновался, и усталость как рукой сняло; он испытывал подъем, граничащий с ликованием. Он протянул руку и потрогал плакат. Затем быстро обернулся, окинул взглядом пустынную улицу и сказал вслух; — Я из военно-воздушных сил! Это совершенно точно. Я из военно-воздушных сил. Я из военно-воздушных сил… Все правильно! Я вспомнил. Ниточка от всего этого безумия, этого запутанного клубка была слишком тонка, но все-таки это было уже что-то и, ухватившись за нее, он мог анализировать. Путеводная нить. Первая. Единственная. — Я в военно-воздушных силах! — кричал он, входя в кинотеатр. — Я в военно-воздушных силах! — Его голос гулко звучал в пустом вестибюле. — Эй, кто-нибудь, все вы, любой из вас — слышите? Я из военно-воздушных сил!.. Он продолжал кричать и в зале, слова взрывали тишину, метались над бесконечными рядами пустых кресел, разбиваясь о гигантский белый, застывший экран. Он опустился в одно из кресел, испарина покрывала все его тело. Полез за платком, вытащил его, отер лицо. Отросшая щетина на подбородке кололась, но это был вздор, пустяк по сравнению с той тысячью дверей в его подсознании, которые, казалось, вот-вот должны были распахнуться настежь. — Военно-воздушные силы, — теперь уже спокойно твердил он, — военно-воздушные силы. Что же это такое? Что же это такое — военно-воздушные силы? — Он вскинул голову. — Может быть, была бомба? Может, это самое и есть? Должно быть, так оно и было. Бомба… — он замолчал, качая головой. — Но если бомба, то все было бы разрушено. А ведь все целехонько. Как же это могло случиться, что… Огни в зале померкли, и сильный конус света откуда-то сзади, из будки механиков, внезапно рванулся над креслами и уперся в белый экран. Грянула музыка — громкая, трубная военная музыка, и на экране по взлетно-посадочной полосе понесся, набирая скорость, и с ревом взмыл над его головой бомбардировщик «В-52». Их было еще несколько штук, этих «В-52», и теперь все они плыли в воздухе, целое звено, оставляя за собой широкие шлейфы инверсионного следа… Молодой человек вскочил, не веря своим глазам: да, луч света начинался в маленьком мигающем окошечке высоко над балконом. — Эй! — закричал он что было сил. — Кто там крутит картину? Ведь должен же кто-то крутить эту проклятую картину! Эй! Вы видите меня? Я здесь, внизу! Эй, кто бы там ее ни показывал, посмотрите, — я здесь, внизу! Он сломя голову рванулся вверх по проходу, выбежал в вестибюль и помчался по лестницам на балкон. Спотыкаясь в темных рядах, он несколько раз упал и, наконец, полез прямо через спинки кресел, прыгая с одного сиденья на другое, полез к маленькому яркому окошку в задней стене. Он прижал к нему лицо, уставившись прямо в нестерпимо белое сияние. Свет отбросил его назад, задыхающегося, мгновенно ослепшего. Когда зрение снова вернулось, он заметил в стене еще одно окошко, повыше первого. Он подпрыгнул и успел окинуть взглядом пустую комнату, гигантские проекторы и сложенные аккуратными столбиками коробки с лентой. До него смутно доносились голоса с экрана, громкие голоса великанов, их звуки наполняли зал кинотеатра. Он снова подпрыгнул, чтобы заглянуть в будку, и в короткое мгновение неравной схватки с земным притяжением опять увидел пустую комнату, плавно работающий аппарат, расслышал даже его мягкий гул, доносящийся сюда черезстекло окошка. Но, стоя на полу, он уже знал, что там никого нет. Проектор работал сам. Картина сама себя показывала. Здесь тоже все было, как в городе. Машины, вещи — все были сами по себе. Он подался назад, ударился о спинку последнего ряда, потерял равновесие и свалился вниз головой на пол… Один за другим на экране сменялись кадры, и конус света менял свою интенсивность. Прозвучал диалог, потом заиграла музыка и гулко разнеслась по всему залу. Голоса великанов. Рев оркестра в миллион труб. И что-то в молодом человеке сломалось. Заповедное отделение в далекой глубине мозга, куда человек прячет свои страхи, где он держит их подавленными, контролирует их и приказывает им, это отделение взорвалось и страх хлынул в мозг, затопил нервы и мускулы, кошмар вырвался наружу в открытом неповиновении. Он с трудом поднялся на ноги, задыхаясь, перемежая рыдания криками. Побежал вниз, миновал балконную дверь и помчался по лестнице в вестибюль. Он был уже на последней ступеньке, когда увидел того, другого. Какой-то человек приближался к нему как раз с противоположной стороны вестибюля по лестнице, которой он прежде не заметил. Он даже не разглядел его как следует, да и не пытался. Он просто рванулся к нему, туманно осознав, что и тот, другой тоже бросился ему навстречу. В те короткие мгновения, которые потребовались, чтобы пересечь вестибюль, в нем жила только одна мысль: добежать до этого другого, притронуться к нему, удержать его. Следовать за ним, куда бы тот ни шел! Из этого здания, подальше от этих улиц, прочь из города, потому что теперь он уже твердо знал — ему нужно поскорее убираться отсюда. Именно эта мысль звенела в его мозгу, когда он врезался в зеркало — зеркало во всю стену, что висело напротив лестницы. Он ударился о стекло со всей силой своих шестидесяти восьми килограммов, помноженных на инерцию безумного бега. Казалось, будто зеркало разорвалось на тысячу серебряных брызг. Он очнулся на полу и, подняв взгляд, увидел кусочки своего отражения в маленьких осколках, которые еще держались в раме. Целая, должно быть, сотня молодых людей отражалась в этих жалких осколках, и все они, порезанные и оглушенные, лежали на полу вестибюля, тупо глядя на остатки зеркала. Он неловко поднялся и, шатаясь как пьяный, вывалился на улицу.

На улице было темно и мглисто: мокрые мостовые блестели. Фонари, словно обернуты белесой ватой тумана, и каждый из них походил на бледную луну, висящую среди испарений. Он неловко побежал — сначала по тротуарам, потом наискосок через улицу. Споткнувшись о рейки стоянки для велосипедов, он упал лицом на асфальт, но тотчас же снова вскочил, продолжая свой безумный и бесцельный, отчаянный бег по прямой, бег в никуда. Около аптеки он снова споткнулся, на этот раз о кромку тротуара, и опять упал плашмя, и на мгновение ему пришла в голову посторонняя мысль — он, оказывается, еще может ощущать боль, ослепляющую, острую боль. Но мысль мелькнула и пропала. Он ладонями оттолкнулся от тротуара, с усилием поднялся и затем упал, перевернувшись на спину. С минуту он лежал так, сомкнув веки. Затем открыл глава. Кошмар стучался в его голову и настойчиво спрашивал позволения войти, льдины плыли над его телом. Он закричал: на него смотрел глаз. Гигантский глаз, размером больше, чем вся верхняя часть человеческого тела. Немигающий, холодный глаз пялился на него, и даже безумный крик не мор закрыть этот глаз, даже когда, барахтаясь в темноте, он снова поднялся на ноги и побежал в обратном направлении, к парку. Он весь был как звук сирены, принявший человеческий облик и теперь исчезающий во тьме. Вслед ему все смотрел и смотрел большой раскрашенный глаз с витрины магазина оптики — холодный, нечеловеческий, немигающий. Он опять упал, успев на этот раз схватиться за фонарный столб. На столбе его пальцы нащупали какую-то панель с кнопкой, нащупали, ухватились за нее и начали нажимать кнопку, снова и снова. Над панелью была надпись: «Для включения зеленого — нажать»[30]. Он не видел этой надписи. И знал одно — он должен нажимать кнопку, и он делал это, в то время как светофор над перекрестком вспыхивал красным, желтым, зеленым — и опять, и опять, повинуясь окровавленным пальцам молодого человека, который все давил и давил на кнопку и стонал почти шепотом, едва слышно, снова и снова: — Пожалуйста… пожалуйста… кто-нибудь… помогите мне… Помогите мне, кто-нибудь., пожалуйста., пожалуйста… О, господи, боже мой… кто-нибудь… помогите мне! Разве никто не поможет мне… Разве никто не придет… Кто-нибудь слышит меня?..
Контрольная комната была погружена во тьму, и фигуры мужчин в военной форме проглядывались только силуэтами в тусклом свете, идущем от небольшого экрана, на котором было видно лицо и верхняя часть туловища сержанта Майка Ферриса, совсем еще молодого человека в комбинезоне; он все нажимал и нажимал кнопку в правой части экрана. Голос Ферриса раздавался в темноте контрольной комнаты, взывая о помощи, упрашивая послушать его, показаться ему. Это был всхлипывающий, умоляющий, просительный голос человека, который уже не владел собой; его то понижающуюся, то повышающуюся интонацию было почему-то неловко слушать — должно быть, так же неловко подслушивать под дверью, прижав ухо к замочной скважине. Бригадный генерал поднялся со стула. Скованное напряжением лицо его выдавало утомительные часы продолжительной сосредоточенности. По глазам было видно, что он, вне всякого сомнения, встревожен состоянием человека на экране. Тем не менее, когда он отдал команду, собственный его голос звучал твердо и начальственно: — Прекрасно! Отметьте время и извлекайте его оттуда! Полковник, сидевший справа от генерала, протянул руку, нажал кнопку и проговорил в укрепленный на консоли микрофон: — Немедленно прекратить эксперимент! Внутри просторного, с высоким потолком ангара несколько человек, словно пружиной подброшенные, побежали к прямоугольному металлическому контейнеру, который скучно стоял в самом центре помещения. Распахнулись стальные двери. Два унтер-офицера в сопровождении врача в форме офицера ВВС быстро прошли внутрь. Они осторожно сняли с тела сержанта Ферриса провода и электроды. Руки доктора пробежались по запястью лежащего перед ним человека, затем он поднял веки сержанта и заглянул в расширенные зрачки. Приложив ухо к груди Майка, он прислушался к гулкому биению утомленного сердца. Затем Ферриса осторожно подняли с его ложа и переложили на носилки. Доктор подошел к генералу, который, стоя в окружении своей свиты, неотрывно смотрел через пространство ангара на тело, распростертое на носилках. — С ним все в порядке, сэр, — сказал доктор. — Сознание несколько затуманено, но реакции уже нормальные. Генерал кивнул: — Могу я его видеть? Врач ответил молчаливым наклоном головы, и восемь человек в форме двинулись через ангар к носилкам, звонко клацая подковками ботинок по бетону пола. У каждого на левом плече была нашивка, удостоверяющая, что ее владелец — сотрудник Управления космических исследований ВВС США. Они подошли к носилкам, и генерал наклонился, чтобы заглянуть в лицо сержанту. Глаза Ферриса были уже открыты. Он повернул голову — посмотреть на генерала, и улыбнулся едва заметной улыбкой. Изнуренный, бледный, небритый. Страдание, обособленность, невзгоды долгих часов одиночного заключения в металлическом ящике наложили отпечаток на его лицо и на выражение глаз. Генералу был знаком этот взгляд — хотя он и не знал Ферриса, — неизменно он появлялся у каждого раненого, когда проходил шок. Он не был знаком с Феррисом лично, если не считать тех шестидесяти страниц на машинке из досье на этого человека, которые он пристальнейшим образом изучил перед экспериментом. Но теперь он понял, что знает сержанта. Около двух недель он наблюдал его на маленьком экране, почти вплотную, много ближе, чем кому-либо когда-нибудь приходилось наблюдать человеческое существо в таком состоянии. Генерал наказал себе не забыть, что сержанту следует дать за это медаль. Он перенес такое, чего не выпадало на долю еще ни одному человеку. Двести восемьдесят четыре часа он находился в одиночестве — учебный полет на Луну, включавший почти все психологические ситуации, с которыми может встретиться в таком полете человек, в точности воспроизведенные в металлическом ящике размерами два метра на полтора. Провода и электроды показали полную картину того, каково будет физическое состояние космического путешественника. С их помощью были зафиксированы его дыхание, деятельность сердца, кровяное давление. Помимо этого, что было самым важным, они дали детальное представление о том, где находится та грань, за которой ломается человеческое «я», грань, где человек уступает одиночеству и пытается вырваться из него. Именно в этот момент сержант Майк Феррис и нажал кнопку внутри своей тесной металлической камеры. Принужденная улыбка появилась на лице генерала, когда он наклонился над носилками. — Как дела, сержант? — осведомился он. — Чувствуете себя лучше? — Много лучше, сэр, — кивнул Феррис. — Благодарю вас, сэр. После небольшой паузы генерал снова обратился к нему: — Феррис, — сказал он, — на что это было похоже? Где вы, по-вашему, были? Прежде чем ответить, сержант некоторое время размышлял, глядя в высокий потолок ангара. — В городе, сэр, — тихо ответил он. — В городе без людей… там никого не было, никого. Я не хотел бы снова туда вернуться. — Он повернул голову к генералу: — Что со мной стряслось, сэр? Умопомрачение — или что? Генерал кивнул доктору. — Просто своего рода бред, зародившийся в вашем же мозгу, сержант, — мягко проговорил тот. — Понимаете, мы можем кормить человека концентрированной пищей. Мы умеем обогащать его кровь кислородом и выводить из организма шлаки. Мы можем снабдить его книжками, чтобы он мог отдохнуть, и в то же время, чтобы занять его мозг… В полном молчании собравшиеся вокруг носилок слушали доктора. — …Но есть одна потребность, которую мы не научились удовлетворять искусственным путем, — продолжал тот. — А это одна из самых основных потребностей человека. Голод по общению с себе подобными. Барьер, который мы пока еще не знаем, как преодолеть. Барьер одиночества… Четверо санитаров подняли носилки с Феррисом и двинулись к гигантским воротам в противоположной стене пустого ангара. Затем его вынесли в ночь, где уже ждала машина скорой помощи. Феррис взглянул вверх, на огромный диск Луны и подумал про себя, что в следующий раз все будет по-настоящему. Уже не ящик в ангаре, а… Но он слишком устал, чтобы продолжить эту мысль. Санитары осторожно подняли носилки и уже вдвигали их в машину, когда Феррис совершенно случайно дотронулся до своего нагрудного кармана. Пальцы нащупали под — тканью какой-то твердый предмет, и он вытащил его. Дверцы скорой помощи закрылись: тишина и полумрак сомкнулись над ним. Феррис услышал, как завелся мотор, почувствовал, как пришли в движение колеса машины, но он слишком устал, чтобы анализировать — что же это такое держали его пальцы на расстоянии вытянутой руки от глаз. Просто билет в кино — только и всего. Билет в маленький кинотеатр в пустом городе. Звук мотора скорой помощи усыплял, мягко бегущие колеса заставили его закрыть глаза, но билет он крепко зажал в кулаке. Утром ему придется задать себе несколько вопросов. Утром он соберет вместе несколько разрозненных кусков невероятного сна и действительности. Но все это будет утром. Сейчас Майк Феррис чувствовал себя слишком усталым.
Об авторе Род Серлинг, по мнению американских литературоведов, входит в первый десяток наиболее популярных писателей-фантастов США — вместе с Брэдбери, Шекли, Азимовым, Воннегутом. В основе столь высокой оценки лежит, естественно, в первую очередь литературное мастерство, богатейшее воображение и четкая гражданская позиция писателя, выступающего против засилья военно-промышленного комплекса США и против агрессии в Индокитае. Популярность его среди молодого поколения Америки подкрепляется еще и тем, что вот уже не первый год Р. Серлинг ведет регулярную телевизионную передачу «Истории Сумеречной Зоны» — по мотивам своих научно-фантастических рассказов. Советскому читателю Род Серлинг известен только по двум рассказам — «Можно дойти пешком» (журнал «Искатель» № б, 1968 г.) и «Когда спящие пробуждаются» («Смена» № 3, 1970 г.). Р. Серлингу 46 лет, он сражался в рядах армии США в Европе во время второй мировой войны. Писатель живет постоянно в Калифорнии.
Гюнтер Крупкат
ОСТРОВ СТРАХА

Фантастический рассказ Перевод с немецкого Ю. Новикова Рис. А. Соколова
Я отнюдь не был в восторге от миссии, возложенной на меня Всемирным Исследовательским Советом. От имени высочайшего научного гремиума я должен был запретить профессору Деменсу его дальнейшие опыты с аутогонами. Конечно, его могли бы известить о решении по видеофону, если бы… Вот именно, если бы! С этого все и началось. Ни один из способов установить связь с профессором не достиг цели. Никто не знал, что с ним произошло и жив ли он вообще. С некоторых пор о Деменсе и его эксперименте, которому с упорством одержимого он посвятил себя целиком, стали ходить странные слухи. Поговаривали, что якобы в Деменсии, выбранной им лично резервации, что-то не все в порядке, что жителям окрестностей докучают аутогоны. Так я оказался на пути в Деменсию, и теперь мы летели на малой высоте над западно-австралийским побережьем. Полет на гравиплане поистине чудесен. Машина мчится беззвучно, ей не страшны порывы ветра. Она парит, подымается и опускается, как облачко в тихом летнем небе. В глубь суши тянется скрэб — дикие заросли акации и эвкалиптов. Временами среди зарослей виднеются пересохшие русла рек. Куда ни глянь, ничего живого — ни человека, ни зверя. Внезапно посреди этого пыльно-зеленого растительного ковра выросла гряда известняковых скал. Издали она была похожа на груду белых костей. Среди высохшего кустарника виднелось приземистое полуразрушенное здание. Земля вокруг него усеяна обломками. И это все, что осталось от Деменсии? Дальше к югу на берегу реки обозначилось большое ржаво-коричневое пятно. Это бокситовые рудники, единственное, кроме Деменсии, обитаемое место на многие мили вокруг. Я попросил посадить гравиплан именно там. Едва машина приземлилась, как нам навстречу ринулся какой-то человек. — Что вам надо? — накинулся он на меня. — Может, вы еще привезли этих дьявольских штучек? Выражение моего лица отчетливо говорило, что он обратился не по адресу. Человек сразу изменил тон. — Я здесь главный инженер. Простите за грубость. Но я по горло сыт этими чудовищами. С меня хватит! — Меня зовут Гуман, уполномоченный Всемирного Исследовательского Совета. Расскажите, что здесь происходит? — Могу вам сказать, что творятся более чем странные вещи. — Инженер вытер лоб. Было тридцать пять Цельсия в тени. — Поначалу мы не очень ощущали соседство этого сумасшедшего профессора с его опытами. Но несколько недель назад появились эти… эти ауто… — Аутогоны. Киберы первого порядка. — Пусть так. Короче, они появились вблизи рудников и стали рыскать повсюду. Однажды утром я заметил, что не хватает трех сервороботов. В следующую ночь пропало пять. И пошло. На рудниках работало двести служебных роботов. Это специально запрограммированные, исключительно надежные автоматы. За последнее время я лишился пятидесяти! Все дальнейшее производство под вопросом. Мне не хотят больше доставлять пополнение. — А что все-таки случилось с этими пятьюдесятью? Их переманили? — Какое там! Проклятые бестии из Деменсии выкрали их, раскололи, как орехи, и вытащили все, что им было нужно. Мое терпение лопнуло. В конце концов пусть этот проклятый Деменс держит своих аутогонов на привязи. Кроме того, он должен ответить за убытки. Но посланные мной люди не дошли до Деменса. Чудовища преградили им дорогу. Между тем разбой продолжался. Мне ничего не оставалось, как прибегнуть к самообороне. Мы подкараулили банду и с ходу обстреляли ее из нейтринных пистолетов. Думаете, это что-нибудь дало? Ничуть! Наоборот, парни стали агрессивнее, и мы проиграли. Ведь у них реакция быстрее, чем у людей… С тех пор мы больше не уверены в своей безопасности. Одного из нас эти чудовища хотели распотрошить, как робота. Ужасно, скажу вам! Вы же знаете, что сохранение жизни каждого человека, каждого живого существа есть высшая заповедь. Но такой одичавший монстр может просто не обратить внимания на подобную мелочь. Нет, этому не бывать! Деменс ответит за все! Инженер производил впечатление вспыльчивого человека, способного к преувеличениям. Но не приходилось сомневаться и в разбойничьих выходках аутогонов. Вероятно, все дело здесь было в ошибке при программировании. — Деменс даже после этих инцидентов ничего не давал о себе знать? — спросил я. — Ни разу, — заверил инженер. — А вы уверены, что он вообще еще там, наверху? Кажется, его собственные создания загнали профессора ко всем чертям. И это не удивительно после того, что мы пережили. Я вспомнил опустошенный дом на вершине хребта, и меня охватило предчувствие беды. — Мы позаботимся о профессоре, — сказал я, — и проследим, чтобы аутогоны больше не причиняли вам вред. — Вы действительно собираетесь в Деменсию?! — Разумеется. Мне это поручено. Гравиплан оторвался от земли и взял курс на север. Нужно было еще раз облететь резервацию, чтобы разыскать убежище профессора. Я не думал, что он обосновался в руинах, и хотел наткнуться на него, избежав встречи с бродячими аутогонами. Если уж они нападали на обычных роботов, можно не сомневаться, что их заинтересует и наш гравиплан. А это никак не входило в мои расчеты. Итак, у меня были все основания для беспокойства, и не только после разговора с инженером. Я хорошо знал Илифоруса Деменса. Мы не раз ожесточенно спорили друг с другом. Он имел три докторские степени и ни одной гонорис кауза. Физиолог поначалу, Деменс стал впоследствии инженером-механиком, потом учился на факультете кибернетики. Бесспорно, он был умен, но странен и полностью находился в плену идей, характерных для так называемых механистов. Их представления о мире сверхразумных роботов попросту абсурдны. Механисты считали, что человек лишь временно высшая форма живой материи и сам, как биологический автомат, согласно неизменяемым законам эволюции, создаст мир идеальных машин, чтобы затем исчезнуть как разновидность рода. Ложный, бессмысленный и опасный вывод, против которого я, где только мог, решительно выступал. И возможно, мои споры с Деменсом побудили его на проведение в жизнь своих опасных замыслов. Однажды он исчез. Никто не знал, где он. А я тотчас предположил, что старый упрямец намеревается доказать справедливость своей теории, не думая о том, что этим доставит, возможно, величайшие хлопоты и нам, и самому себе. Когда начали просачиваться слухи о его эксперименте, я рекомендовал Исследовательскому Совету тотчас же вмешаться. Но там сослались на свободу науки и решили подождать. …Гравиплан парил над Деменсией. Мы пытались увидеть аутогонов, но тщетно. Следов присутствия Деменса тоже не было. Мы долго кружили над домом. Ни малейшего признака жизни. Это запустение подавляло, и я все еще медлил с посадкой, боясь угодить в западню. Аутогоны как высокоразвитые киберы способны на любую хитрость, чтобы заполучить предполагаемого врага. Но где мог быть Деменс? Неужели он действительно покинул область эксперимента? Это невероятно. Деменс не из тех, кто отказывается от того, что затеяно. Наша машина спустилась еще ниже. Солнце уже клонилось к горизонту, тени стали длиннее. Необходимо отыскать Деменса до наступления темноты, ведь привлекать внимание аутогонов светом прожектора было бы неразумно и опасно. Под нами, увеличиваясь в размерах, проплывала плоская вершина скалы с отвесно падающими стенками. Мы уже не раз летали над этим местом, но не так низко. Вдруг мы увидели человека, возбужденно подававшего нам какие-то знаки. Это мог быть только Деменс. На вершине хватало места для посадки. Когда мы сели, Деменс, шатаясь, направился к гравиплану. Он никогда не был представительным мужчиной, но сейчас походил на опустившегося, изможденного старика. Выцветшие спутанные волосы свисали на заострившееся лицо, изорванный грязный костюм по цвету почти не отличался от известняка. Под распахнутой рубашкой была видна натянувшаяся на ребрах загорелая кожа. Неизменным оставался только фанатический блеск его глаз, чуть померкший в тот момент, когда он увидел меня, своего старого противника. Он не приветствовал нас как спасителей словами радости и благодарности, чего следовало бы ожидать в его положении, а воскликнул торжествующе: — Эксперимент удался, Туман! — Мне тоже так показалось, — ответил я сдержанно. — Где вы, собственно, обитаете? Он кивнул на плоскую выемку в скале. Там из нескольких слоев жесткого хвороста было устроено ложе, над которым возвышался навес от солнца, сооруженный из брезента и колючих веток. — Да, мой милый, все прошло именно так, как я предусмотрел. Я расскажу вам о ходе эксперимента с самого начала. Но прежде один вопрос: нет ли у вас случайно чего-нибудь съестного? Я пригласил его в кабину и стал угощать всем, чем была богата наша бортовая кухня. Он проглатывал это, забыв о необходимости пережевывать пищу. Я терпеливо ждал. — Когда вы в последний раз ели что-нибудь существенное, Деменс? — Восемь дней назад. — Он вытер губы тыльной стороной ладони. — А потом только кору эвкалиптов. Знаете, это надолго отбивает вкус. К счастью, у меня еще было немного питьевой воды. — А чем бы закончился для вас этот грандиозный эксперимент, если бы мы не прилетели? Глаза Деменса заметали искры. — Вы опять хотите спорить? Это нечестная игра. В настоящее время я не в наилучшей форме. Я отчетливо видел, что его хладнокровие было деланным, что его обуял страх, буквально панический ужас. — Оставим эту комедию, Деменс, — сказал я. — Состояние ваших дел у всех на виду. Профессор отодвинул в сторону остатки еды. — А что? Я доволен. — Довольны, что доказали неизбежность гибели как Илифоруса Деменса в частности, так и гомо сапиенс в целом? — Да, если хотите. Мои аутогоны нанесли мне полное поражение. Если бы вас сейчас здесь не было, у меня оставалась бы альтернатива умереть от голода на этой скале или до скончания века подчиняться аутогонам. И если они схватят ваш чудесный гравиплан, вы окажетесь в той же ловушке, что и я. — Непонятно. Видимо, налицо какая-то ошибка в контактах. — «В контактах»! — Деменс язвительно засмеялся. — Вы рассуждаете как дилетант, Гуман. Тут цепная реакция, которая, будучи однажды высвобожденной, уже не поддается сдерживанию. — Сколько аутогонов в вашей резервации? — Около сорока. — Вам бы полагалось знать точное количество. — Я потерял контроль. Они репродуцируются невероятно быстро. Это уже их второе поколение. — Когда же? Ведь вы только полгода в Деменсии… — Однако это так. Я пришел с тридцатью сервоавтоматами и с их помощью построил лабораторию. — Те развалины? — Сейчас все разнесено вдребезги, вы правы. Поблизости от нее был устроен склад. Я доставил туда много сырья, отдельных узлов и заготовок. Большие запасы материала находились наготове за океаном. Я еще не знал, когда и буду ли вообще использовать эти резервы. Мой план был эластичным, рассчитанным на разные возможности. — А почему вы выбрали именно эту местность? — О, это совсем не просто — отыскать клочок земли, уединенный настолько, насколько мне было необходимо. Этот горный хребет больше всего соответствовал моим требованиям. Он окружен скрэбом, побег через который по меньшей мере затруднен. Кроме того, как вы знаете, кибер охотнее подымается в гору, нежели спускается с нее. И наконец, море находится отсюда достаточно далеко. Мои аутогоны способны жить и в воде. Большое преимущество, но, если они улизнут под воду, их уже ни один дьявол не поймает. Я не теряя времени принялся за работу, и через неделю первый аутогон был готов. Цилиндровый тип из поли-си лита. Отличный материал, выдерживает разницу температур в четыреста градусов. Очень вам рекомендую. Механизм аккумуляции — накопитель опыта — занимает верхнюю треть цилиндра. Все это я рассчитал еще дома. Емкость двадцать миллиардов бит! — Но это количество единиц информации соответствует разве что знаниям семнадцатилетнего юноши… — Мой дорогой Туман, аккумулятивный механизм у человека… — Память! — Что? Ах, да. Человеческая память сама по себе сконструирована очень хорошо. Но функциональная способность — увы! Уверяю вас, трехступенчатый искусственный мозг в продолжительном режиме работы много надежнее. В нем ничего не забывается. Все, что важно, остается. Во всяком случае я был очень горд своим аутогоном. Антей, так я его назвал, действовал безупречно. В первые дни он изучал окрестности и накапливал опыт. Особый интерес аутогон проявил ко мне и к моей работе. Часами Антей стоял в лаборатории и смотрел, как я монтирую аутогонов. Однажды он пришел и спросил, зачем у меня ноги. Он-то их не имел, а передвигался или, лучше сказать, плыл по АГБ-принципу. Антигравитационный баланс, по-моему, — идеальный способ передвижения для механизмов цилиндровой конструкции. Я попытался объяснить Антею, что человеческие ноги всего-навсего грубая погрешность природы. Я демонстрировал ему, — как неуклюжа, прямо-таки беспомощна наша походка, доказывал, что при ходьбе мы только переваливаемся с ноги на ногу, и если теряем какую-нибудь из них, то остаемся на всю жизнь калеками. Однако мне не удалось его убедить. Напротив, он стал дерзить, обозвал меня ограниченным и даже халтурщиком. Тогда я запретил ему переступать порог лаборатории. Последствия этого неосмотрительного с моей стороны решения проявились очень скоро. Помимо производства аутогонов я занимался изучением взаимоотношений между Антеем и его сородичами. К тому времени в Деменсии их было уже тридцать. Аутогоны могли вообразить, что я перегружен и не в состоянии уделить достаточно внимания каждому своему созданию. Разумеется, я не опекал их и не подчинял своей воле. Только при полной свободе и самостоятельности аутогонов мой эксперимент имел смысл. Антей проявил себя разумнейшим из всех. Это тоже вполне объяснимо. Он старше и поэтому собрал больше опыта. Процесс обучения занимал его и остальных аутогонов еще целиком и полностью. Они едва ли обращали внимание друг на друга, но подвергались самосовершенствованию. С нетерпением ждал я момента, когда аутогоны достигнут первой стадии зрелости. Это произошло очень быстро и в то же время неожиданно для меня. Однажды утром я обнаружил, что из кладовой исчез мешок полисилита. Гонимый дурными предчувствиями, я поспешил в лабораторию и застал там Антея. Он размонтировал себе нижнюю часть и приделал две самостоятельно сконструированные ноги. Это показалось мне возмутительным. Я так хорошо его задумал, дал ему наилучшую из всех имеющихся систему передвижения, а он — на тебе — из чистого обезьянничанья приделывает себе две дурацкие ноги! Признаюсь честно, я засомневался в правильности моей теории. Смогут ли аутогоны стать новыми приматами на земле, если они берут за образец человека? Или я плохо продумал их конструкцию? Целыми днями я, подавленный событиями, носился из конца в конец резервации и безучастно смотрел, как остальные аутогоны тоже приделывают себе ноги. Все же постепенно я успокоился и продолжал изготовлять из остатков моих запасов очередные цилиндрические типы, но уже с ногами. Как бы там ни было, а охоту к самостроительству нужно у них отбиты раз и навсегда. Поэтому нового материала из резервных складов я не запрашивал и с напряжением ждал, что последует дальше. Сначала ничего особенного не происходило. Аутогоны бродили по ближним и дальним окрестностям, которые они к тому времени хорошо изучили. Все было им знакомо, ничто их больше не удивляло. Они начали скучать и сделались раздражительными. Чтобы занять аутогонов, я давал им работу по валке леса, заставлял дробить камни, часами занимался с ними на плацу перед лабораторией. К сожалению, из этого ничего путного не вышло. Научить их мерному шагу в сомкнутом строю при всем желании не удавалось. Аутогонам незнакомо чувство общности. Похоже, что и их логика восставала против бессмысленности этого занятия. Мне бросилось в глаза, что аутогоны все чаще роются в складах и лаборатории. Они не находили, конечно, и пригоршни полисилита. Их действия меня забавляли, а скрытность настораживала. Такое поведение казалось мне недостойным будущих властителей мира. Если аутогоны не станут лучше людей, то вся замена одного рода другим будет иметь слишком мало смысла. Когда я увидел, что это перетряхивание и шарение в поисках полисилита вряд ли когда-нибудь прекратится, я напрямик спросил Антея, чего им, собственно, недостает, ведь они представляют собой совершенство. Он пробуравил меня своими электронными глазами и заявил, что хочет продолжать свою организацию. Для этого ему нужен материал, который я, наконец, должен выдать. Я объяснил Антею, что его накопитель не вынесет более сильных нагрузок, что он должен сначала попробовать правильно применить уже приобретенный опыт, тогда я увижу, нужно ли что-либо изменять в его конструкции. Антей повернулся и тяжело зашагал от меня, не произнося ни слова. У него отсутствовала мимика, и я не знаю, понял ли он меня.
На следующую ночь я проснулся от шума. Что-то кряхтело, трещало, щелкало. Я бросился в лабораторию, потому что странные звуки исходили именно оттуда. От того, что^я там увидел, у меня волосы встали дыбом. Посредине помещения стоял Антей со снятой крышкой черепа. Он сам предпринял трепанацию. В руках он держал накопительный механизм страшно изуродованного серворобота. Вокруг валялись руки, ноги и разломанные части корпуса. Полный ярости, я набросился на Антея, желая выяснить, что все это должно означать. Пристально глядя на меня, он невозмутимо заявил, что собирается из блока памяти серва сделать надстройку к своему мозгу. Я категорически запретил ему это, хотя знал, что мои запреты для него ничего не значат, и вернулся в постель. О сне, разумеется, и думать было нечего. Я слышал тонкое журчание лазерной установки. Вероятно, Антей сваривал свой череп. Мне стало не по себе от мысли, что он может когда-нибудь присвоить себе и мой живой мозг… Да нет, это чушь. Что ему делать с органическим мозгом? Просто у меня сдают нервы. Но это самовольничанье Антея незамедлительно нашло подражателей. Через каких-нибудь два-три дня у меня уже не было ни одного сервоавтомата. Я безжалостно упрекал себя в том, что так часто позволял Антею присутствовать при изготовлении аутогонов. Он отлично знал схему робота и поделился этим с остальными. Аутогоны вставляли себе чужой мозг по принципу подключения батарей и тем самым увеличивали мощность своих механизмов накопления опыта до ненормальных размеров. Я бы до этого никогда не додумался. Когда миновал первый шок, я здраво обдумал положение. Аутогоны, без сомнения, вступили в какую-то новую фазу развития. Они начали жить и действовать по своим собственным закономерностям. Правда, общества они не организовали и хотя действовали все одинаково, но каждый сам по себе и для себя. Это было примечательно, и я решил отныне пассивно наблюдать и ждать дальнейшего развития событий.

Теперь аутогоны осуществляли более крупные набеги; часто исчезали по целым дням. Иногда я крался за ними, чтобы подсмотреть, что они делают. Но далеко продвинуться не удавалось. В то время как аутогоны со своими полисилитовыми панцирями без труда продирались по проклятому скрэбу, я оставлял свою кожу в зарослях колючек целыми лоскутьями. Все чаще аутогоны возвращались с добытыми чужими накопителями и другими важными частями. Казалось, они обнаружили где-то колонию, в которой похищали и потрошили роботов низшего порядка. Подобное вовсе не входило в мои планы. По понятным причинам я старался не привлекать внимание, пока эксперимент был еще в разгаре. Я тщательно избегал видеофона, потому что в любую минуту мог получить вполне обоснованные жалобы и протесты. Аутогоны вообще перестали обращать внимание на мое присутствие. Они хозяйничали как хотели. Ареной их действий стала лаборатория. Они рыскали там дни и ночи напролет. Отдых аутогонам не требовался, а в качестве вещества для восстановления они довольствовались пригоршней сырого песка и небольшим количеством извести. Гуман, у меня отнялся язык, когда я открыл тайну их занятий! Ведь фактически они рассчитали формулы собственного воспроизводства. То, на что у меня ушли годы, им удалось в несколько дней. А для изготовления полисилита аутогоны нашли даже новое, намного более простое решение. Отныне они могли без помощи человека в любом месте и количестве изготовить себе подобных. Необходимые механизмы накопления опыта и известные элементы электроники они пока еще заимствовали у похищенных автоматов. Но по всему было видно, что они вскоре преодолеют эту последнюю трудность и изобретут накопитель нового типа с неограниченным самопрограммированием. Со мной, их создателем и учителем, было покончено. Они больше не нуждались во мне. Ни Антей, так жадно следивший за моими действиями, ни остальные, появившиеся после него. С той поры я жил в их мире, как на чужой планете, без цели и смысла, и значил для них не больше, чем окаменелость прошедших эпох. Я даже хотел покинуть Деменсию, чтобы избежать удручающего одиночества. Мой геликоптер был готов к отлету в любую минуту. Но я остался. Аутогоны продолжали совершенствоваться. Если их головы в результате повторного наращивания мозга уже требовали более двух третей корпуса, то стали проявляться и признаки адаптации, ранее считавшейся невозможной: подгонка под человеческую фигуру! Они постоянно переформировывали себя, что в условиях полимерного полисилита не так уж трудно. Эта тенденция развития полностью противоречила моей теории замены человека как отжившей формы материи. К тому же преобразование аутогонов совершалось в невероятно быстром темпе. К чему это приведет? — спрашивал я самого себя. Я открыл дорогу циклу, но в конце его снова стоял человек — другой, более разумный, но человек. Бедная моя голова, Гуман! Это противоречие доставило мне особенно много хлопот. Претензии и потребности аутогонов стремительно росли. Логичнее было бы теперь все делать сообща, чтобы достичь оптимального удовлетворения своих желаний. Но это никому из них не пришло на ум. Каждый опирался на свою суперинтеллектуальность и избирал индивидуальный путь. Я предвидел, что одинаковые потребности аутогонов могут вызвать серьезные обострения между ними. Так и произошло. Один требовал того, чего желал другой. Никто не уступал, так как никто не был умнее. Такие перебранки подобны перетягиванию каната. Исход определяли случайности. Однажды я хотел уладить спор между двумя аутогонами. Речь шла о шаровом шарнире. Я где-то нашел второй и дал его им в надежде, что теперь наступит мир. Ничего подобного! И тот и другой захотели иметь непременно первый шарнир. Логика машин! Споры и стычки множились день ото дня. Я долго и напряженно размышлял над глубинными причинами этих происшествий. Несомненно, что-то приближалось, назревало, как перед грозой. Когда я попытался вызвать Антея на разговор об этом, тот зло пробурчал что-то и бросил меня, как ребенка, задающего чепуховые вопросы. А вскоре между аутогонами разразилась битва. Да, самая настоящая битва, как во времена варварства. Я взобрался на эвкалипт и следил за сражением с высоты птичьего полета. Все бились против всех. С ревом бросались аутогоны друг на друга. Кто их научил этому реву, этим жутким звукам, осталось для меня тайной. Ни от меня, ни от кого другого они не могли научиться этому воинственному крику. Аутогоны отрывали друг другу руки и ноги, разбивали полисилитовые черепа, похищали накопители. Антей споткнулся о собственную ногу и рухнул. Если бы этот идиот сохранил испытанный антигравитационный баланс, с ним бы ничего не случилось. Молодой аутогон растоптал его. Мне эта картина резанула по сердцу. Антея, моего первенца, больше нет! Я не хочу долго мучить вас страшной сценой, разыгравшейся на моих глазах, Туман. К концу битвы поле пестрело обломками. Повсюду валялись блоки памяти. Их торопливо собирали уцелевшие, чтобы надстроить себя. К счастью, этих блоков было кругом достаточно, иначе борьба наверняка разгорелась бы с новой силой. Я был настолько возбужден, что в тот вечер не смог проглотить ни кусочка. Туман, все, что здесь произошло, не оставляло больше никаких сомнений — это эволюция, настоящий отбор! Мои аутогоны включились в цепь великого процесса эволюции. Труд мой приобрел законность перед лицом природы. Я начал упаковывать вещи. Самое позднее через три дня я собирался покинуть Деменсию и публично заявить, что моя теория оказалась правильной и замена человечества аутогонами неотвратима. Все, что осталось сделать людям, сказал бы я в заключение, это с достойной серьезностью смотреть в глаза судьбе и с гордым спокойствием закончить человеческую эру. Взволнованный до глубины души, я тотчас же записал свои мысли на ленту. После суматохи битвы стояла чудесная тишина. Победители ушли. И о ними молодой аутогон, разрушивший Антея. В память об Антее я дал ему имя Антей Второй. Чуть свет меня разбудил адский шум. Со стороны скрэба приближались, как орда пьяных, орущие аутогоны. Такого еще никогда не бывало. Я лихорадочно соображал: что это с ними? Когда аутогоны подошли ближе, стали различимы голоса: — Он такой же подлец! — Свернуть ему шею! — Зачем ему накопитель! У меня в этот момент застучали зубы, я сразу понял, что эти мерзкие крики относились ко мне. Трясущимися руками я спешно собрал самое необходимое, в первую очередь консервы и канистру с водой. Бежать к геликоптеру было уже поздно. Оставался единственный шанс на спасение — влезть на эту отвесную скалу. Я знал, что аутогоны не любят восхождения на крутые склоны скал. Обливаясь потом, я взобрался на вершину скалы. И вовремя! Они уже спешили к скале со всех сторон. Сначала роботы растоптали мой геликоптер, затем разрушили дом и склады. Мое исчезновение привело аутогонов в ярость. Я не узнавал их. Очевидно, во время своего набега аутогоны натолкнулись на людей, которые напали на них. Если так, то это конец! Ничто не может быть страшнее аутогона, когда он чувствует, что ему угрожают. Первым на большой высоте меня заметил Антей Второй. Как я и ожидал, он даже не попытался влезть на скалу. Стоя вместе с другими своими сородичами у подножия, он крикнул: — Ты мой создатель? — Конечно, — ответил я, — и требую к себе большего уважения. Озлобленный, он выкрикнул: — Ложь! Меня сделал Антей. Ты обычный дармоед в мире машин! Глупые сервоавтоматы с рудников правы. Вы, люди, ни на что не способны и живете за наш счет. Ну, это было уж слишком. — Смотрите-ка! — возмутился я. — А красть чужой мозг, это разрешено, а? И конечно, для этого глупых сервов вполне хватает! Я не мог продолжать. Мне не хватало воздуха, а шум внизу стал оглушительным. Аутогоны тянулись ко мне своими ^механическими руками. «Жалкий человеческий червь! Коварный подлец! Твое время истекло!» Такого рода выражения они действительно могли позаимствовать только у малоквалифицированных автоматов. Испытывая горькое разочарование, я отвернулся и углубился в созерцание своей достойной сожаления судьбы. Выкрикивая непрестанно ругательства, аутогоны в конце концов убрались восвояси. О, они хорошо знали, что я не могу питаться сырым песком и поставлен перед выбором: либо выдать им себя, либо, умерев от голода, выставить свои кости в этом проклятом одиночном пантеоне. Мысль, что мне придут на помощь, не возникла у них. Ведь они не помогают друг другу. Вот так, Гуман. Таков мой отчет. Деменс откинулся назад и выжидающе посмотрел на меня, готовый сразу же опровергнуть любые возражения, если они сорвутся с моих уст. — Какая основная программа заложена в ваших аутогонах? — спросил я. — Принцип самоутверждения. — Больше ничего? — Нет. Я задумчиво смотрел сквозь открытую дверь кабины гравиплана. Над серыми очертаниями степи уже занимались зарницы нового дня. Где-то завыла динго, и в ответ из леса донесся резкий вскрик испуганных попугаев. — Знаете, Деменс, все еще существуют люди, не понимающие нашего мира и его связей. Они, словно потерпевшие кораблекрушение, живут на необитаемом острове и в паническом страхе за существование бьются с кошмарными видениями. — Вы хотите сказать, что к ним принадлежу и я! — Он гневно рассмеялся. — Разве то, что здесь произошло, кошмарный сон? Если так, то отвезите меня как можно скорее в психиатрическую больницу! Пыл профессора вызвал у меня улыбку. — Чтобы вылечить вас от вашего пессимизма, этого вовсе не потребуется. — Ну что ж, великолепно. Может быть, соблаговолите сказать, каким образом вы мыслите провести мое… гм… лечение? — Весьма охотно. Я буду говорить с аутогонами. Он вскочил. — Вы собираетесь… Тогда ясно, кто здесь помешанный! — Не судите опрометчиво. — Да послушайте! Эти парни разложат вас на атомы! Вы верите, что сможете выступить посредником между человеком и машиной? — Так ставить вопрос — значит видеть проблему в ложном свете, уважаемый коллега, — возразил я. — Даже самая совершенная машина не сможет сравняться с человеком. — Позвольте напомнить вам, что миллионы людей уже сегодня наполовину искусственны. Существуют копирующие природу заменители для всех органов. От искусственной челюсти до синтетического сердца. Гуман, человек и автомат приближаются друг к другу. Человек становится автоматичнее, а автомат — человекоподобнее. Второе и есть новая форма материи. — В самой возможности сдерживать естественный процесс старения нашего организма и тем самым продлевать жизнь я не вижу ничего недостойного человека. Сближение, о котором говорите вы, — фикция. Психические процессы не подчиняются математической логике ине управляются по правилам автоматики. Таким образом, машина никогда не сможет достигнуть человеческого качества. — Мы никогда не придем к соглашению! — проворчал Деменс. — Я оптимист. Во всяком случае я приземлюсь с гравипланом возле вашей бывшей лаборатории. — Но если что-нибудь случится, я пропал! — Совершенно справедливо. Но зато тогда вы сможете по крайней мере умереть с гордым самосознанием, что ваша теория верна. Такая перспектива мало привлекала Деменса. Он молча покинул кабину и побрел к своему ложу из колючек. Мы стартовали. Через некоторое время гравиплан уже парил над развалинами, а затем приземлился недалеко от лаборатории. Я вышел и огляделся. Нигде ни одного аутогона. Может, они снова в разбойничьем походе? Прислушиваясь и озираясь по сторонам, переступил я порог лаборатории. Здесь камня на камне не осталось. Под ногами все хрустело и шуршало. Обрывки и запутанные клубки магнито- и перфолент, металлические спирали, реле мозга, вырванные сочленения и целые фрагменты внутреннего устройства аутогонов. Настоящий хаос! То, что до сих пор не было видно ни одного из порожденных Деменсом созданий, начинало меня беспокоить. Они должны были заметить гравиплан, а при ставшем уже легендарным любопытстве роботов следовало бы ожидать, что они находятся где-то поблизости. Но почему аутогоны прятались? Это походило на засаду. В любой миг могло последовать молниеносное нападение. Я условился, что мои спутники известят меня сигналом в случае опасности, а гравиплан поднимут на десятиметровую высоту, чтобы не рисковать им. Я же знал, как мне обороняться. Тишина постепенно становилась жуткой. Я никогда не ощущал страха при встрече с опасностью, которую видишь и оцениваешь, но чувствовать ее, не зная, откуда она грозит и что собой представляет, отвратительно. Я решил покинуть лабораторию, чтобы осмотреться, и, направляясь к двери, задел за что-то. С полки с грохотом упал кулак робота и остался лежать у моих ног, сжатый, как немая угроза. Нервничая, я отбросил его пинком ноги в сторону и прислушался. Раздался звенящий треск. А что, если за этим шумом я не расслышал сигнала об опасности! Кажется, все тихо.

Нет, за моей спиной что-то перемещалось! Явственно послышался скрежет зубов. «Черт побери», — только и успел я проговорить про себя, обернулся и замер как вкопанный. Передо мной, словно колонна, стоял гигантский аутогон и непринужденно меня разглядывал. Первый испуг, от которого я с трудом пришел в себя, был чепухой в сравнении с ужасом, обуявшим меня, стоило этому монстру открыть рот и совершенно спокойно произнести: — Добрый день. Вы кибернетик? — Конечно. — Я отвечал заикаясь. — Что же, ты не собираешься на меня напасть? Аутогон как-то покорно махнул рукой. Ах, все это было недоразумение. И во всем виноват этот Деменс. — Ну, ну! Все же профессор Деменс твой прародитель. — Простите, сэр. — Вот так. Дал ли тебе Деменс имя? — Да. Я — Антей Второй. — Ага, я уже слышал о тебе. Это ты, должно быть, величайший олух из всей шайки? — Мне очень жаль. Я не понимаю, как это могло случиться. Со мной, вероятно, что-нибудь не все в порядке. — Как же ты догадался об этом? — Это было так. После того как была разгромлена лаборатория, я копался в рухляди. Думал, может, найду еще один кусок мозга. Мозг ведь всегда нужен. И тут я нашел несколько микрофильмированных книг: Анохин, Винер, Эшби, Клаус. Я их все прочел. Поразительно, какие прогнозы делали уже классики кибернетики. Но они говорили также и о границах, в которые я поставлен. Но что это за границы? При всем желании я не могу разузнать. Непонятно, почему этот старый рутинер, пардон, я хотел сказать «профессор», не сообщил мне ни одной соответствующей информации. Я ведь не могу сам менять свою основную программу… — Да, это была ошибка Деменса, грубая ошибка. Ты не в состоянии понять, что мы сильнейшие и всегда ими останемся. — «Мы»… Что это такое? — Видишь ли, это «мы» тебе чуждо. Ты знаешь только «я». Поэтому ты нам подчинен, пусть даже ты будешь вдвое умнее и сильнее. — Могу я выучиться этому «мы»? — Нет, этого ты не сможешь, потому что ты не общественное существо. Таким является только человек, Он высшая, социальная форма живой материи, во всяком случае в земной сфере. Логично? — Когда я слышу о «логике», во мне обычно что-то отзывается звоном. Сейчас нет. Наверное, упадок сил, чего доброго, еще схвачу короткое замыкание! Значит, я так же умен, как человек, и все же много меньше, чем человек? Выходит, мы зря так долго надстраивали свой механизм памяти. Это ничего не дало? — Да, но это не беда. Противоречие можно устранить. Небольшая операция, не стоит и разговора. Я уже думал над этим и взял с собой все необходимое. — Большое спасибо, сэр… …Через несколько часов мы снова приземлились на скале профессора. Деменс смотрел на меня как на привидение. — Вы живы, Гуман? — Не могу этого отрицать. — А что с аутогонами? — Все в порядке. — Я рассказал ему о моей встрече с Антеем Вторым. — Аутогоны порождены вами. Они — воплощение вашей безумной идеи гибели человечества. Чудовища, не знавшие ничего, кроме принципа самоутверждения, стали умнее своего творца и, таким образом, впали в противоречие с самими собой. Механизмы накопления опыта были полностью закупорены. Я со своими спутниками, несколькими коллегами из философского института, сразу же приступил к перепрограммированию аутогонов. — И новая основная программа… — …Звучит так: «Я служу!» Как и надлежит автоматам. — Вы полагаете, что это поможет? — спросил Деменс. — Уже помогло. Я повел его к краю скалы, откуда можно было видеть всю площадь перед лабораторией. Там кипела работа: аутогоны расчищали развалины.
Об авторе Известный писатель, драматург и автор телепостановок Гюнтер Крупкат родился в 1905 году в Берлине. Окончил гимназию, учился на инженера, был техническим работником, лаборантом. Попутно писал короткие истории и рассказы для газет и журналов, чаще всего детективного жанра. Некоторое время Г. Крупкат работал в области кинодраматургии, был корреспондентом газеты «Берлинер Тагеблатт», затем в течение пяти лет сотрудничал на радио. В 1932 году его, как члена Компартии Германии и профсоюзного активиста, увольняют. Он находит работу в голландском издательстве, выпускающем в Германии журнал на семейные темы. Принимал участие в движении Сопротивления в Германии (с 1933 года) и в Чехословакии (в конце войны). С 1945 года журналист, участвующий в демократическом преобразовании ГДР, главный редактор ряда печатных органов. В 1955 году перешел на профессиональное положение писателя; живет в Берлине. Гюнтер Крупкат пишет произведения с острым занимательным сюжетом, приближенные к современности, преимущественно на научно-фантастические темы (свыше половины опубликованных им после 1956 года книг связано с вопросами космических перелетов). Ныне Г. Крупкат занимается проблемой биокибернетических автоматов. О современной прогрессивной фантастике он говорит так: «Мы не гадаем на кофейной гуще и не составляем гороскопов, мы даем научно обоснованные и нарисованные фантазией картины будущего». К наиболее значительным произведениям Г. Крупката относятся фантастические романы «Невидимые» (1956), «Лицо» (1958), «Когда умирали боги» (1963), «Корабль потерянных» (1965).
ЕДИНЫЙ, ЕДИНЫЙ, ЕДИНЫЙ МИР!
Послесловие к рассказали Рода Серлинга «Люди, где вы?..» и Гюнтера Крупката «Остров страха»
Способы изучения явлений природы так же неисчислимы, как бесконечно разнообразна она сама. Научные методы познания эффективны в тех случаях, когда налицо хотя бы минимально достаточная опорная база для точного научного поиска. Там, где такой базы нет, — наука не в состоянии применить свои методы. Это естественно. Но человеческая фантазия неудержима. Она способна устремляться и в те отдаленные, смутные, зыбкие области «предзнания», куда уважающая себя наука не рискует ступить, не желая ставить под сомнение свою репутацию. В наше время фантастика все более отважно проникает в такие сферы неведомого, где опереться логике почти не на что — разве только на «реактивные силы собственного воображения». Не случайно в последние годы фантастику, совершающую смелые рейды в далекие области «предзнания», именуют порой «фантастикой серьезного мышления», или преднаукой. Это уже не так называемая научная фантастика, которая в отличие от фантастики серьезного мышления занимается, как правило, популяризацией известных научных истин. Анализ современной фантастики показывает, что почти во всех развитых странах предварительное зондирование многих «проблем века» с помощью этой литературы считается весьма важной и необходимой — начальной стадией процесса познания. Любое достаточно зрелое общество, глубоко размышляющее о путях человеческой эволюции, неизбежно будет поощрять развитие не только научной и философской, но и фантастической формы мышления. Ведь все они — нераздельные звенья одного диалектического процесса познания Мира человеком. Закономерно ожидать возникновения в будущем институтов фантастического (преднаучного) моделирования и прогнозирования, где из «тысяч тонн словесной» фантастической «руды» мыслители станут извлекать сотни талантливых и гениальных идей, которые помогут ускорению общечеловеческого прогресса. Важно изучение не только реальных миров, феноменов и ситуаций, но и воображаемых. Глубинные закономерности природы едины и в сфере материальной действительности, и в области, так сказать, «чистого» воображения. Давно известно: планета, на которой мы все живем, тоже единый, бесконечно сложный, далеко еще не познанный человеком мир — географический, геологический, биологический, социальный и т. д. Единство этой космической системы, родной для каждого из нас, особенно глубоко осознается, как говорят космонавты, при наблюдении за ней из внеземного пространства. Но часто ли задумываются люди над великим смыслом такого единства?.. Кто, как не человек, призван беречь единство, ревностно охранять многосложную гармонию своей планеты-родины! К сожалению, современный человек пока еще творит бездумно немало такого в своем Родном Доме, что приводит к серьезным нарушениям его миллиардолетнего природного равновесия. Об этом говорил, в частности, проникнутый гуманистической тревогой за будущее людей рассказ физика-теоретика И. Верина «Письмо землянам», опубликованный в прошлогоднем выпуске нашего сборника. И как бы подтверждая предостережения, сделанные в этом рассказе, газета «Известия» в корреспонденции «Черное облако над Парижем» сообщала: «Во Франции… быстрыми темпами уничтожаются леса, загрязняются промышленными отходами реки и озера. Гибнут птицы, рыбы, лесная фауна. Окраины городов превращаются в свалки, образуют зловредные болота. Даже моря и океаны не в состоянии «переработать» сотни тысяч тонн химикатов и нечистот, которые выносят в них мутные потоки некогда прозрачных рек…» (24 июня 1970 г.). Земля неотрывна от Солнечной системы, от всей Вселенной, истинная «география» которой представляет собой бесконечно сложное единство. Люда» совершив первые полеты в ближайший космос, вероятно, только еще слегка приоткрыли дверь в безбрежную область практического познания грандиозной вселенской «космографии». И тут фантастика, как всегда, приходит на помощь человеку, устремленному мыслью в неведомое, к дальним мирам.
Трагедия сержанта Ферриса
Надо сразу отметить, что фантастический эксперимент, проделанный Р, Серлингом в рассказе «Люди, где вы?..», устарел по крайней мере в одном аспекте. Много людей совершило уже космические полеты, а некоторые побывали и на Луне. Но ни один космонавт не испытал еще мало-мальски серьезного беспокойства из-за так называемого ужаса одиночества. Практика показала, что вокруг Земли и на Луну сегодня летают, как правило, по два-три человека в корабле, а в будущем предполагаются еще более многочисленные экипажи. Это самый естественный и легкий способ преодоления опасности одиночества и связанных с нею психических возмущений. Кроме того, радио- и телесвязь в наше время достаточно надежна. Таким образом, проблема, исследуемая Серлингом, лишена (если не считать ничтожно редких случаев) того значения, которое придает ей автор в связи с воображаемыми полетами на Луну в одиночку. Тем не менее проблема сугубого одиночества человека остается — и она весьма важна и психологически, и философски, безотносительно к тому, где такое одиночество может состояться: в космосе или на Земле, среди лунной либо марсианской пустыни, в тюремной камере, на необитаемом острове или — что самое страшное и часто встречающееся — среди огромного людского моря, равнодушного к человеку, в тех социальных системах, где человек человеку недруг. Здесь надо также подчеркнуть, что проблема одиночества может решаться по-разному — в зависимости от того, как тот или иной человек отвечает на вопрос: что такое «я» и вообще Мир, в котором все мы живем? Если Вселенная — конгломерат, хаос систем, где разделенность преобладает над взаимосвязанностью и где, может быть, есть даже области и системы, абсолютно не связанные с теми, что вне их, — тогда полное одиночество человеческого «я» возможно. Если же Вселенная — это некое Абсолютное Единство (на чем всегда настаивала и настаивает передовая философская и научная мысль) — и человек осознает это, — полного одиночества человека быть не может. Художественная и философская логика рассказа «Люди, где вы?..» заставляет сделать вывод: Р. Серлинг — американец, представляющий, что такое тяжесть духовного одиночества мыслящего человека в среде равнодушных друг другу людей, — склоняется к пессимистическому мнению, что полное одиночество личности на какой-то период времени возможно. (Вспомним: ведь сутью бесчеловечного эксперимента над Феррисом является испытание человеческой психики на выносливость в жестких условиях «стерильного», выражаясь языком медицины, одиночества. Организаторы этого испытания явно стремились к тому, чтобы «эксперимент был чистым»). Итак, Р. Серлинг, допустив возможность полного одиночества «я», вольно или невольно вынужден также согласиться с идеей о том, что бесконечный Мир в своей основе не есть единство; иными словами: Вселенная существует «сама по себе», а то или иное человеческое «я» — «само по себе». Но такой взгляд на сущность бесконечной Вселенной и характер отношения Вселенной и человеческого «я» вряд ли является истинным. В самом деле, возможно ли сугубое, до отчаяния абсолютное одиночество человеческого «я»? Именно в такой плоскости следует поставить этот вопрос, если ставить его серьезно. Р. Серлинг спрашивает иначе, так как заранее согласен с тем, что полное одиночество возможно. Как долго человек сможет переносить одиночество? — вот что интересует писателя. И путем фантастического эксперимента он определяет даже предельный срок: 284 часа… Потом якобы наступает «та грань, за которой ломается человеческое «я», грань, где человек уступает одиночеству и пытается вырваться из него». Попробуем, однако, разобраться в существе проблемы, насколько позволяют наши возможности и рамки послесловия. Известно, что есть по крайней мере два вида одиночества! физическое и духовное. Какое из них более тягостно для человека? Думается, как правило, второе (хотя в жизни могут встречаться различные ситуации). Герой рассказа «Люди, где вы?..» попадает в условия типично физического одиночества, усугубляемого незнанием того, кто он сам, откуда, где он находится и как здесь очутился. Лишь постепенно сержант Феррис вспоминает, кто он и откуда. Стремясь поставить своего героя в условия полной изоляции от всего живого (даже мухи отсутствуют в выдуманном им мире!), Р. Серлинг по крайней мере однажды погрешает против собственного замысла: он допускает в этот мир «неживых вещей» деревья, очевидно, также цветы и травы, которые тоже ведь живые организмы. Известно, что между миром растений и человеком всегда, как только они оказываются вместе, устанавливается определенная двусторонняя связь, которая обычно влияет благотворно на психическое и духовное состояние человека. Не случайно люди во все века стремились и теперь стремятся быть ближе к природе, тогда как суровые закономерности не совсем гармонического развития земной цивилизации воздвигали и воздвигают немало препятствий на пути такого естественно необходимого симбиоза. Итак, если вокруг человека присутствует мир растительности, трудно говорить о полном одиночестве человека. Р. Серлинг решил поместить сержанта Ферриса в мир, где «все — как настоящее, обыденное», но только нет никаких передвигающихся живых существ. Используя обычные приемы так называемой ужасной фантастики — интенсивное нагнетание неизвестности, таинственности, психической напряженности, автор доводит своего героя чуть ли не до сумасшествия — именно будничностью обстановки, из которой, кажется, всего лишь минуту назад исчезли люди. Порой Феррису чудится, что он оказался в какой-то промежуточной плоскости, где люди уже не обитают, а вещи еще сохраняют свой привычный вид. В отчаянии Феррис думает: «Все что угодно — только бы встряхнуть это болото, расшевелить его, бросить ему вызов. Все что угодно — лишь бы сорвать этот фасад реальности…» Расчет Р. Серлинга точен: поддельные страхи уже не производят на читателя впечатления; пребывание человека в современном земном безлюдном городе куда ужаснее, чем в воображаемом инопланетном. Надо признать, что «научный» опыт, проделанный над человеком в рассказе «Люди, где вы?..», в общем-то безжалостен, антигуманен; и характерно, что руководит экспериментом бригадный генерал американских ВВС… Нельзя не отдать должное мастерству, с каким Р. Серлинг изображает психическое состояние человека, оказавшегося в загадочном одиночестве. Но заметим, что прежде всего сам человек создает для себя условия изоляции от других людей; и настоящее одиночество начинается тогда, когда прерываются именно духовные связи с себе подобными. В отличие от американского фантаста Р. Серлинга мы глубоко убеждены, что бесконечный Мир — един, все процессы в нем постоянно взаимосвязаны и взаимозависимы. Качество единства — это фундаментальное качество мира; оно всегда в общей картине природы более глубоко и стабильно, чем относительное качество разделенности, разобщенности, противоположности. В формуле «единство противоположностей» — качество единства не случайно обладает главным логическим значением. Единство бесконечного, бесконечно разнообразного Мира настолько глубоко и всесторонне, что человек пока еще не в состоянии проследить основную, скрытую часть его связей и зависимостей. Он улавливает лишь то, что происходит на поверхности. А этого далеко не достаточно, чтобы осознать истинную природу космического, вселенского Единства Всего. Естественно предположить, что в бесконечной пространственно, во времени, а стало быть, и в своих возможностях и ситуациях Вселенной существует гораздо больше видов и типов связей и зависимостей, чем уже известных людям. Далеко не исследована и во многом загадочна природа гравитационных связей. Немало таинственного в механизмах взаимосвязей микро- и макрокосмоса. Совершенную загадку представляют многие разновидности психических и «ультрапсихических» связей. Человек вправе предполагать, что он откроет в природе еще много неожиданных и потрясающих воображение сюрпризов в области всеобщих, глубинных связей и зависимостей. Но и теперь мы можем утверждать, что каждое явление, предмет, процесс и т. п. постоянно связаны со всеми другими явлениями в Космосе, с общим, Единым — именно бесчисленным количеством связей различного характера, разных уровней, разных качеств (причем не только лишь связей чисто физико-химического или биологического характера). «…Отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему». «Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д.» (В. И. Ленин. Философские тетради. Политиздат, 1969, стр. 318). Таким образом, может ли человек чувствовать себя где бы то ни было полностью одиноким, совершенно оторванным от Всеединства Мира, если он понимает, осознает характер этого Всеединства (а космонавты — разведчики Вселенной — призваны, по-видимому, глубже остальных людей осознавать характер космического Всеединства)? Думается, ответ может быть один. Поскольку Вселенная есть Единое Нечто, любой человек никогда в нем не одинок, ни в какой ситуации, за исключением той, когда сам человек так или иначе обрекает себя на духовную изоляцию от себе подобных. Немало было в истории человечества примеров, когда люди попадали в условия длительной физической изоляции от людей. И факты говорили, что в тех случаях, когда такие отшельники умели сохранять хотя бы мысленное «подобие связи» и воображаемое «общение» с другими людьми, с родными и близкими, чувство одиночества почти всегда оказывалось побежденным. Трагедия сержанта Ферриса в том, что он не может возвыситься до такой духовной связи с другими людьми, память о которых лишь смутно присутствовала в его сознании. Не может потому, что скорее всего чувство духовной общности с себе подобными отсутствовало у Ферриса. Здесь вспоминаются слова из популярной песенки, прозвучавшей несколько лет назад в одном кинофильме: «Какое мне дело до вас до всех, а вам — до меня!..» В духе этой «морали» воспитаны ныне тысячи «бравых американских парней», воюющих с народами Индокитая. Вероятно, в подобной атмосфере воспитался и сержант Феррис — типичный «продукт» американского общества и американских ВВС. Какую же еще мораль и какое отношение к людям может иметь человек, сформированный нравственно на такой, например, литературе: «Здесь все больше были книги про убийства, представленные на обложках полуголыми блондинками, с такими заголовками: «Смерть приходит в публичный дом»… Некоторые книги были как будто знакомы». Сержант Феррис и тысячи схожих с ним «американских парней» остаются духовно одинокими, даже когда они обитают среди других людей, ибо воспитаны в соответствии с принципами: «Каждый — сам по себе», «каждый — против всех». Ведь чувство животной стадности, аморфной толпности еще не означает для человека чувства общности. Тем не менее стадность позволяет людям, подобным Феррису, не ощущать своего истинного одиночества, создает иллюзию их общности. Но стоило такому человеку очутиться в физическом одиночестве — и он весьма скоро ощутил ужас своей духовной отрешенности от мира, от людей.Неудавшийся бунт роботов
Проблема, которую положил в основу рассказа «Остров страха» немецкий писатель Г. Крупкат, дискутировалась в научно-фантастической и научно-популярной литературе, должно быть, многие сотни раз. И большинство авторов, несмотря на поразительные достижения современной кибернетики, все решительнее склоняется к одному выводу — именно тому, что сделан и Крупкатом: никакой робот, никакая машина, даже самая совершенная, не сможет превзойти своего создателя — человека в его совокупном — физическом, интеллектуальном, психическом, духовном, социальном могуществе. Устами одного из персонажей автор справедливо замечает об идеях «так называемых механистов», пытающихся доказать, что машина способна в будущем стать во всех отношениях совершеннее человека: «Их представления о мире сверхразумных роботов попросту абсурдны. Механисты считали, что человек — лишь временно высшая форма живой материи и что сам биологический автомат, согласно неизменяемым законам эволюции, создаст мир идеальных машин, чтобы затем исчезнуть как разновидность рода. Ложный, бессмысленный и опасный вывод…» Не столько опасный, сколько смешной. Сам Г. Крупкат в том же рассказе делает очень важное и глубокое замечание: «Психические процессы не подчиняются математической логике и не управляются по правилам автоматики. Таким образом, машина никогда не сможет достигнуть человеческого качества». В этом-то вся и суть, а не в том, что робот не может самостоятельно менять свою основную программу. Можно представить самосовершенствующиеся автоматы, которые будут менять свои программы в зависимости от изменения окружающих условий. Молено даже допустить, что некие сверхсовершенные роботы создадут отдаленное подобие общества, где будет существовать разделение труда. Лишь одно невозможно: никогда машина не сможет ощутить себя единой со всей бесконечностью Вселенной, ощутить себя неотрывной частью космического Всеединства, как способен делать это человек, особенно в Моменты наивысших подъемов своей творческой, духовной деятельности. История и теория искусства, исследование закономерностей творческого процесса человека свидетельствуют, что он постоянно таит в себе бесконечность возможностей, которые нередко, к сожалению, остаются только в потенции, непрояв-ленными. В этом смысле сознание человека есть микрокосм, где, как океан в капле морской воды, отражена реальная бесконечность Вселенной. Профессор Деменс с гордостью говорит о двадцати миллиардах бит емкости «мозга» у созданных им аутогонов. Но во-первых, это чисто механическая емкость, склад информации; содержимое там разложено по полочкам, отсутствует возможность качественных изменений и преображений. Во-вторых, если допустить, что информация может сохраняться в живом биологическом мозгу не только на молекулярном, но и на атомном уровне, и даже на еще более «нижних» этажах материальности, то несомненно, что прежде всего именно человек, а не машина способен использовать такие глубинные сферы своей многосложной памяти. Недаром же природа создала в его мозге эти резервные гигантские кладовые информации! Всякая техника — лишь подсобное, вспомогательное средство, служащее человеку и человечеству в процессе его космической эволюции, в частности для более глубокого самопознания и овладения своими внутренними потенциальными возможностями, которые, несомненно, беспредельны, как и сама Вселенная, — вот вывод, к которому еще раз приходишь, прочитав рассказ «Остров страха».Человек — и окружающая его среда, человек — и география, человек — и психико-духовные процессы, человек — и космос, человек — и будущее… Современная фантастика серьезного мышления все глубже и разностороннее стремится исследовать своими специфическими средствами эти кардинальные проблемы бытия, внося тем самым свой вклад в эволюцию общечеловеческого самосознания. Ценность этого вклада определят потомки. Но и сегодня можно уверенно сказать: фантастика, исследующая многосложное единство бесконечного Мира, утверждающая непреходящую ценность Человека, наиболее серьезна и наиболее прогрессивна.
Н. Петров
ФАКТЫ
ДОГАДКИ
СЛУЧАИ

Оформление худ. М. Сергеевой
ЧЕЛОВЕК
И НЕОБЫЧНАЯ СРЕДА

Горы эти очень высоки, выйдешь утром и только к вечеру доберешься до вершины. На вершине обширные равнины, обилие трав, деревьев и ключей чистейшей воды, текущей по скалам и ущельям. Воздух на вершине очень чист, и жить здесь здорово; люди в городах, в долинах и на равнинах, как почувствуют лихорадку или какую другую болезнь, тотчас же уходят в горы, поживут там два-три дня и выздоравливают от хорошего воздуха. Марко Поло утверждает, что испытал на себе: болел он в этих странах с год, а как сходил по совету в горы, так выздоровел.Рамузио, 1559 г.
В 1532 г. испанские конкистадоры во главе с Франсиско Писарро захватили расположенные в южноамериканских Андах земли древних инков и обосновались в их высокогорной столице Куско. Однако горы не захотели принять пришельцев: над завоевателями и привезенными ими животными полвека тяготело проклятие бесплодия, пока они не построили на уровне моря новый центр — город Лиму и не переселились в нее. Это бедствие вызывало суеверный страх у поработителей. Им было непонятно, почему инки, живя из поколения в поколение на таких больших высотах в горах, не были подвержены этой напасти, имели нормальное потомство, строили города, возводили поражающие своей грандиозностью сооружения, воздвигали необычайной красоты статуи. И сейчас в горах Перу около 5 млн. человек, в основном индейцев, живет и работает в шахтах на высотах от 2 до 4 тыс. м над уровнем моря. Здесь есть железная дорога (Лима — Ороя), пересекающая Анды на высоте 4800 м. В Азии, на еще большей высоте (около 5 тыс. м) в Тибете найдены заброшенные копи, в которых некогда добывали золото. В нашей стране большая часть населения сосредоточена на равнинах или в низкогорье. Однако в горах Кавказа, Средней Азии, Казахстана, Сибири издавна существовали горные селения. Сейчас на больших высотах Кавказа, Алтая, Тянь-Шаня, Памира ведется добыча многих полезных ископаемых, проведены высокогорные железные и автомобильные дороги, построены плотины и гидростанции, работают обсерватории, на горных ледниках ведут наблюдения за погодой метеорологи, стоят пограничные заставы, проходят нехожеными тропами геологи. Таким образом, кроме издавна живущих местных жителей в этих районах появилось много пришельцев из равнинных областей Союза. Такие названия, как Терскол и Бакуриани на Кавказе, Горельник и Медео около Алма-Аты в Заилийском Алатау, известны всему миру как места тренировок и состязаний спортсменов — альпинистов, лыжников, конькобежцев, которые отмечали не раз повышение работоспособности и улучшение самочувствия по мере акклиматизации в горах. Многие горные поселки Дагестана, Азербайджана, Грузии славятся своими долгожителями. Недаром еще у Плутарха и Тита Ливия содержались прямые указания на «здоровость горных местностей». Говорили о влиянии высокогорья Средней Азии на человека и знаменитые русские географы — П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, А. П. Федченко и другие. Б настоящее время в горах Кавказа, Крыма, Карпат, Алтая, Забайкалья и Средней Азии расположено свыше 70 наших замечательных здравниц. И в то же время каждый, кто бывал в горах, знает, как тяжело в них новичку; пропадает сон и аппетит, появляется тошнота, шум в ушах, начинают болеть плохо запломбированные зубы, ломит суставы, малейшее физическое усилие вызывает одышку и сердцебиение. У некоторых перебои в работе сердца и нарушение ритма дыхания становятся настолько сильными, что человек теряет сознание — это горная болезнь, или, как говорят киргизы, человека «задавил тутек». Иногда эти болезненные явления принимают опасный и устойчивый характер, тогда для спасения жизни заболевшего требуется спешно спустить вниз — на равнину. Почему же действие гор на организм человека так противоречиво? Каково отличие климатических условий этих высоких мест от тех, которые наблюдаются в низинах? Какие опасности таят горы для бесперебойной работы систем человеческого тела и почему они же являются врачевателями многих болезней? Живя на дне «воздушного океана», человек находится под действием окружающей его газовой среды. Эта связь осуществляется прежде всего через дыхание, благодаря которому организм получает кислород, необходимый клеткам для процессов окисления, дающих энергию, которая превращается ими в тот или иной вид работы. Известно, что в состоянии покоя легкие пропускают в минуту примерно 8 л воздуха. А при мышечной работе, спортивных состязаниях и различных перегрузках потребность в нем так сильно возрастает, что, например, бегун после финиша, изголодавшись по кислороду, вдыхает его в 15–20 раз больше, чем смотрящий на него зритель. Так обстоит дело на уровне моря, где на каждый квадратный сантиметр атмосфера давит с силой 1,033 кг, что уравновешивается столбиком ртути высотой 760 мм. С подъемом в горы давление воздуха падает. На высоте 1000 м оно на 12 %, на 2000 м — на 22 %, на 3000 м — на 50 % ниже, чем на уровне моря. Доля кислорода в воздухе на всех уровнях и высотах не меняется и составляет 21 %; таким образом, его давление с подъемом в горы уменьшается прямо пропорционально уменьшению общего давления воздуха. С ростом высоты понижается содержание кислорода в крови, что в свою очередь вызывает кислородное голодание тканей организма — гипоксию. У ряда ученых существовало мнение, что влияние гор на человека связано именно с кислородным голоданием. Однако наблюдения над альпинистами, летчиками, а также постоянно проживающими на больших высотах горцами показали, что далеко не все физиологические действия своеобразной горной среды могут быть объяснены одной только гипоксией. Совместные исследования врачей, физиологов, климатологов привели к выводам, что сдвиги, наблюдаемые в горах в организме человека, обусловлены всем комплексом свойственных им климатических процессов, которые неодинаково протекают на одних и тех же высотах в разных ландшафтных зонах земного шара на разных континентах. Известно, например, что в Альпах и на Кавказе горная болезнь обнаруживается на высоте 3000 м, в Тянь-Шане и Андах — 4000 м, а на Памире и в Гималаях — еще выше — 5000 м над уровнем моря. С подъемом в горы изменяется не только давление и плотность кислорода, но и другие физические факторы окружающей среды. Прежде всего падает температура воздуха, а это приводит к изменению работы терморегуляторных механизмов в организме человека. Один из покорителей Джомолунгмы, высочайшей вершины мира (высота — 8882 м), — Тенцинг Норгей, прозванный за смелость и выносливость «Тигром снегов», рассказывает, что, когда он вместе с другими участниками английской экспедиции 1953 г. шел на штурм этой величественной вершины Гималаев, лютый холод и резкий ветер особенно сильно мешали их восхождению. Известно, что с понижением температуры уменьшается содержание в воздухе водяных паров. Поэтому с увеличением высоты растет сухость воздуха, так, например, на высоте 2000 м над уровнем моря она становится в 2 раза больше, чем на равнине. Недаром тот же «Тигр снегов» называет победную экспедицию на Джомолунгму 1953 г. «лимонадной»: ее участники все время испытывали жестокие мучения от жажды, связанной с практически полным отсутствием водяного пара в воздухе на высотах более 6000 м. Зная по опыту, что снег и лед только увеличивают жажду, восходители утоляли ее главным образом растопленным на примусе лимонадом, а также кофе, чаем, супом. (Входящий в лимонад лимонно-кислый натрий помогает уменьшить чрезмерную вентиляцию легких, кроме того, в лимонаде есть аскорбиновая кислота, потребность в которой повышается в горах.) С меньшей толщей атмосферы в горах, чем на равнине, и большей сухостью чистого воздуха связано усиление приходящей от солнца радиации, особенно ультрафиолетовых лучей, оказывающих здесь наибольшее воздействие на человека, усиливая химические и биологические процессы в клетках. На значительных высотах приходится защищать сетчатку глаз темными очками от повреждений слишком сильным солнечным светом, а кожу от ожогов — плотной тканью. Резкие изменения температуры, ветра и влажности в зависимости от времени суток и условий погоды, большая разница в теплоощущении (на солнце или в тени) еще не исчерпывают специфику гор. Здесь действуют и повышенная ионизация воздуха, которая характеризуется преобладанием положительно заряженных ионов над отрицательными, а также частым изменением знака ионизации (с положительного на отрицательный и наоборот), что, по мнению некоторых исследователей, также служит причиной появления симптомов горной болезни. Разработка вопросов, касающихся разнообразного влияния высоты на человека, стала особенно актуальной и значительно продвинулась вперед в связи с развитием авиации, космонавтики, альпинизма, а также с хозяйственным освоением богатых горных районов и необходимостью искать новые методы лечения тяжелых заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почек и нервных болезней. Многие советские ученые, ведущие наблюдения над альпинистами и другими спортсменами в горах, пришли к выводу, что человек, находясь на больших высотах, способен приспосабливаться к недостатку кислорода в воздухе. Так, акклиматизировавшиеся в высокогорье или постоянно живущие там люди нормально чувствуют себя на высоте до 4500 м. Выше же 8000 м способны подниматься только горцы и особенно здоровые и хорошо тренированные к условиям таких мест спортсмены. Вместе с воздухом человек вдыхает кислород. Но для того чтобы донести его до каждой клетки организма, необходимо, чтобы хорошо работали сердечно-сосудистая система, клетки крови и система кровотворения. Если же какое-либо из звеньев этой цепи действует недостаточно четко и быстро или выключилось совсем, ткани начинают недополучать кислород и голодать — наступает гипоксия. При этом ткани перестают правильно функционировать и появляются симптомы тяжелой горной болезни, которые могут привести к смертельному исходу. Особенно уязвим при кислородном голодании мозг. Он несет наибольшую нагрузку, регулируя работу всех остальных физиологических систем организма и потребляя при этом 25 % получаемого клетками тела кислорода. Острый недостаток его приводит, в частности, к психическим нарушениям, например к потере чувства опасности и реальной оценки обстановки. Эти болезненные явления вместе с понижением функции зрения и исчезновением болевых ощущений были причиной гибели многих замечательных летчиков, которые под действием гипоксии, теряя самоконтроль, поднимались на большую высоту, где условия окружающей среды непереносимы для человека. Гипоксией люди страдают не только в горах, но и на равнине при таких болезнях, как пневмония, туберкулез легких, коклюш, астма, когда, как и на больших высотах, артериальная кровь недостаточно насыщается кислородом. Как же организм приспосабливается к своеобразным условиям обитания в горах? Выяснено, что, попадая в необычные горные условия и стремясь защититься от гипоксии и других вредных факторов, организм пускает в ход имеющиеся резервы, перестраивая все привычные ритмы тела, чтобы, например, при малом количестве кислорода в воздухе захватить его как можно больше и в нужном количестве донести до клеток всех тканей и органов. Это достигается повышением частоты дыхания и сердечных сокращений, что увеличивает вентиляцию легких и скорость кровотока, а также усилением деятельности функций кроветворных органов. По мнению некоторых ученых, дополнительные количества крови усиленно поступают из селезенки, этой кладовой, где хранятся ее запасы. Стимулируются и системы, участвующие в транспортировке крови к клеткам и от них — к сердцу и легким, расширяется сеть капилляров, по которым течет кровь, усиливается деятельность надпочечников. Напряженнее работают и клетки всего организма, обладающие огромными резервными «мощностями» по увеличению захвата кислорода и его утилизации. При этих процессах в крови возрастает количество эритроцитов (красных кровяных телец), этих мельчавших двояко-вогнутых дисков. Такая форма позволяет им иметь предельно большую для их размеров поверхность, так что в сумме для одного организма она составляет 3 га. В эритроцитах содержится носитель кислорода — гемоглобин. Этот пигмент недаром заслужил название чудесного соединения и самого интересного вещества в мире. Дело в том, что кровь транспортирует некоторую меньшую часть кислорода в виде раствора и большую — в виде химического соединения за счет гемоглобина. Он обладает способностью присоединять кислород, отбирая его там, где его много, и отдавая там, где его мало, причем проделывает это легко и быстро. После первой болезненной реакции на всю совокупность горных условий, после сердцебиения и одышки организм, приспособившись к новым условиям, переходит к более экономной работе, не теряя активности и трудоспособности. Важно то, что при этом процессе повышается общая устойчивость организма не только к горным, но и к любым неблагоприятным условиям. Это весьма важный факт для тренировки, закаливания всех систем организма, а следовательно, и для лечения людей в горных условиях. Это же имеет значение и для решения важного вопроса века космонавтики: как добиться выживания человека в самых неблагоприятных условиях. Многие ученые у нас и за границей исследовали процессы, происходящие в организме людей, родившихся и всё время живущих в горах, и сравнивали их с тем, что они наблюдали у тренированных и нетренированных пришельцев на эти высоты. Данные таких работ представляют большой интерес. Вспомним еще раз тех, кто в 1953 г. штурмовал Джомолунгму. Отряд состоял из жителей высокогорий Непала (шерпов) и европейцев. Основную работу по переброске снаряжения и продуктов выполняли шерпы. Носильщики шли с ношей по 15 кг каждый без кислородных приборов, которыми пользовались англичане, и меньше, чем последние, страдали бессонницей, потерей аппетита и головокружениями. При работе в высокогорной экспедиции на ледниках Терскей-Алатау, южнее озера Иссык-Куль, мне довелось убедиться, как рабочие и наблюдатели из высокогорных сел этого района с легкостью, без одышки, быстрым шагом взбирались по ледяному полю на высотах 3500–4000 м, в то время как географы и геофизики, прибывшие с равнин Европейской части Союза, задыхаясь и пыхтя, медленно тащились сзади, чувствуя себя разбитыми и обессиленными, и только спустя несколько дней их работоспособность возросла, хотя и оставалась меньшей, чем у местных жителей. Эти явления объясняются тем, что у аборигенов, выросших в горах, увеличены объем грудной клетки и жизненная емкость легких, а также количество эритроцитов и гемоглобина в крови, и что их ткани могут функционировать нормально и находиться в здоровом состоянии при получении меньших доз кислорода по сравнению с жителями низин. Много опытов с животными в горах и в барокамере, где создавалось необходимое пониженное давление, провели наши ученые, которые (как и перуанцы Хуардо и Кларк)пришли к выводу, что при длительной акклиматизации, по-видимому, имеется «тканевая форма» приспособления к климату гор, более экономичная, чем та, которая характерна для пришельцев. Хотя в этих сложных вопросах еще много неясного, но предполагается, что в этом процессе принимает участие некоторое снижение функций щитовидной железы. Учеными был обнаружен и другой «виновник» горной болезни. Оказалось, что одышка, удушье и чувство дурноты, появляющиеся в горах при усиленной мышечной работе, связаны с гипокапнией, то есть о чрезмерно низким содержанием углекислого газа в крови и тканях человека. Почему же возникает недостаток углекислоты в горах? При учащенном дыхании, которое бывает на больших высотах, углекислота «вымывается» из легких и содержание ее в крови падает. Образование ее в тканях в этих условиях тоже понижено. А между тем от количества углекислоты в крови зависит снабжение тканей кислородом, так как она является регулятором окислительных процессов, происходящих в организме. При гипокапнии падает артериальное давление, замедляется кровообращение, сужаются сосуды мозга, ухудшается его питание, что и вызывает некоторые болезненные симптомы, свойственные горной болезни. Совсем иначе все происходит на равнине: при усиленной мышечной работе, например при езде на велосипеде, температура мышц повышается, что усиливает выделение углекислоты в тканях в 5–8 раз. Она, как и другие кислотные продукты, попадает в кровь и способствует усиленному отщеплению кислорода от гемоглобина. А это в свою очередь увеличивает поступление кислорода в ткани и тем самым улучшает их питание. Известно, — что углекислота переносится плазмой Крови и эритроцитами, но в основном (более 80 %) ее транспортирует гемоглобин. У взрослого человека на равнине в условиях покоя в тканях вырабатывается и поступает в кровь около 12 л углекислоты в час, а при усиленной работе — в несколько раз больше. Углекислый газ — важнейший стимулятор для дыхательного центра: повышение его количества в артериальной крови приводит к усилению дыхания. Имея в виду важность снабжения организма как кислородом, так и углекислым газом, правильнее всего рассматривать их действие в совокупности и акклиматизацию к горным условиям считать приспособлением организма не только к гипоксии, но и к гипокапнии. Нельзя забывать, что значение углекислоты не ограничивается влиянием на возбудимость дыхательного центра» От ее количества в организме зависит и его кислотно-щелочной баланс. В горах, при усиленной легочной вентиляции, организм обедняется углекислотой в сутки на 1–2 кг. Это, естественно, приводит к сдвигу реакции циркулирующих в организме жидкостей в щелочную сторону. Почкам приходится удалять избыток щелочей. Но в этом процессе таится и опасность, которая заключается в понижении способности Крови связывать кислоты, образующиеся при усиленной мышечной работе. Вот и возникают одышка и удушье у альпинистов при подъеме и у спортсменов при выполнении упражнений на высокогорье. В таких случаях требуется акклиматизация к новым условиям. При акклиматизации к горам четко выявляется роль активных мышечных движений. Многие альпинисты, побывавшие на Эльбрусе и на ледниках Памира, вспоминают, что те из них, кто после тяжелого восхождения начинал готовить еду, разбивать лагерь, ставить палатки, чувствовали себя гораздо бодрее и здоровее, чем те, кто садился отдыхать. Известно, что в процессе акклиматизации к горному климату в организме человека происходит перестройка, оказывающая в отдельных случаях благотворное влияние. Например, уже упомянутое изменение обмена в горах в сторону щелочности в конце концов способствует улучшению деятельности почек. Так что при некоторых заболеваниях их в этих условиях организм сам себя лечит. Антропологи подметили, что горцы взрослеют в более позднем возрасте, чем жители равнин. Бесспорно и то, что ткани спортсмена моложе, чем у его нетренированного сверстника. Оказывается, что и к этому явлению «протеиновой молодости» причастны гипоксия и гипокапния. Значит, дополнительные затраты энергии организмом, необходимые в условиях гор и при занятиях спортом, и замедление периода повзросления не укорачивают, а продлевают жизнь. Несомненно, что отсутствие в горах подавляющих нервную систему городских шумов, сутолоки, спешки также оказывает положительное влияние на организм. Целебность горного воздуха связана с тем, что он чист, лишен пыли, гари, аллергических веществ, ионизирован и имеет бодрящую пониженную температуру, кроме того, пронизан биологически активными ультрафиолетовыми лучами и по сравнению с воздухом низин, особенно городским, в нем гораздо меньше различных болезнетворных организмов. Поэтому горы издавна используются как природный лечебный фактор. Считается, что особенно успешно в горах лечится легочный туберкулез. Недаром такие курорты, как швейцарский Давос, и многие другие на берегах озер в Альпах, а также в горах Шотландии и на Кавказе, давно приобрели мировую славу. Оказалось, что не только легочные, но и некоторые сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз и тонзиллиты, плохо поддающиеся Лечению на равнине, гораздо лучше врачуются в горах, где усиление кроветворения, транспортировки крови, увеличение гемоглобина в ней, а также урегулирование обменных процессов и благотворное воздействие некоторого повышения высоты на нервную систему приводят к тому, что нарушенные связи между природной средой и организмом нормализуются. Исследования показали, что горы полезны не всем больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, а лишь тем из них, у которых болезнь, например гипертония, находится еще в начальной стадии, когда приспособительные реакции организма не слишком ослаблены. Известно, что повышение абсолютной высоты по-разному влияет на общую возбудимость организма, особенно в первые дни пребывания в горах: одни люди испытывают чувство повышенной энергии и веселья, а другие, наоборот, подавлены и малоподвижны. Использование этих наблюдений позволяет надеяться на успех в применении «лечения горами» и при некоторых формах психических заболеваний. Выяснено и то, что в лечебном отношении условия низкогорья, к которым относятся местности с высотой 750—1000 м и среднегорья с высотами 1000–2500 м (иногда — до 3000 м) над уровнем моря, представляют большую ценность для отдыха, туризма и лечения. Климат же высокогорья для большинства людей вреден, так как требует слишком сильного напряжения приспособительных систем организма. Его могут переносить без вреда аборигены, альпинисты и те, кто имеет хорошее здоровье и прошел длительную акклиматизацию (например, работники высокогорных метеорологических станций, обсерваторий, пограничники и т. д.). Следует сделать оговорку, что деление местностей на низко-, средне- и высокогорные в достаточной степени условно, поскольку одни и те же высоты где-нибудь в Карпатах, на Памире и в Тувинской АССР действуют на человека неодинаково. Известно, что для горных местностей не характерна резкая смена погоды, связанная с прохождением атмосферных фронтов, сопровождающаяся резкими скачками температуры, влажности и ветра. Особенно явно проявляется это в местностях, расположенных в долинах и котловинах, защищенных высокими склонами хребтов. Отсутствие резких смен погоды, например на среднегорном грузинском курорте Либани (высота — 1360 м), благотворно действует на туберкулезных и нервных больных, а также на тех, кто страдает гипертонией и атеросклерозом начальных стадий. В Эльбрусской больнице достигнуты весьма обнадеживающие результаты в лечении у детей такой тяжелой и затяжной болезни, как хроническая пневмония, а также тонзиллитов и некоторых других болезней. В Азербайджане есть знаменитый курорт Шуша, название которого в переводе означает «стекло». Назван он так за исключительно чистый ионизированный воздух. Этот среднегорный курорт расположен на высоте 1400 м. На нем имеется и минеральный источник Туршсу. Совокупное действие горного климата, живописных окрестностей, своеобразной растительности и минеральных вод способствует улучшению здоровья как гипертоников, так и гипотоников, то есть нормализует и повышенное и пониженное давление крови. Здесь у больных приходит в норму частота сердечных сокращений, исчезают одышка и боли в области сердца. Это приводит к улучшению сна, аппетита, настроения. Успешно лечат на этом курорте и больных атеросклерозом и некоторыми заболеваниями сердца. Во всем мире с каждым годом придается все большее значение горным курортам. Оказалось, например, что, постепенно приспособившись к условиям окружающей среды на высотах 1000–2000 м над уровнем моря, человек делается более устойчивым к действию ядов и ожогов, и у него быстрее заживают раны. Благотворно действуют горы и на почечных больных. Оказалось возможным использовать здравницы Горного Крыма, Кавказа и Тянь-Шаня для восстановления здоровья и при такой трудно поддающейся лечению болезни, как бронхиальная астма (у взрослых и детей), в то время как борьба с этим недугом в самых благоприятных климатических условиях равнины — на побережьях теплых и холодных морей и внутри континента — малоэффективна. В Кисловодске или Бакуриани под действием гипоксии и гипокапнии у таких больных значительнее усиливается вентиляция легких и увеличивается объем вдыхаемого воздуха, в связи с чем повышается насыщение артериальной крови кислородом. В результате снабжение им клеток и тканей приближается к норме. При этом ликвидируются хрипы, удушье, а значит, наступает долгожданное выздоровление. Достигнутое в горах улучшение состояния больного тем более ценно, что оно обычно сохраняется и тогда, когда человек покидает горы. Лечение астматиков, как показали многочисленные опыты, лучше всего проводить путем ступенчатой акклиматизации к гипоксии и гипокапнии. Больных поднимают вначале на небольшую высоту. Затем, когда они акклиматизируются, их поднимают немного выше и т. д. Большие возможности в применении метода ступенчатой акклиматизации при лечении не только астмы, но и других болезней таят в себе горные курорты Киргизии, особенно те, которые расположены в районе озера Иссык-Куль на высоте около 1600 м. Очень хорошие условия климатолечения имеются на алтайских курортах — Белокурихе и Чемале, где можно использовать не только благотворное влияние гор, но и минеральные радоновые воды. Курорты Тувы с их горно-таежным воздухом, горячими целебными ключами и своеобразными ландшафтами, такие, как Уш-Белдир в восточной части республики, а также малоисследованные Изиг-Сугские, Тарнинские, Бай-Тальские источники, сулят большие возможности для комплексного врачевания климатом гор и целебными ваннами. Дальнейшее изучение и освоение гор как необычной среды, в которой изменяется течение многих процессов в организме человека, привлекает пристальное внимание ученых разных специальностей. Все больше туристских спортивных баз и оздоровительных учреждений возникает на Кавказе, Алтае, в Забайкалье, а часть замечательных горных ландшафтов государство берет под свою охрану, делая их заповедными.
Н. Данилова
ЗВЕРИ
В ЧЕШУЙЧАТОЙ БРОНЕ

Отряд панголинов, или ящеров, — одно семейство и один род очень странных на вид животных. Как и у истинных вымерших ящеров, их тело одето роговой чешуей. Только конец и бока морды, горло, брюхо, внутренняя поверхность конечностей (у некоторых видов и наружная) и небольшая «подушечка» на конце хвоста не покрыты чешуей. Прежде панголинов объединяли в один отряд с неполнозубыми. Теперь полагают, что их сходство чисто внешнее, конвергентное, возникло под влиянием сходного образа жизни. У панголинов совсем нет зубов, но есть роговые зазубренные пластины в желудке (в пилорической части у выхода в кишечник), которые, как жернова, перетирают проглоченных зверем муравьев и термитов. Поскольку панголины челюстями не жуют, у них нет на черепе соответствующей мускулатуры. Мечевидный отросток грудины очень длинный и иногда вытянут далеко назад в брюшную полость, вплоть до почек. На нем крепятся мышцы, выбрасывающие язык и втягивающие его обратно в рот — в особое влагалище, задний конец которого заходит даже в грудную полость. Язык шнуровидный, липкий, очень длинный: у крупных особей — до сорока сантиметров. Разросшиеся слюнные железы (вплоть до плечевой области) обильно смачивают его клейким секретом, к которому прилипают насекомые. Ушных раковин у африканских панголинов нет вовсе, у азиатских — небольшой кожный валик вокруг наружного ушного отверстия. Сорок — пятьдесят миллионов лет назад панголины водились и в Европе (их кости найдены в южной Германии и Испании). Размеры их были внушительные. Найденный на острове Ява скелет достигал в длину двух с половиной метров. Возможно, панголины, эволюционируя, развились из общей с неполнозубыми ветви животного царства, но не исключено, что они произошли прямо от древних насекомоядных зверей.
Кгвара!
Речка была неширокой, но на перекатах пенилась и бурлила. Первым вошел в воду лев, за ним львица. Вздернув брезгливо хвосты, они сначала шли по дну, борясь с силой течения, потом поплыли. Лекуле стоял за кустом, шагах в двухстах от зверей, и, когда они поплыли, вошел в воду и он. На двух ногах труднее, чем на четырех, устоять против течения, и как только он почувствовал холод воды у пояса, поплыл, подняв над головой палку с узелком. Так и плыли: лев, львица и Лекуле — метрах в двадцати. Раз львы вошли в воду, значит поблизости нет крокодилов, потому и Лекуле отважился на переправу. Львов он не боялся: знал, что одной чешуи кгвары, которая на тонком шнурке висела у него на шее, достаточно, чтобы предохранить от опасности. Шип кгвары дала ему мать, когда уходил он на юго-запад, в Иоганнесбург. Но лучше о тех днях не думать… Черный костюм белого человека, купленный у миссионера за пять коз, не помог. А шип кгвары спасает, похоже, только от львов. Овчарок и полицейских его магическая сила не пугала… Домой, домой возвращался он. Шел и степью, и перелесками, что росли у высохших и наполнешагх мутными потоками русел рек, плутал в камышах, когда обходил болота. Прошел двести миль по саванне с узелком на палке, в котором лежал непригодившийся костюм. До деревни в стране Лобеду осталось немного. Выбравшись на берег, он запел. Львы оглянулись и ушли своей дорогой, а Лекуле пошел своей. Шел и пел, радуясь. А солнце обжигало голую спину, и зимородки искрились над рекой. И буйволы паслись большим черным табуном за редкими деревьями саванны. А там, где лес был погуще, с треском ломали сучья слоны. Лекуле видел только их хоботы, сокрушавшие ветвистую опору листвы, и огромные уши, чутко подвижные. Он оглянулся, когда услышал, что слоны гневаются. Раскинув уши и хоботом ловя ненавистный человеческий запах, один уже бежал к нему. Тогда и Лекуле побежал. Бежал и смеялся, хотя дразнить слона не Хотел. Просто смешно, что старый тембо думает здесь поймать Лекуле. Он перебегал от дерева к дереву, и, когда прятался за стволы, слон топтался на месте и зло кричал своим голосом, нелепо жалким для такого воплощенного в костях и мясе могущества. Слон ушел к слонам, а Лекуле снова запел. И вдруг замер с занесенной для шага ногой… Тот, кого он увидел там, куда хотел наступить, напугал и опечалил его больше слонов и львов, больше черной мамбы, которая вчера чешуйчатой молнией пересекла тропу у самых его ног. И зачем судьба свела их пути! О, Муджаджи, королева дождя, нелегка твоя ноша! Лекуле стоял и думал: нелегок будет его груз в узелке. Он вздохнул безрадостно, снял с палки и развернул свой черный костюм, закатал в пиджак свернувшегося у его ног зверя, связал поверх брюками, вскинул на плечо негаданную ношу и зашагал дальше, уже без песни, сетуя на свою судьбу. — О, кгвара, тяжелый ты. Почему не сидел в своей норе? О, Бвана-мганга, я спешу домой! Встречу ли любопытного? До деревни — день пути, но если не встретит Лекуле никого из своего народа и если никто не спросит его, что несет он в узле, то еще три дня идти ему с кгварой на плече до крааля главного вождя… И путь показался дальним, и петь Лекуле уже не хотелось. Ночь проспал он на баобабе, а утром вчерашние тревоги рассеялись. Не знал он в своем народе нелюбопытных, а встретить земляка совсем не трудно. Так решил Лекуле и с легким сердцем отправился в путь. Когда подходил к холму, за которым была его деревня, повстречался ему человек. Они приветствовали друг друга, как принято. Они поговорили о том, о чем говорят при встрече. А потом, конечно, незнакомец спросил Лекуле, что несет он в узле. Лекуле, улыбаясь (потому что очень хотел домой), ответил: «Кгвара!» И развязал узел. — Но мне не во что его завернуть, — сказал незнакомец, досадуя на свое любопытство. — Возьми это, — сказал Лекуле и отдал пиджак (штаны были нужнее). Разошлись они — Лекуле без груза домой, а незнакомец в дальний путь с кгварой в узле и надеждой в сердце, что, быть может, скоро встретит и он любопытного, и тот спросит, что он несет. И отдаст тогда ему кгвару. Без обиды разошлись — таков обычай на севере Трансвааля в стране Лобеду.Беззубые и немые
Сколько разных имен у панголина! Кгвара, кхаха, инкаке, кси чвару, гвереквете, кака, нголоу оломанга, накка, абу-кхирфа, бвана-мганга, прале, кокороко, олобе, йекпо, зоне, зе… (страницы для всех не хватит). Абу-кхирфа — значит «коровий отец», а бвана-мганга — «господин доктор»; верят в Африке: если сжечь живьем панголина в загоне для скота, то скот будет и здоров, и плодовит. Чешуя панголина на шее — талисман, надежно охраняющий от львиных когтей и зубов. Кольцо из той же чешуи на пальце — лучшее средство от дурного глаза. Чешуя, истолченная в порошок, спасает от сильного кровотечения, особенно из носа. Поэтому и цена одной чешуи кгвары на рынках Иоганнесбурга — два с половиной шиллинга. Чешуя, когти, шкура, волосы — все, что имеет кгвара, ценится местными врачевателями, а из панцирей панголинов кое-где шили чешуйчатые доспехи. Стрелы будто бы их не пробивали. И не удивительно, что панголин стал редким зверем. Ведь их истребляли тысячами. И все-таки живы панголины! Поражая странным своим видом, точно выходцы из давно минувшей эры динозавров, лазают они по деревьям, цепляясь длинным чешуйчатым хвостом за ветки. Только два панголина, оба африканские — степной, (кгвара) и гигантский (кокороко) — живут на земле (первый взбирается и на деревья). А всего панголинов семь видов: четыре африканских и три южноазиатских. Африканские производят на свет обычно лишь одного потомка в год, азиатские — от одного до трех. У африканских между чешуями нет никаких волос, у азиатских — три-четыре щетинки в основании каждой чешуи. У древесных панголинов снизу на конце хвоста — голая (без чешуй) осязательная «подушечка», у наземных — конец хвоста сверху и снизу сплошь порос чешуями. У длиннохвостого и белобрюхого африканских панголинов передние ноги покрыты чешуями лишь сверху, у всех прочих — до самых пальцев. Длиннохвостый панголин — своего рода рекордсмен в мире зверей: у него в хвосте 46–47 позвонков. Он же и самый тяжелый среди панголинов — до 27 кг, а длина (вместе с хвостом) — до 1 м 80 см. Размер других — от 70 см (белобрюхий) до 1,5 м (малайский). Длиннохвостый панголин кормится днем, спит ночью, все другие — наоборот (малайский тоже иногда бродит днем). Степной, гигантский и индийский панголины спят в норах, которые в глубь земли уходят нередко на 3 м и там расширяются до 2 м в окружности. Спальни других панголинов — дупла деревьев. Из четырех видов африканских панголинов три (длиннохвостый, белобрюхий и гигантский) живут в тропических лесах Западной Африки — от Сенегала или Сьерра-Леоне до Северной Анголы и восточных границ Конго. А один — степной панголин — в саваннах Восточной и Южной Африки. Индийский панголин в Индии и на Цейлоне, китайский, или ушастый, — в Южном Китае, Непале и на Тайване, а малайский — в Индокитае, Индонезии (на Сулавеси его нет) и Филиппинских островах. Таковы черты несходства между панголинами, в остальном — и образом жизни, и «симметрией тела» — они подобны. Одно из названий зверя — «панголин» происходит от малайского слова «панголин», которое означает способность сворачиваться в шар. Панголин умеет так прочно свернуться, прикрыв лапами и головой небронированное брюхо, что некрупный хищник развернуть его не в силах. Даже человек с трудом справляется с этой задачей. Но ее выполнение не приносит ничего, кроме неприятности: как только панголин поймет, что его развернули, сейчас же обильно и метко прыскает в нарушителя его спокойствия едкой мочой.Еще неясно, каким образом смешивается при этом моча с выделениями анальных желез.Когда еж свернется шаром, его защищают колючие иглы, а панголина в таком же оборонительном положении — роговая броня, которой надежно укрыто все его тело, за исключением брюха. Броня похожа на чешуйчатые доспехи: ее пластины лежат одна на другой, как у еловой шишки. Раньше думали, что это «слипшиеся» волосы. Но, внимательно исследовав чешуи панголинов, убедились, что устройством своим они напоминают скорее ноготь, чем волос. Если панголин потеряет хоть одну из них, на ее месте скоро вырастет новая. Поэтому число чешуй у панголинов каждого вида всегда одинаково.Доктор У. Рам
Происхождение этого образования от чешуй рептилий еще не доказано. Подобные чешуи есть у многих животных на хвостах (опоссумы), а вперемешку с волосами — у большинства мышей, у муравьедов.Обремененные панцирем панголины тем не менее ловко лазают по деревьям, хватаясь за ветки и стволы острыми когтями и цепкими хвостами (напомним, что цепкими хвостами обладают еще такие звери: бинтуронг, кинкажу, средний и малый муравьеды, некоторые сумчатые, американские обезьяны и немногие грызуны — древесные дикобразы и мыши-малютки). А лазают панголины по вертикальным стволам на манер гусениц: сначала хватаются за дерево передними лапами, потом, изогнув тело дугой вверх, подтягивают под себя задние ноги. Хвост при этом упирается в кору острыми концами чешуй, как стальными кошками. Особенно ловко карабкаются вверх-вниз по стволу и с ветки на ветку белобрюхий и длиннохвостый панголины. По земле они бегают не резво (но быстрее черепахи). Белобрюхий в секунду одолевает лишь метр расстояния. Это значит, что часовая его скорость — 3,6 км. Степной панголин (зверь наземный, не древесный) за то же время уйдет вперед еще лишь на километр. Мешают им ходить длинные когти на передних лапах (на задних они короткие). Поэтому панголины, согнув пальцы передних лап, поджимают когти и ковыляют по земле, опираясь на верхнюю поверхность ступней. Нередко ходят они подобно кенгуру (но, конечно, не так быстро) лишь на задних ногах, балансируя в воздухе длинным хвостом. Но вот в деле, которым занимаются панголины по ночам, эти непригодные для ходьбы когти незаменимы. Крушат ими прочные термитники и муравейники и в каждую дырочку, пробитую саблевидными когтями, суют узкую морду, а из морды дальше во все закоулки запускают липкий, тонкий и длинный язык. Муравьи или термиты язык облепят, а панголин тут же втянет его в рот. Добычу быстро глотает — жевать некогда и нечем — и тянется языком за новой порцией. Муравьи и термиты атакуют, конечно, не только язык панголина, но лезут ему в морду, в глаза, уши и под чешуи. Но глаза, когда муравьи грозят ослепить их, зверь прикрывает толстыми веками, уши и ноздри смыкают особые мускулистые складки. С чешуи сбрасывает панголин муравьев резкими движениями. Все предусмотрено для обороны от коллективных насекомых. Поэтому даже на страшных бродячих муравьев из племени эцитонов, от которых бежит все живое и которые — однажды случилось — съели живьем даже леопарда, отваживаются нападать панголины. Самый крошечный белобрюхий панголин съедает за ночь 200 г термитов, а гигантский ящер около 2 кг. Кроме муравьев, термитов, их яиц и личинок некоторых других насекомых, панголины ничего не едят. Поэтому так трудно содержать их в зоопарках: звери умирают от истощения через несколько недель. Но в Пражском зоопарке индийские и китайские панголины жили двадцать месяцев. Их кормили «пюре» из сырого и вареного фарша, моркови, творога, куриных и муравьиных яиц и овсяных хлопьев, смоченных медом. Про панголинов рассказывают, что иногда они залезают в гнезда к муравьям, чтобы почиститься. Усядется зверь среди кучи взбешенных насекомых и растопырит, приподняв, свои чешуи. Муравьи набьются под них, кусают, а он терпит. Посидит так немного, потом, прижав чешуи, давит муравьев. Такие же «муравьиные ванны» принимают и многие птицы, забравшись в муравейник и взъерошив перья. Муравьи, в изобилии расточая под перьями и чешуей едкую муравьиную кислоту, помогают, по-видимому, птицам и панголинам избавиться от паразитов. Эту странную дезинсекцию называют энтингом. Любят панголины купаться под дождем и душем (в зоопарках) и пьют немало: лакают воду, вернее, не лакают, а просто, смочив язык, обсасывают его. Но проделывают это очень быстро, так что мелькающие туда-сюда — в рот и в воду — движения языка похожи на дакание.Доктор Инго Крумбичель
Адаж нашел маленькую лужицу в углублении норы панголина, из чего заключил, что зверь преднамеренно заготовил воду в этом резервуаре, чтобы во время опасности или в плохую погоду не выходить из своего дома, а пить в норе. Однако Адамс не указал, как была обработана почва резервуара, чтобы в нем удержалась вода, и каким образом он был наполнен. Возможно, требуется иное объяснение происхождения лужицы в норе. Впрочем, панголин не единственный из зверей, кто, возможно, запасает воду в норе. Так, в каждой системе подземных ходов водяной крысы есть более или жнее отвесно уходящие вниз «шахты», которые, например в болотистых низинах у берегов Эльбы, доходят до подпочвенных вод и там кончаются. В этих «колодцах» водяная крыса всегда может найти хотя бы каплю води. Известно, что и крот роет углубления в норе для этой цели.Живут панголины в одиночестве, реже парами. Обычно самки и самцы встречаются и поселяются в одной норе только во время размножения. Родятся детеныши поздней осенью и зимой с еще мягкой броней, но через несколько дней она твердеет. Забираются к матери на хвост и, крепко вцепившись в него, разъезжают таким образом и по земле, и по деревьям. У индийского и наземных панголинов основание хвоста — «седло», на котором у других видов сидят детеныши-наездники, слишком широко, и малышу трудно его обхватить. По-видимому, самки этих панголинов (а иногда с ними и самцы), пока не подрастут их дети, прячутся в норах, свернувшись и прижав дитя к груди, по бокам которой у панголинихи два соска. Странно, что у всех панголинов — и крупных и мелких — новорожденные детеныши ростом почти одинаковы (20–30 см) и весят чуть больше 200 г. Панголины — животные немые. Все звуки, которые способны они издавать — шипение и треск, — производятся не голосом, а сопящим носом и трением чешуй друг о друга. Психические способности панголинов невелики, так как мозг примитивен и мал: лишь 0,3 % от веса животного. Впрочем, этот показатель говорит не о многом: у слона, например, относительный вес мозга еще меньше, а слон умен. Морской лев тоже не глуп, а мозга в его теле не намного больше, чем у панголина. Дело здесь, конечно, не столько в количестве, сколько в качестве мозга, в новейших его структурах: больших полушариях, их коре и извилинах. Всего этого панголинам не хватает.Доктор Эрна Мор
И. Акимушкин
КОРОТКО О РАЗНОМ
Сотрудники лаборатории морской биологии в Плимуте установили интересный факт. У акул, как известно, нет плавательного пузыря. Его функции выполняют сильные грудные плавники. Однако у некоторых акул, например, обитающих в Бискайском заливе, роль органа, облегчающего плавание, выполняет печень. В печени этих акул содержание органического вещества — сквалена — достигает 90 % (обычно его содержание в печени других видов акул не превышает 1 %). Удельный вес сквалена — 0,86. Следовательно, печень обеспечивает плавучесть этих хищников. Грудные плавники у них не развиты.
Польский профессор Ян Сиута успешно разрабатывает методы практического использования карьеров и пустой породы, остающихся после добычи полезных ископаемых. Эта проблема весьма остро стоит во многих странах Европы. В Силезии уже проведен эксперимент, при котором пустой породой, извлеченной из каменноугольной шахты «Хваловица», был засыпан открытый карьер, где до этого добывался известняк. Новые участки были удобрены городскими отходами и растворами микроэлементов. На них удалось получить весьма высокие урожаи овощей. По методу польского специалиста одновременно можно ликвидировать горы пустой породы и ямы карьеров.
ЗА ГОЛУБЫМ БАРЬЕРОМ

Морская геология — молодая, бурно развивающаяся отрасль естествознания, возникшая на стыке двух наук — геологии и океанографии. Область, которую она исследует, весьма велика. Это земная кора, покрытая водами Мирового океана, занимающего, как известно, три четверти поверхности нашей планеты. Рождение морской геологии произошло около ста лет назад. Обычно его связывают со знаменитым кругосветным плаванием английского судна «Челленджер» в 1872–1876 гг., хотя эпизодические исследования морского дна проводились и раньше.
Первые глубоководные исследования
Во второй половине XIX в. возникла необходимость проложить кабель подводного телеграфа по дну Атлантического океана. Но можно ли приступать к делу, не зная ни глубины, ни строения океанского дна? Что там, на дне, — горы или равнины, вязкий ил или голые скалы? Представления об условиях, царивших на больших океанских глубинах, были в те времена весьма смутными. Почти ничего не знали ни о рельефе, ни о характере пород, слагающих дно. Даже относительно глубин океана ходили самые невероятные слухи. Говорили о невиданных Морских чудовищах, живущих в морских пучинах, о сверхбыстрых глубинных течениях, которые якобы могут воспрепятствовать прокладке кабеля. Скептики откровенно заявляли, что подводный телеграф — пустая, неосуществимая затея. Вокруг проекта разгорелись ожесточенные споры. Наконец, в 1868 г. от берегов Великобритании в океан отправилось специальное исследовательское судно «Лайтнинг», которое провело тщательные измерения глубин Атлантики. Через год вслед за ним другой корабль — «Поркупайн» добыл первые образцы донных осадков с глубины около 8 км. Версии о необычных подводных течениях и чудовищах не подтвердились. Но первые результаты глубоководных исследований возбудили новый интерес к океанским глубинам и привели к организации экспедиции «Челленджера», вписавшей славную страницу в историю океанографических открытий. Плавание «Челленджера» продолжалось три «половиной года. За это время корабль пересек Атлантический, Индийский и Тихий океаны, побывал в Африке и Австралии, Азии и Америке. Ученые собрали большую коллекцию донных осадков и выполнили многочисленные измерения океанских глубин. В итоге была составлена первая карта грунтов Мирового океана и разработана классификация донных отложений. Вслед за «Челленджером» на рубеже XIX и XX вв. в океан отправляются и другие исследовательские суда. Немало нового в изучение геологии морского дна внесли экспедиции на американском судне «Альбатрос», немецких судах «Вальдивия» и «Гаусс», датском «Тор», голландском «Снеллиус». Многое было сделано и Фритьофом Нансеном во время его знаменитого плавания на «Фраме» в Северном Ледовитом океане. В России морской геологией стали заниматься уже в 1865–1870 гг., когда русские корветы «Аскольд» и «Варяг» проводили систематические измерения больших глубин. В 1881 г. М. Рыкачев сделал первое обобщение таких материалов. Изучение морских осадков было начато в 1890 г. Работы велись в Черном море на экспедиционном судне «Черноморец» под руководством академика Н. И. Андрусова. Им было установлено уникальное явление — заражение сероводородом всей толщи вод и осадков в Черном море на глубинах свыше 200 м. В 1898 г. Н. М. Книлович организовал Северную научно-промысловую экспедицию в Баренцево море. Она и положила начало планомерному изучению донных осадков Северного Ледовитого океана.Морская геоморфология
Многое ли можно узнать о строении дна, измеряя океанские глубины с помощью обычного лота — груза, подвешенного на пеньковом канате, тросе или металлической струне? Ведь средняя глубина Мирового океана — около 4 км, а максимальная 10–11 км. Но именно таким способом были измерены глубины во время экспедиций «Челленджера», «Лайтнинга», «Черноморца», «Варяга», «Альбатроса» и множества других судов вплоть до 20—30-х годов нашего столетия. Поэтому морская геоморфология (наука о рельефе морского дна) долгое время располагала ничтожным количеством данных. Из-за этого и создалось ложное представление о чрезвычайной выровненности океанского дна. Кроме того, несовершенство измерения глубин порождало множество ошибок. Открывали несуществующие подводные горы и возвышенности, которые и сейчас еще нередко приходится «закрывать» современным исследователям. В 1987 г. Монакский океанографический институт издал батиметрическую карту Мирового океана, обобщившую результаты глубоководных промеров. В распоряжении составителей оказалось около 18 тыс. измерений. И все же это было ничтожно мало. Ведь в среднем на каждые 20 тыс. кв. км Мирового океана приходилось всего лишь одно измерение глубины. Для наглядности можно указать, что при такой густоте точек на всю акваторию Каспийского моря пришлось бы только 18 измерений. Из этого тупика морскую геоморфологию вывел ультразвуковой эхолот. Вместо тяжелой, утомительной многочасовой возни с грузами и лебедками, тросами и барабанами — компактный прибор, позволяющий в течение нескольких секунд измерить любую глубину с точностью до одного метра. Океанское дно, казавшееся ранее однообразным и ровным, примитивно простым по строению, стало все более усложняться. Наряду с холмистыми и плоскими абиссальными (глубоководными) равнинами выявилась меридиональная система срединных океанических хребтов. Они протянулись на многие тысячи километров в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Оказалось, что они рассечены вдоль осевой части глубинными разломами — гигантскими трещинами в земной коре, так называемыми рифтовыми долинами. Помимо срединных хребтов на океанографических картах появилось и множество других горных образований. Они протянулись в виде цепочек подводных вулканов и хребтов с коралловыми островами, океанических кряжей и характерных валообращшх поднятий, на которых возвышаются гайоты — подводные горы с уплощенными вершинами. На периферии океана, именуемой переходной зоной, обнаружилась закономерная смена крупных элементов рельефа: за глубоководными желобами, дно которых нередко погружено на 10 км и более, следуют гористые цепи островных дуг, окаймляющих глубоководные котловины окраинных морей. Далее — подводная окраина материка; в своем геологическом строении она имеет уже много общего с континентами. По последним данным, в этой области можно выделить материковое подножие, довольно крутой материковый склон, который прорезают поперечные подводные каньоны, и более отлогий шельф, называемый иногда материковой отмелью.Земная кора под дном океанов
Геологические и геофизические исследования свидетельствуют о том, что земная кора, покрытая водами Мирового океана, весьма своеобразна. Как оказалось, существует особый океанический тип земной коры. Он отличается от материкового прежде всего толщиной. Под континентами она колеблется от 25 до 80 км, под океанами же обычно не превышает 6–7 км. Внутреннее строение океанической коры также имеет свои особенности. Под слоем довольно слабо консолидированных осадков мощностью в несколько сот метров залегает второй, промежуточный, или переходный, слой. Предполагают, что он сложен уплотненными осадочными породами, пронизанными прослоями вулканических пород. Мощность второго слоя — от 0,7 до 1,5 км. Далее следует базальтовый слой, образующий нижнюю часть земной коры под океанами и континентами. Он граничит уже непосредственно с мантией, представляющей глубинные части Земли. Поверхность раздела земной коры и мантии, так называемая поверхность Мохоровичича, или просто Мохо, была обнаружена по резкому возрастанию скорости сейсмических волн, проходящих земную кору. На материках между осадочным и базальтовым слоями залегает еще мощный гранитный слой. Породы эти лишь условно называют базальтами и гранитами из-за сходства их свойств, определенных сейсмическим методом, со свойствами аналогичных пород, распространенных в земной коре.Глубинное бурение в океане
Ученые давно мечтали заглянуть в самые недра земной коры и даже проникнуть еще ниже — в загадочную мантию Земли. Лет десять назад был разработан международный план совместных исследований, получивший название плана «верхней мантии», или проекта «Мохол». По этому плану в СССР было намечено бурение сверхглубоких скважин в Карелии, Казахстане, на Урале, Кавказе и на побережье Тихого океана. Так как толщина земной коры в океане значительно меньше, чем на континентах, видимо, легче достигнуть мантии Земли при бурении океанского дна. Поэтому американские геологи весной 1961 г. начали экспериментальное бурение в Тихом океане в 64 км от острова Гваделупа. Глубина океана здесь — 3660 м. С борта экспериментального бурового судна «KUSS-1» была пробурена скважина, проникшая в толщу донных осадков на 167 м, затем она углубилась еще на 13 м в базальт. Дальнейшее бурение пришлось прекратить по техническим причинам. Позднее в Тихом океане, у берегов Калифорнии, где глубина достигала 1000 м, пробурили дно океана на 316 м. Базальтовый слой при этом не был достигнут. Целый ряд других попыток пробиться к загадочной границе Мохоровичича тоже окончились неудачно. Первые опыты глубоководного бурения выдвинули перед специалистами немало сложных технических проблем. Основная трудность связана со спецификой работы в морских условиях. Как защитить судно от штормов и тайфунов? Как удержать его на одном месте, чтобы не погнуть и не оборвать длинную нить буровых труб, спущенных на дно? И главное, как менять изношенный буровой инструмент? Твердые прослои кремней, встречающиеся в толще менее плотных осадков, оказались почти непреодолимым препятствием при глубоководном бурении. Даже наиболее прочные алмазные долота крошатся в пыль при встрече с такими прослоями. На суше для смены долота приходится извлекать из скважины всю буровую колонну. А как сделать это в океане? Кроме того, замененный буровой инструмент снова нужно вставить в устье скважины, скрытое за многокилометровой толщей океанской воды! Был предложен ряд технических решений для устранения возникших трудностей. Все они, однако, оказались слишком дорогостоящими. Поэтому в 1966 г. проект «Мохол» отложили в сторону. Несколько позднее его заменили новым проектом — «Джоидес», которым предусматривалось объединить усилия пяти научно-исследовательских учреждений США, занимающихся вопросами морской геологии. Этим проектом уже не ставилось обязательной задачи — достичь мантии Земли, но зато было намечено планомерное и систематическое изучение донных осадков с помощью бурения. В 1968–1969 гг. в соответствии с проектом пробурили около 150 скважин в Атлантическом и Тихом океанах на глубинах от 2 до 6 км и получили много новых данных о строении океанского дна. Работы проводились на специальном судне «Гломар Челленджер» водоизмещением около 11 тыс. т, оборудованном по последнему слову техники. Предварительно до начала бурения проводились сейсмические работы, чтобы выбрать наиболее подходящее для этого место. Система электронно-вычислительных машин на борту позволяла определять положение судна в море с точностью до 60 м и автоматически удерживать корабль на одном месте при помощи реактивных водометов. Специальное приспособление — «успокоитель качки» и точные сводки погоды, получаемые со спутников, обеспечивали благоприятные условия для работы. Комплект буровых труб давал возможность проходить 700-метровую толщу осадков при глубине океана до 7 км. Механические «руки» помогали поднять, свинтить и развинтить «свечи» труб. Особое устройство периодически извлекало из скважины керн, не поднимая всю буровую колонну. Но по-прежнему главным препятствием при бурении оставались кремнистые прослои пород, которые в большинстве случаев мешали достичь даже базальтового слоя. Наиболее древние отложения, вскрытые при глубоководном бурении, обнаружены в северо-западной части Тихого океана на подводной возвышенности Шатского. Они относятся к верхнеюрскому периоду, то есть возникли около 150 млн. лет назад. Возраст же «геофизических базальтов» в тех местах, где они все же были достигнуты глубоководными скважинами, оказался довольно молодым — 30–50 млн. лет. Примерно такого же возраста (эоцен) и большинство кремнистых прослоев, встреченных при бурении в Атлантическом и Тихом океанах.Морские осадки и приборы для извлечения их со дна
Задолго до первых опытов по глубоководному бурению была разработана детальная классификация морских осадков, составлены подробные грунтовые карты многих районов Мирового океана. Мы уже говорили о первых исследователях морского дна. Им приходилось иметь дело с оборудованием, куда более примитивным, чем современные установки для бурения в океане. На старом «Челленджере»[31] осадки поднимали при помощи драги, которой соскребали со дна верхний слой грунта. В начале XX в. была изобретена ударная трубка Экмана, некоторые модификации которой используются до сих пор. Она позволяла получать колонки осадков длиной в несколько сантиметров, реже —до одного-полутора метров. Расширение морских геологических исследований потребовало новых, более совершенных приборов. Нужно было создать достаточно надежный, простой и удобный прибор для взятия колонок осадков без нарушения первоначальной слоистости. Задача оказалась нелегкой, но увлекательной, и за нее взялось множество энтузиастов морской геологии. Было найдено немало интересных конструкторских решений. Но не обошлось и без неудач. В 1947 г. заканчивали оборудование экспедиционного судна «Витязь», ставшего на долгие годы флагманом советского научного флота. Для оснащения «Витязя» потребовались и грунтоотборные трубки. Один из конструкторов предложил трубку, которая должна была врезаться в осадки при выстреле размещенного над ней пушечного аппарата. Такой принцип к тому времени уже использовался французским ученым Ч. Пиго, работавшим в Америке. Но трубка Пиго позволяла брать сравнительно небольшие колонки осадков — немногим более двух-трех метров. Новая модель была рассчитана на колонку значительно большей длины. Испытания проводились на «Витязе» в Черном море, незадолго до выхода корабля в его первый научный рейс. На борт доставили три первых опытных экземпляра трубок, изготовленных с соблюдением самых высоких технологических требований. И вот наконец первый спуск, выстрел… Через несколько минут на борт подняли обрывок троса, перебитого взрывом. Отрегулировали систему подвески, уточнили вес заряда. Новый спуск. Вторая трубка. И снова — оборванный кусок троса. Уменьшен заряд. Взят новый, более толстый трос. Третья, последняя трубка отправилась на дно. Но снова неудача — трубка попала на камень. Корабль передвинулся на новое место. Очередной спуск. На сей раз удачный — трубка после выстрела глубоко вошла в грунт. Начался подъем. Судорожно задрожал натянутый, как струна, трос. Надсадно взвыла лебедка. Но злополучная трубка никак не хотела выходить из грунта. Корабль делал отчаянные рывки — в одну, в другую сторону. Все безрезультатно. Надежный «якорь» прочно привязал его ко дну. Огорченным испытателям ничего не оставалось, как перерубить трос. К сожалению, подобные неудачи случались нередко. Даже весьма оригинальные конструкции подчас не выдерживали испытаний. Но поиски продолжались, и сейчас существуют десятки различных приборов для взятия осадков с морского дна. Но почти все они сводятся к двум типам. Это либо дночерпатели (ковш типа грейферного, захватывающий верхний слой), либо грунтоотборные трубки, вырезающие из осадков длинный монолит. Конструкции трубок различны: прямоточные (ударного действия), поршневые, вибропоршневые, гидростатические, забиваемые, стреляющие, реактивные, вращающиеся, насосные, вдавливаемые, всплывающие. Первые три разновидности наиболее распространены. Однако разнообразие конструкций в данном случае не свидетельствует об их совершенстве. До сих пор морские геологи не имеют в своем распоряжении надежных и удобных приборов, позволяющих получать достаточно длинные колонки осадков. Правда, советскими учеными на «Витязе» была получена рекордная колонка длиной 34,5 м. Сейчас в Институте океанологии разрабатывается конструкция вибротрубки, которая позволит получить колонку до 50 м. Но пока что монолиты обычно не превышают 8—10 м в длину. Что же представляют собой морские осадки? Как они выглядят? Попробуем понаблюдать за получением колонки донных отложений и процессом извлечения ее из трубки. Вот судно пришло в заданную точку, С капитанского мостика раздается команда: «Лечь в дрейф. Можно приступать к работе». Морские геологи уже на своих местах. Длинная стальная труба уложена вдоль борта на низких деревянных подставках. На одном конце ее надеты плоские чугунные блины — грузы. На другом конце — острый кольцевой нож — наконечник. Во внутренней части трубы — упругий лепестковый клапан «апельсиновая корочка». Он свободно пропустит осадок в трубу, но не позволит выпасть ему при подъеме трубки. При помощи системы блоков, канатов и грузовой стрелы все сооружение весом в несколько сот килограммов постепенно выводится за борт и повисает на тросе. Следует команда: «Майна!» Включена лебедка, начинается спуск. Быстро вращается стрелка блок-счетчика, отмечающего длину выпущенного троса. С капитанского мостика сообщают последнее показание эхолота. И вот, наконец, трубка врезалась в грунт. Слегка дернулась и расправилась пружина динамометра под блоком грузовой стрелы, чуть ослабился туго натянутый трос, уменьшилась нагрузка на лебедку. Начинается подъем. Проходит несколько минут (или часов — это зависит от глубины), и трубка, поблескивая мокрой сталью, висит над бортом. Ее начинают подтягивать на палубу. Нужно внимательно следить, чтобы во время качки она не ударилась о борт. После того как трубку уложат на ее прежнее место, начинают выталкивать колонку. Снимают наконечник и клапан. Вместо них навинчивают «колокол» с толстым резиновым шлангом, идущим к насосу. Под «колокол» внутрь трубки вставляют поршень. Насосом нагнетают воду, которая заставляет двигаться поршень и выталкивать колонку. Из другого конца трубки медленно выползает длинная пластичная «колбаса», которую принимают в специальные лотки. Отрезки колонки приносят в лабораторию, размечают на сантиметры, зачищают снаружи ножом и разрезают вдоль. На срезе хорошо видны отдельные слои, полосы, пятна. Каждый слой отражает новые условия накопления осадков: изменения климата, течений, характера органической жизни. Это то, что называют геологической летописью. В океане можно встретить самые разнообразные осадки. Различаются они по происхождению, механическому и химическому составу, цвету и консистенции. Широко распространены терригенные осадки, состоящие из обломков пород, разрушенных на суше. Весьма многообразны известковые отложения (фораминиферовые, коралловые, ракушечные, птероподовые), состоящие главным образом из остатков морских организмов, строящих свой скелет из углекислого кальция. Другие обитатели моря — радиолярии, диатомеи — имеют кремнистые раковинки и дают начало радиоляриевым, диатомовым илам. Существуют также смешанные типы осадков, в состав которых могут входить и различные раковины, и обломки пород. Некоторые отложения образуются путем химического выделения из морской воды тех или иных минералов: фосфорита, глауконита. В испаряющихся бассейнах на дне скапливаются отложения различных солей — поваренной, калийной, глауберовой и других. Извержения вулканов на суше и под водой выбрасывают в океан огромное количество пепла, песка, пемзы. Образуются вулканические осадки. Наконец, заметную примесь в отложениях океана составляет космический материал, распределенный среди других осадков в виде мельчайших микрометеоритных шариков. Все генетическое многообразие осадков (терригенные, биогенные, вулканогенные, химические) принято делить еще и по механическому составу, то есть в зависимости от размера частиц. Наиболее характерны в этом отношении глинистые илы, состоящие из тончайших частиц размером не более 10 микрон. Более крупные осадки — алевритовые, песчаные, гравийные, галечные, встречаются даже валунные. Все это положено в основу современной классификации морских отложений, разработанной в Институте океанологии видными морскими геологами — П. Л. Безруковым, А. П. Лисициным, В. П. Петелиным, Н. С. Скорняковой. Ими же составлена карта донных осадков Мирового океана. Но и в самой детальной классификации невозможно учесть всего многообразия осадков. Взять хотя бы цвет: серые, белые, красные, желтые, зеленые, синие, фиолетовые, черные — вся гамма оттенков от самых бледных и нежных до густых и сочных. Встречаются и удивительно однообразные осадки. Таковы, например, серые глинистые илы, скрытые в глубоководной впадине Черного моря под небольшим слоем более молодых отложений. Или красная глубоководная глина, покрывающая свыше 100 млн. кв. км океанского дна. Или несметные поля железо-марганцевых конкреций — своеобразных химических образований, устилающих дно иногда так плотно, что оно напоминает булыжную мостовую. И в то же время среди миллиардов конкреций вы не встретите двух одинаковых, в точности совпадающих по форме, размерам, внутреннему строению.Геохимия диагенеза
Важнейшая сторона морской геологии — механизм формирования осадка. Ведь каждая частичка, прежде чем попасть на дно, проходит сложный и нередко очень длинный путь, и это отражено в ее генетических особенностях (то есть связанных с ее происхождением). Обломки горных пород, образовавшихся в недрах земной коры, скорлупки диатомей, живших в море, сгустки гидроокислов железа, выделившиеся из речной воды, попавшей в море, обломки дерева, мягкие ткани морских животных — все это скапливается в процессе осаждения. Попав в одинаковые условия, эти столь разнородные частички начинают заявлять о своих «привычках», своих химических «вкусах». Известно, что всякая система стремится к равновесию, — ведь природа не терпит неустойчивого состояния. Морской осадок представляет собой очень сложную физико-химическую систему. — Сразу после отложения в осадке начинаются разнообразные химические процессы, которые стремятся уравновесить эту систему. Часть компонентов растворяется и переходит в иловую воду (так называется морская вода в донных отложениях). Другие компоненты, наоборот, выпадают из иловой воды в осадок. Важную роль во всех этих процессах играют различные микроорганизмы, особенно на ранних стадиях формирования осадка. Пищей им служит органическое вещество — своеобразная энергетическая база осадка. Весь комплекс физических, химических, биохимических, минералогических процессов, которые протекают в осадке и приводят в конечном итоге к образованию осадочной породы, получил название диагенеза. Им занимается морская геохимия — наука, изучающая поведение химических элементов в морях и океанах. Возникновение и интенсивное развитие морской геохимии, или, как ее иначе называют, геохимии океана, свидетельствует о том, что морская геология поднялась на новый, более высокий уровень. Период накопления морской геологией отдельных, в общем-то разрозненных фактов проходит. Возникла необходимость комплексного изучения морских геологических и геохимических проблем, критического пересмотра и обобщения накопленного материала. Нужно объединить усилия десятков и сотен исследователей, направить их творческий труд по нужному руслу. Потребность в геохимическом осмыслении геологических процессов в океане требует слаженной работы большого коллектива ученых в экспедиции. Летом 1969 г. на научно-исследовательском судне «Витязь» был организован первый специализированный геохимический рейс, в котором довелось участвовать и автору этих строк. Перед экспедицией поставили задачу — всесторонне изучить ход диагенетического процесса в донных отложениях Тихого океана на обширном разрезе от Японии до Маршалловых островов. Комплексное изучение осадков и иловых вод в колонках донных отложений, полученных с самых различных глубин — от шельфа и материкового склона до глубоководных впадин и ложа океана, дало много новых и чрезвычайно интересных сведений. Будущее морской геологии, несомненно, тесно связано с дальнейшим развитием морской геохимии, открывающей самые сокровенные тайны морского дна.Сокровища океанского дна
Активизация морских геологических исследований связана с поиском новых сырьевых ресурсов, запасы которых в океане поистине неисчерпаемы. Нефть, газ, сера, марганец, никель, кобальт, медь, фосфориты здесь в изобилии. Нужны лишь умение и настойчивость, чтобы добыть с морского дна эти несметные богатства. Разведанные на шельфе уже сейчас запасы морской нефти составляют около 120 млрд, т, что почти втрое превышает все запасы капиталистических стран на суше. Поистине золотым дном оказался Персидский залив, где обнаружено свыше 20 млрд, т нефти. Колоссальные запасы природного газа и крупные нефтяные месторождения найдены в Северном море. Это привело к тому, что вся его акватория поделена между отдельными странами, интенсивно проводящими морские буровые работы. Но мало обнаружить залежи тех или иных полезных ископаемых, нужно еще извлечь их с морского дна. Современная техника позволяет вести экономически выгодную разработку многих полезных ископаемых в пределах мелководного шельфа до глубин в несколько десятков метров. В последние годы с успехом ведется разработка богатейших месторождений ювелирных алмазов на дне Атлантического океана у берегов Юго-Западной Африки. С 1935 г. добывают платину у берегов Аляски в заливе Гудньюс. На побережье Аляски и в прилегающих участках шельфа на больших площадях открыты и разрабатываются также богатые золотоносные россыпи. У берегов Индии, Бразилии, Австралии, США, Новой Зеландии, Цейлона в прибрежных водах и на континентальном шельфе выявлены обширные ильменито-монацитовые и ильменито-цирконовые россыпи — ценный источник железа, титана, хрома, циркония, олова, тория, тантала, ниобия, редких земель. Большой промышленный интерес представляют залежи фосфоритовых и баритовых конкреций на шельфе и континентальном склоне Южной Африки, Южной Калифорнии. Но наиболее важны с экономической точки зрения марганцевые и железо-марганцевые конкреции, которые могут рассматриваться как богатейшие руды марганца, никеля, кобальта, меди и многих других ценных компонентов, извлекаемых из конкреций в качестве побочных продуктов. Несмотря на то что поля марганцевых конкреций расположены в наиболее глубоководных и удаленных от берега частях океана, вопрос об их промышленной разработке уже сейчас поставлен вплотную. «Не вызывает сомнений рентабельность разработки некоторых залежей марганцевых конкреций даже при современных затратах и ценах. Расчеты и лабораторные эксперименты показывают, что можно без значительных трудностей видоизменить существующее оборудование и технологические процессы, приспособив их для добычи и переработки океанских марганцевых конкреций» — таково мнение крупнейшего американского океанографа Джона Меро. Запасы марганцевых конкреций столь велики, что даже при использовании десятой части выявленных залежей они смогут обеспечить потребности человечества в большинстве промышленно ценных металлов на очень длительный срок. Эксплуатация минеральных богатств океана пока что ничтожна по сравнению с имеющимися возможностями. Но техника разработки подводных месторождений непрерывно совершенствуется. Уже сейчас широко применяются многоковшовые, гидравлические и канатные драги, эрлифтовые установки, стационарные и полустационарные основания для бурения и буровые суда различных типов. В Японии, Канаде, Англии добыча угля и железной руды ведется шахтным способом из месторождений, удаленных на несколько километров от берега при глубинах моря в десятки и сотни метров. В ряде стран для разведки и освоения подводных богатств созданы оригинальные конструкции телеуправляемых роботов, способных выполнять сложные операции под водой, спроектированы автоматизированные «подводные танки», телеуправляемые подводные станции и целые города на дне моря. И недалек тот день, когда человек, прорвавшись сквозь «голубой барьер», смело опустится в морские пучины и окончательно утвердится на необозримых пространствах дна Мирового океана.Юрий Верзилов
__________
Некоторые географы упорно утверждают, что высота Джомолунгмы высчитана неправильно. Дело в том, что высшую точку земной поверхности в Гималаях отсчитывали от уровня моря. Если же считать от точки, олицетворяющей центр Земли, то самой высокой горой станет вулкан Чимборазо в Эквадоре. Все дело в том, что уровень Тихого океана в районе Эквадорского побережья резко отличается от уровня Индийского океана.
В Исландии начал работать цементный комбинат, необычное сырье для которого природа заготовила на много сотен лет вперед. Первый компонент цемента лежит вокруг всего острова на морском дне — это многометровый слой известкового ила биогенного происхождения. Из второго компонента — вулканической породы — сложены там целые горы. По качеству новый цемент лучше обычного. Он, например, не боится воздействий морской воды.
ПЕРВОБЫТНЫЕ КОЛУМБЫ

Проблемы решаются, проблемы остаются
С тех пор как у берегов Америки появились первые каравеллы испанских мореплавателей, и до сего дня не утихают в науке споры о происхождении американских индейцев и о том, как они попали на континент, практически отрезанный океанами от остальных частей света. Этой теме посвящено немало солидных монографий, десятки и сотни специальных научных статей. Казалось бы, все давно ясно, проблема решена и никакого места для сомнений и споров уже не остается. Но, несмотря на это, все еще раздаются голоса скептиков, выдвигающих новые и новые возражения против общепринятой теории заселения Америки. В настоящее время благодаря значительным успехам науки мы можем в самых общих чертах дать ответ на вопросы, откуда, как и когда попали в западное полушарие его древнейшие обитатели. По имеющимся сейчас данным, предки индейцев — различные монголоидные племена — пришли в Новый Свет из Северо-Восточной Азии в эпоху верхнего палеолита (30–20 тысяч лет назад), воспользовавшись сухопутным мостом, который связывал тогда Азиатский и Американский континенты в районе Берингова пролива. О характере культуры, которую они принесли с собой, мы знаем еще очень немного. Бесспорно только одно: первые жители Америки были охотниками и собирателями, постоянно кочевавшими в поисках непуганых стад животных и растительной пищи. Вооруженные лишь легкими копьями и дротиками с характерными каменными наконечниками, эти люди отваживались вступать в единоборство с гигантскими млекопитающими ледниковой эпохи — мамонтами, носорогами, бизонами — и зачастую выходили победителями. Конечно, серьезно ранить или убить гигантского зверя таким жалким оружием было трудно. Поэтому первобытные охотники старались загнать свою добычу в болото или искусственную ловушку, а затем уже пускали в дело копья и дротики. По геологическим данным, все эти гигантские животные исчезли с лица нашей планеты в конце ледниковой эпохи — не позднее 10-9 тысяч лет назад. А это означает, что человек жил на Американском континенте по меньшей мере уже в то отдаленное время. Раскапывая пещерные стоянки и открытые походные бивуаки древнейших обитателей Нового Света, археологи собрали десятки каменных орудий, инструментов и поделок, расположили их по типологическим и хронологическим рядам, выделили даже отдельные культуры. Специалисты различают сейчас на территории Северной Америки не менее трех последовательно сменявших друг друга культур первобытных охотников и собирателей: Сандиа (древнейшая из всех), Кловис (11–10 тысяч лет до н. э.), Фолсом (9 тысяч лет до н. э.). При этом сплошь и рядом в научном обиходе употребляются такие термины, как «фолсомский человек», «охотники Сандиа», «племена Кловис». Но по иронии судьбы ни одному археологу не удавалось до недавнего времени найти в ходе своих исследований хотя бы кончик мизинца таинственных первопроходцев каменного века. Кто они? Как выглядели? Во что были одеты? Получалась поистине парадоксальная картина: на каждом шагу из глубин земли извлекались несомненные доказательства былой деятельности первых поселенцев западного полушария, а о самих людях ученые не имели ни малейшего представления. «Полноте, — говорили скептики, — да был ли он вообще в Америке, этот неуловимый первобытный человек?» Но кто же тогда преследовал и убивал гигантских животных ледниковой эры: ведь в ряде случаев из ребер и позвонков поверженного зверя археологи извлекали каменные грубые наконечники дротиков и копий. Очевидно, что 30 тысяч лет назад Америка была для человека весьма опасным местом. Первобытный охотник со своим жалким вооружением постоянно рисковал жизнью во время своих бесконечных скитаний за добычей. Целые группы переселенцев гибли, вероятно, от голода и холода, при переходе через горы, заснеженные равнины и нагромождения ледяных торосов или уничтожались дикими зверями. Да и сама продолжительность жизни человека в те далекие и суровые времена была крайне мала. Так где же в таком случае многочисленные останки непосредственных предков индейцев? Для объяснения этого феномена предлагались самые разные теории. Во-первых, число переселенцев из Азии сначала было не очень велико. Отдельные их группы буквально затерялись среди необозримых пространств нового материка. И это, безусловно, значительно снижает возможность открытия останков одного из «Колумбов каменного века». Во-вторых, — некоторые археологи высказали предположение, что погребальный обряд древнейших обитателей Америки, видимо, не предусматривал захоронения в специальной могильной яме. Умершего просто клали на землю где-нибудь в укромном месте и предоставляли остальное разрушительным действиям природы, прожорливости хищных животных и птиц. Наконец, далеко не во всех случаях вообще можно определить, к какому времени относится тот или иной скелет, извлеченный из глубин земли. Дело в том, что человек попал в Новый Свет сравнительно поздно, в окончательно сложившемся виде Homo sapiens, и следовательно, ничем не отличался по своему внешнему облику от современных людей. К тому же до недавнего времени каких-либо точных методов датировки древностей, в том числе и костных остатков, почти не существовало. И совсем не исключено, что давно искомые останки «первых американцев» находили уже не один раз при всякого рода случайных обстоятельствах, но, не умея точно определить их возраст, вновь предавали забвению.«Тепешпанский человек»
Со всем пылом молодости приступил к поискам следов первобытного человека в Новом Свете геолог Хельмут де Терра. В качестве главного объекта для своих исследований он выбрал долину Мехико, а точнее — район вокруг местечка Тепешпан, где в изобилии встречались кости ископаемых животных ледниковой эпохи. Надо сказать, что де Терра пришлось начинать свою работу буквально с азов. До 1945 г. в Мексике по сути дела не было известно ни одного памятника первобытной эпохи. Отведенные для нее страницы исторической летописи блистали девственной чистотой. Правда, грубые каменные орудия и целые скелеты мамонтов, слонов и носорогов встречались здесь довольно часто. Но неопределенный характер таких находок и неумение подвести под них твердую хронологическую базу неизменно обрекали на неудачу любую попытку проникнуть в тайну происхождения первых обитателей страны. Дело дошло до того, что суеверные индейцы, случайно извлекая из земли эти громадные пожелтевшие кости, всерьез уверились, будто они принадлежат их далеким предкам — людям из племени гигантов. Так, согласно ацтекским легендам, именно эти таинственные гиганты построили в свое время внушительные пирамиды и храмы в Теотихуакане и других городах древней Мексики. Де Терра хорошо понимал, что начинать надо с создания геологи ческой периодизации избранного им района. Вместе с мексиканцем Арельяной он уже в 1945 г. сумел выполнить эту сложную задачу. Выяснилось, что ледниковые и послеледниковые отложения в долине Мехико отделены друг от друга твердой известковой коркой, получившей название «каличе». Время образования последней составляло не менее 10 тысяч лет назад. Остатки ископаемой фауны и грубые каменные орудия встречались исключительно в нижнем от «каличе» слое, названном де Терра «бесерра». Теперь оставалось только ждать благоприятного случая для проверки вновь созданной геологической схемы. И он не замедлил вскоре представиться. В июле 1946 г. из Тепешпана пришла весть о том, что при рытье канала там вновь, в который уже раз, обнаружен скелет ископаемого слона — elephans imperator. Молодой исследователь немедленно выехал к месту находки, и, надо сказать, ожидания не обманули его. Останки слона залегали в слое, запечатанном сверху известковым панцирем «каличе», то есть относились к ледниковой эпохе. Но самое главное, хотя скелет гигантского животного был вполне целым, у него недоставало нескольких позвонков от спины, всего хвоста и частично костей задних ног. Здесь не требовалось особого воображения для того, чтобы представить себе, как первобытные охотники, загнав зверя в болото и добив его копьями, отрезали затем от гигантской туши несколько наиболее лакомых кусков: хобот, хвост, части ног. Рядом, неподалеку от черепа слона, лежал небольшой обсидиановый отщеп. Первый осязаемый след пребывания древнего человека на мексиканской земле был найден. В феврале 1947 г. де Терра вновь приезжает в Тепешпан. На этот раз он ставил себе более широкие цели. С помощью специального геофизического оборудования он хотел найти и раскопать не больше не меньше как скелет самого охотника на мамонтов. Привезенный им аппарат фиксировал любые препятствия, встречавшиеся под землей на пути электрического потока. После нескольких дней поисков было намечено три наиболее перспективных места для раскопок. Два из них оказались абсолютно пустыми, но зато третье навсегда увековечило имя де Терра в анналах американской археологии. В слое «бесерра», относящемся по меньшей мере к 8—10 тысячелетию до н. э., на глубине чуть более одного метра от поверхности неожиданно нашли человеческий череп. Никаких следов ям и перекопов здесь не прослеживалось. А кроме того, кости были надежно «запечатаны» сверху корочкой «каличе». Следовательно, человек, обнаруженный на окраине Тепешпана, был современником мамонтов и жил в ледниковую эпоху, то есть более 10 тысяч лет назад.
Древнейшие в Новом Свете «произведения искусства», сделанные рукой первобытного человека; рисунки различных животных ледниковой эпохи, вырезанные на кости ископаемого мастодонта (около 30 тыс. лет назад)
«Геологические данные — писал впоследствии де Терра, — ясно говорили о том, что мы открыли первого палеоиндейского человека на территории Центральной Америки». Учитывая огромное научное значение своего открытия, он немедленно вызвал из Мехико группу компетентных археологов и антропологов для дальнейшей расчистки скелета. — Они явились на раскоп в сопровождении целой армии фотографов, журналистов и просто зевак. На голову счастливого первооткрывателя обрушился настоящий град вопросов. «Один репортер, — вспоминает де Терра, — хотел знать точную дату смерти своего отдаленного предка, сколько ему было лет и почему у него такие плохие зубы. Какая-то женщина-корреспондент требовала от меня рассказать всю историю моей жизни. Представитель киностудии хотел тут же на месте снять фильм, показав в деталях, «как все это было». Среди всего этого невыносимого шума и суеты нелегко было уберечь не только свою голову, но и голову «тепешланского человека», которую то и дело вырывали из моих рук. Древний череп из Мексики вызвал в действительности куда больше вопросов, чем даже знаменитый череп бедного Йорика. Но это были чисто научные вопросы, на которые едва ли кто сумел дать удовлетворительный ответ без расчистки всего скелета». И вот наступил волнующий момент: на дне глубокого шурфа матово желтели тщательно расчищенные останки одного из первых обитателей Мексики. Он лежал в какой-то странной позе — ничком, с коленями, подогнутыми к животу. Часть костей спины и ног отсутствовала, видимо, растащенная еще в древности хищными зверями и птицами. И условия находки (на месте старого болота), и поза скелета говорили о том, что «Тепешпанский человек» умер не естественной смертью. Скорее всего он погиб во время охоты — ведь скелеты слонов и мамонтов найдены всего в нескольких десятках метров от него — в болотной трясине. Однако, что в действительности послужило причиной трагедии, разыгравшейся на болотистых берегах озера Тескоко почти 10 тысяч лет назад, мы, вероятно, никогда п не узнаем. Привезенный в столичный Музей антропологии скелет из Тепешпана немедленно попал в руки ученых-антропологов. Судя по анатомическим данным, скелет принадлежал крепкому коренастому мужчине в возрасте 50–55 лет. Он крайне нуждался в помощи дантиста, так как его коренные зубы были стерты почти до десен. По иронии судьбы тепешпанский охотник на мамонтов даже в случае удачи не мог при своих больных зубах насладиться куском сочного жареного мяса. А один врач-стоматолог, сделавший с этих искалеченных зубов рентгеновские снимки, заявил, что «Тепешпанский человек» часто страдал от острой зубной боли. Никаких примитивных черт в строении черепа и скелета прослежено не было. Антропологи и скульпторы сумели восстановить и примерный облик охотника из Тепешпана. И вот он глядит на нас из музейной витрины своими широко посаженными зоркими глазами. Скуластое монголоидное лицо, широкий и прямой нос, длинные ниспадающие на плечи волосы — все это удивительно напоминает физический тип многих современных индейцев из той же Мексики, на что уже не раз обращали внимание исследователи. Надо сказать, что с первых же дней после открытия в Тепепшане появились скептики, оспаривающие достоверность выводов Хельмута де Терра. «Помилуйте, — говорили одни, — это же просто погребение индейца, сделанное какую-нибудь тысячу — две лет назад. Разве не таким образом — ничком, в скорченном положении — до сих пор хоронят своих покойников многие индейские племена?» «Условия находки весьма сомнительны», — заявляли другие. «К тому же вместе со скелетом не найдено никаких вещей, подтверждающих его ранний возраст». Наконец, один солидный антрополог во всеуслышание объявил, что тепешпанский охотник вовсе не мужчина, а женщина, и притом молодая, в возрасте не более 30 лет. К счастью, к этому времени появились новые методы датировки костных остатков по содержанию в них фтора и азота. Для этой деликатной операции мексиканские ученые пожертвовали одно ребро от скелета из Тепешпана. Кроме того, были взяты кости мамонтов, найденных вместе с каменными орудиями первобытной эпохи, и для сравнения скелет индейца из древнего погребения в Тлатилько (датированного по методу С14 VI веком до н. э.). Анализ ясно показал, что «Тепешпанский человек» по своему возрасту безусловно был современником мамонтов и других ныне вымерших животных ледниковой эпохи. Не подтвердился и тезис о том, что это молодая женщина, а не убеленный сединами старик. Ошибиться здесь весьма трудно. После находки в Тепепшане палеоиндейская археология в Мексике развивалась поистине космическими темпами. Этому в немалой степени способствовало появление в начале 50-х годов радиоуглеродного метода датировки органических остатков, позволившего создать более или менее точную хронологическую основу для многих памятников старины. К настоящему времени в стране известно уже свыше сотни пунктов, где найдены материалы первобытной эпохи. В их числе скелеты мамонтов, сопровождаемые каменными орудиями древнейших охотников, из Санта Исабель Истапан, Сан Бартоло Атепехуакан и другие. Но пожалуй, наибольшую известность за последние годы приобрело открытие археолога-любителя Хуана Арменты в местности Вальсекильо (штат Пуэбло). Этот район, как и долина Мехико, необычно богат останками ископаемых животных ледниковой эпохи. В глубоких оврагах, промоинах, ямах и в обрывистых берегах непокорной реки Атойяк местные жители не раз встречали и гигантские бивни мамонтов, и следы древних кострищ, и грубые, покрытые патиной каменные орудия древнего человека. У Арменты почти не было специальной археологической подготовки, но он был горячим энтузиастом своего дела. На протяжении долгих лет начиная с 1957 г. он упорно искал доказательств пребывания первобытных охотников на территории его родной Пуэблы. Первоначально ему явно не везло. Собранные им на берегу реки древние «орудия» оказались при ближайшем рассмотрении просто окатанными и оббитыми водой камнями. Специалисты-археологи справедливо упрекали Арменту в несоблюдении элементарных правил научной методики раскопок.

Каменные наконечники копий и дротиков, которые использовали первые обитатели Мексики для охоты на крупных животных ледниковой эпохи
И все же упорство и энтузиазм ученого преодолели все препятствия. В 1959 г. в разрезе речного берега на значительной глубине Хуан Армента обнаружил тазовую кость мастодонта размерами примерно 12х15 см. Вся поверхность ее была покрыта еле различимыми резными рисунками. По мнению самого первооткрывателя, пока можно отчетливо разобрать изображения лошади, мастодонта, слона, тапира и бизона. Некоторые фигуры показаны как бы пронзенными копьями или дротиками, что заставляет рассматривать весь предмет в целом как ритуальный, призванный обеспечивать первобытному человеку успех в предстоящей охоте. Но самое интересное, что кость мастодонта наряду с другими остатками ископаемой фауны залегала в слое гравия, который геологи датируют временем не позднее 30 тысяч лет назад. Если эти предварительные данные подтвердятся, то находка Хуана Арменты явится древнейшим произведением искусства, обнаруженным до сих пор в западном полушарии. Результаты работ в районе Вальсекильо имеют и еще один важный аспект. Выходит так, что если в Центральной Мексике, то есть за тысячи километров от Аляски и Берингова пролива, первобытный человек появился уже около 30 тысяч лет назад, то на северную оконечность континента он должен был проникнуть еще раньше. Так, открытие в далекой Пуэбле позволило внести важную поправку в общую картину заселения Америки и освоения ее первобытным человеком. К 7 тысячелетию до н. э. кочевые группы охотников и собирателей добрались до самой южной оконечности материка — в Патагонию, пройдя в общей сложности невиданную еще по длине «марафонскую» дистанцию свыше 16 тысяч километров.
По ту сторону пролива
Во всей этой картине древнейшего прошлого Нового Света недоставало одного важного звена. Длинная, хотя и редкая цепочка палеоиндейских находок, протянувшаяся от Патагонии до Аляски, обрывалась у холодных вод Берингова пролива. Предки индейцев пришли с северо-востока Азии, через Чукотку и Камчатский полуостров, и с этим трудно не согласиться. Но вплоть до последнего времени найти на азиатской стороне пролива следы палеолитического человека не удавалось. В 1964 г. упорные поиски советских ученых увенчались наконец полным успехом. Археологическая экспедиция Сибирского отделения АН СССР, возглавляемая Н. Н. Диковым, обнаружила на Камчатке первую верхнепалеолитическую стоянку. Там, на южном берегу незамерзающего, богатого рыбой Ушковского озера, на протяжении многих тысячелетий жили древние люди, оставившие после себя мощные напластования мусора и различных хозяйственных отбросов. Палеолитические изделия залегали на глубине около 2 метров и были представлены клиновидными отщепами кремня, шлифованными подвесками из мягкого камня и грубыми наконечниками стрел, очень похожими на некоторые древнеамериканские типы. Возраст этих предметов определяется прежде всего их стратиграфическим положением — непосредственно под слоем эпохи раннего мезолита, абсолютная дата которого составляет, по данным радиоуглеродного анализа С14, 10 675 ± 360 лет. Если же судить по общей толщине вышележащих слоев, то формирование палеолитических напластований происходило приблизительно 14–15 тысяч лет назад, а может быть, и несколько раньше, что соответствует (по археологической периодизации) позднему периоду верхнего палеолита. Здесь же были найдены и останки одного из тех, кто охотился и ловил рыбу на берегах Ушковского озера почти 150 веков назад. В неглубокой овальной яме, часто заливаемой озерной водой, скелет, естественно, сохраниться не мог. Археологам удалось проследить лишь слабые его признаки — костный тлен, обильно посыпанный охрой. Исчезли навсегда и изделия из дерева, кожи и кости, несомненно сопровождавшие умершего. Но каменные инструменты и масса плоских круглых бусин, привесок и амулетов, нашитых когда-то на одежду погребенного, сохранились очень хорошо. Палеолитическое погребение с Ушковского озера — пока что древнейшее на всем Дальнем Востоке. Комментируя общие итоги этих интересных раскопок, Н. Н. Диков сказал: «.. древнейшая камчатская культура активно распространялась в сторону Америки. Сохранившееся в ушковской могиле большое количество бисера, бусин и подвесок — типично индейский вампум — вскрыло глубокие камчатские, а в конечном счете азиатские истоки исконного индейского обычая носить подобные украшения. Много общего с более поздними американскими обнаруживают и ушковские наконечники стрел: черешковые и удлиненно-листовидные. Наконец, сам обычай магического употребления в погребальном ритуале красной охры тоже может расцениваться как существенный связующий элемент палеолитических культур Старого и Нового Света». А всего каких-нибудь два года назад молодой советский археолог Юрий Мочанов открыл в Якутии сразу несколько верхнепалеолитических стоянок, среди которых Ихине и Дюктайская пещера на Алдане — несомненно, памятники выдающегося значения. В ходе раскопок там было найдено много костей мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов и других животных ледниковой эпохи, а вместе с ними каменные скребки, ножи, наконечники дротиков, копий и различные изделия древнего человека. Возраст обеих стоянок, по геологическим наблюдениям и данным радиоуглеродного анализа, составляет от 10 тысяч до 22 тысяч лет. …Известные сейчас остатки дюк-тайской культуры, — пишет Ю. Мочанов, давая общую оценку своим находкам, — имеют очень близкое сходство с изделиями палеоиндейских культур типа Сандиа, Кловис, Лерма, существовавших на юге Северной Америки около 10–20 тысяч лет назад». Итак, цепь доказательств сомкнулась. Открытие и изучение стоянок первобытных охотников на мамонтов на Камчатке и в Якутии — крупный вклад советских ученых в решение общей проблемы первоначального заселения Америки. Археологические исследования и раскопки по обеим сторонам Берингова пролива ведутся сейчас во все возрастающих масштабах. И нет сомнения в том, что окончательный ответ на множество сложных вопросов, касающихся первых страниц истории Нового Света, уже не за горами.В. Гуляев
К статье В. Гуляева «ПЕРВОБЫТНЫЕ КОЛУМБЫ»


Общий вид раскопок скелетов мамонтов: вверху — в Лос Рейес Акосак; внизу — в Сан Бартоло Атепехуакан, Мексика

Череп «Тепешпанского человека»

Так выглядел «Тепешпанский человек»
(реконструкция скульптора Лео Степпата)
__________
Близ канадского острова Принс-Патрик были взяты образцы осадочных пород и подвергнуты радиоизотопному анализу. По отношению кислорода—18 к кислороду—16 было определено, что Арктика покрыта льдом последние 25 тысяч лет. Некоторый период Северный Ледовитый океан существовал без своего ледяного панциря.
Международная океанографическая экспедиция, работавшая в Индийском океане, обнаружила подводный горный хребет с вулканом, извергающим руды, богатые марганцем, железом, алюминием, никелем, хромом, свинцом. Источником таких полиметаллических руд может быть только материал из верхних слоев мантии. Ученые сделали вывод, что загадочные марганцевые конкреции, которые широко распространены на многих участках океанического ложа, вероятно, также имеют вулканическое происхождение.
Разлившаяся по морю в результате аварий танкеров нефть с недавних пор стала сложной проблемой для многих стран мира. Нефть портит морские пляжи, губит птиц, рыб и водоросли. В Англии предложен способ борьбы с этим современным бедствием. В те места, где размыта нефть, выбрасывают сотни тысяч кусков пенопластмассы. Время от времени эти куски собираются с помощью сетей и выжимаются. Кубический метр пенопластмассы впитывает около тонны нефти. Это топливо выжимается прессом и используется.
Канадские геофизики У. Кларк и М. Бег исследовали недавно пробы морской воды, взятые с глубины 8200 метров. Из этих проб был извлечен гелий и его легкий изотоп гелий-3. Легкого изотопа в глубинной морской воде было в 20 раз больше, чем сейчас в земной атмосфере. До сих пор считалось, что единственный природный источник гелия-3 — космические излучения. Теперь исследователи обнаружили этот газ, просачивающийся из глубочайших недр Земли. Следовательно, в колбах ученых оказался первичный гелий, захваченный Землей в период, когда она конденсировалась из солнечной туманности.
Единственная река на нашей планете, которая с регулярностью хороших часов меняет свое течение, — это небольшая река Кассик в Южной Америке. В период дождей в бассейне Амазонки эта река впадает в Ориноко. В период полной воды в Ориноко Кассик меняет течение и впадает в Амазонку. Так случается четыре раза в год.
Во всей Африке, как оказалось, нельзя найти двух совершенно одинаковых жирафов. На первый взгляд эти животные ничем друг от друга не отличаются. Но вот после кропотливых исследований, проведенных в разных странах сотрудниками заповедника в Кении, стало очевидным, что каждый жираф имеет на своей шее индивидуальный характер пятен. Их узор никогда не повторяется дважды. Это явление, объяснение которому ученые еще не нашли, можно сравнить с индивидуальностью от печатное пальцев человека.
Эрнст Адлер
ЛЕГЕНДА О БУМЕРАНГЕ[32]

Перевод с немецкого Т. Черниловской Рис. из книги автора
Австралия… Страна изобилия и жестокой нищеты. Изобилие — для белых колонистов, голод и отчаяние — для аборигенов. Полагают, что в 1770 году,когда капитан Кук бросил якорь в Ботническом заливе (в местности, которая сейчас называется Новый Южный Уэльс), в Австралии было около 300–350 тыс. коренных жителей. Сейчас осталось всего 30 тыс. чистокровных аборигенов и приблизительно 50 тыс. метисов. Отчего же погибла такая масса народа? Их истребили европейцы, хлынувшие в Австралию. Это позорное пятно навсегда останется в истории континента. На аборигенов устраивали облавы, как на диких животных. За голову каждого убитого выплачивали денежную премию. В лесу разбрасывали отравленное мясо. Гибли австралийцы и от болезней, завезенных пришельцами. Колонисты захватили самые лучшие, плодородные земли с источниками и дичью, а коренным жителям страны, ее настоящим хозяевам, пришлось бежать в выжженные солнцем голодные пустыни. Много племен навсегда исчезло с лица земли. Так, на острове Тасмания не осталось ни одного коренного жителя. За последние несколько лет одна за другой области, в которых ютятся остатки вымирающих племен, объявляются объектами геологических исследований и военных операций. Активно ведутся поиски золота и урана. В Маралинге у аборигенов отняли их охотничьи угодья с источниками. Теперь там проводят испытания британских ракет. Страшные трагедии разыгрываются иногда в безводных пустынях. Не в силах тащить двоих детей, истощенные от голода матери убивают одного из них, чтобы его не заклевали хищные птицы. Аборигенам часто приходится питаться только корнями, семенами растений и гусеницами. Спасаясь от голода, многие бегут в города, построенные европейцами. Здесь они ведут полуголодное существование чернорабочих и сезонников. Они не имеют никаких гражданских прав в своей собственной стране и ютятся в трущобах. Им запрещено посещать общественные бани, парки и школы. Лишены они и квалифицированной медицинской помощи.
От переводчика
О богатой фантазии коренных жителей Австралии свидетельствует множество легенд и мифов, бытующих среди остатков населения. Абориген Австралии всегда «очеловечивает» фауну и флору своей родины. «Люди, животные и птицы — родственники, — считает он. — Деревья — живые существа, как и Солнце, Ветер, Луна, Воздух и Вода». Во всех мифах, сказках и легендах австралийцев чувствуется их тесная связь с окружающей природой. Помещаемые здесь легенды записаны в различных пунктах Австралии, включая группу островов на севере континента. Собиратель этих древних сказаний стремится обратить внимание мировой общественности на тяжелую участь остатков почти уничтоженного коренного населения Австралии. Прожив много лет в этой стране и изъездив ее вдоль и поперек в поисках фольклора, составитель полюбил этот талантливый народ.Легенда о бумеранге
Ты видел когда-нибудь бумеранг? Это согнутый посередине кусок дерева. На нем нарисованы разные фигурки и знаки, когда-то имевшие большое значение. Слово «бумеранг» означает «палка, возвращающаяся обратно». Вот что мне рассказал о бумеранге абориген, в памяти которого сохранилось немало легенд и сказок. «Много, много лет назад земля была совсем плоской, как блюдо. А над ней нависало небо, плоское, как крышка от блюда. Между небом и землей был только очень небольшой промежуток, так мало места, что там могли жить только крохотные люди и звери, не больше термитов. Дожди не выпадали, потому что они могли утопить и унести эти маленькие существа. Деревья были совсем низенькие, как травинки. В те далекие времена в одном из селений жил храбрый охотник и вождь племени по имени Йонди. Однажды он охотился далеко от дома и прилег отдохнуть возле небольшого источника. Йонди был очень умен и заметил, что к этому источнику приходят слабые и больные звери, пьют из него и становятся здоровыми и сильными. Окунулся охотник в источник и почувствовал, что его мускулы стали как камень, а усталость исчезла. Поглядел Йонди в воду, а там, на дне источника, лежит палка, которую волшебная вода сделала твердой и прочной. Взял Йонди палку и еще раз окунулся в чудесный источник, который он назвал Источником будущего. Вышел охотник из воды и стал расти все выше и выше. Палка тоже все увеличивалась. Стукнулся Йонди головой о свод небес, схватил волшебную палку, напрягся и начал ею отодвигать небосклон все выше и выше, пока и сам не стал таким, как теперешние люди. Еще поднатужился охотник и отбросил небо далеко ввысь, туда, где оно находится сейчас. А вместе с небом взлетели вверх солнце, месяц и звезды. Вода из Источника будущего тоже поднялась вверх, к солнцу, превратившись в тучи, и из них пошел благодатный дождь. Волшебная вода напоила землю, всех людей, зверей, деревья и траву, и все начало расти, пока не стало, как сейчас. Из земли забило множество источников. Они соединились и стали реками и морями. На небе засверкала яркими цветами радуга. Вдруг она разбилась на тысячи и тысячи кусочков. Эти кусочки превратились в чудесных многоцветных птиц. Все люди стали танцевать и хвалить великого охотника Йонди, отодвинувшего небо так далеко. Звери тоже радовались и танцевали, а кенгуру так распрыгался, что разучился ходить и с тех пор только прыгает. А глупый страус испугался, бросился бежать и бежал до тех пор, пока его ноги не стали такими сильными, как сейчас. А некоторые звери проспали все чудо и так и остались ленивцами навсегда.
Отодвинув небо, Йонди начал искать свою палку, которой он подпирал свод небес. Смотрит, а палка эта изогнулась от напряжения и стала бумерангом. С тех пор жители Австралии почитают бумеранг. Ведь он помог людям вырасти, а не ползать по земле, как муравьи.
Как появилась на небе луна
В далекие времена вся земля была покрыта морем. Потом морская вода начала понемногу уходить, и в разных местах вышли из воды острова. А там, откуда вода не успела убежать, образовались лагуны. Прошло еще немного времени, и выросли на этих островах трава и деревья. А из моря вылезли звери и стали привыкать к жизни на суше. Пришли на эти острова и люди. Они ели рыб и крабов, черепах и ракушки, рвали плоды с деревьев. На одном из таких островов жили две сестры — Куррамара и Накари. Были эти сестры храбрыми охотницами и хорошо ловили рыбу. Отдыхали они однажды у лагуны. Поймала одна из сестер, та, которую звали Накари, невиданную рыбу небывалой величины. Была эта рыба бледной, круглой и плоской. И назвали сестры эту рыбу Луна-рыбой. Тяжелой оказалась Луна-рыба. Еле вытащили ее сестры из воды. И пошли сестры искать коренья, чтобы вкуснее была рыба. А Луна-рыбу оставили в густой траве, под большим деревом. Набрали сестры много кореньев и пришли обратно к лагуне. Очень проголодались сестры и много думали о том, как съедят они рыбу с кореньями. Но рыбы под деревом не было. Долго искали сестры Луна-рыбу. Смотрят, а она сидит на ветке большого дерева. Потом на другую ветку прыгнула. Все выше и выше стала подниматься Луна-рыба и наконец прыгнула прямо в небо. И поплыла Луна-рыба по небесному своду большим плоским светлым шаром, все освещая на небе и на земле. Медленно и гордо плыла Луна-рыба по небу, и была она большой и важной.
Так продолжалось много ночей. Но однажды сестры увидели на небе только половинку Луна-рыбы, потом четверть, а затем совсем не стало Луна-рыбы. «Кто-то там, на небе, съел нашу рыбу!» — закричала Куррамара. Но она ошиблась. Луна-рыба была волшебницей и опять пришла на небо. Сначала увидали люди лишь один ее кусочек. Но она все росла и росла и наконец снова поплыла по небосводу большим светлым шаром.
Великая Тряска и Большая Вода
В те далекие времена, когда люди еще не жили племенами, пришли на землю Великая Тряска и Большая Вода. Задул самый сильный из Ветров, пошел дым и полетела пыль из гор. Так было много дней и ночей, и еще много дней и ночей. А потом вдруг все затихло. Не было больше Ветра, но пропал Воздух. Стало очень трудно дышать, и умерло много людей. Вдруг опять задул Ветер, загремел Гром, затряслась Земля, и покатились по суше большие волны Воды. Остались живы только те люди, которые забрались высоко на утесы. Ушла Большая Вода, и по Земле запрыгали Рыбы, такие, каких еще никто никогда не видал.
Спустились люди с высоких утесов и удивились. Там, где были холмы, стали долины, а на месте прежних долин выросли холмы. Солнце тоже начало делать все наоборот: раньше оно приходило с севера и уходило на юг, а после Великой Тряски и Большой Воды стало приходить с востока и уходить на запад.
Откуда взялись звери, птицы и рыбы

Когда мать Вселенной, Эйнгана, создала Землю, она забыла сделать зверей, птиц и рыб. Сотворила она долины и горы, леса и пустыни, моря и реки, людей, деревья и растения, но о зверях, птицах и рыбах не подумала. Еще сотворила Эйнгана Дождь, чтобы он наполнял водой дно рек, и его братьев — Молнию и Гром. И любила их Эйнгана как родных сыновей, а больше всех любила она Маррагона-Молнию. Подарила она Маррагону много каменных топоров, чтобы дробил он скалы и крушил деревья. А брат Маррагона, Гром, при этом страшно грохотал и гремел. Был у Маррагона-Молнии сын, еще ни разу не спускавшийся на землю. И захотелось ему узнать, как живут люди на земле. Спустился он вниз и стал смотреть, как воины танцуют Корробори, пляску Праздника и Войны. Увидал его старейшина племени и приказал взять в плен, чтобы отец его, Маррагон-Молния, не причинял больше вреда племени Новарнинг. Узнал об этом Маррагон-Молния и страшно рассердился. Своими каменными топорами расколол он скалы, за которыми попрятались люди племени, и разбил деревья, под которыми они стояли. Освободил Маррагон-Молния своего сына, и тот тоже погнался за людьми. Страшно стало на земле. Побежали люди племени Новарнинг во все стороны, ища спасения от гнева Маррагона-Молнии, и превратились в зверей, птиц и рыб. Звери спрятались в норы, птицы поднялись высоко в небо, а рыбы опустились на дно морей. А Маррагон-Молния и его брат Гром по-прежнему посещают землю. И люди, и звери, и птицы боятся их и прячутся от них.
Почему племена говорят на разных языках

Давным-давно, когда еще не родился прадед прадеда моего прадеда, все люди в Австралии говорили на одном языке — австралийском. Было тогда много племен, и каждое из них называлось по имени какого-нибудь животного. Были племена Черепахи, Кенгуру, Эму, Лягушки, Орла и еще очень много племен, но все люди говорили на одном языке и поэтому хорошо понимали друг друга и не ссорились. Но был закон, запрещавший людям брать жен из других племен. Не мог юноша из племени Орла взять себе в жены девушку из племени Черепахи. Очень огорчались юноши и девушки. И вот собрались однажды мудрецы всех племен, придумывающие законы, и решили позволить юношам брать жен из любого племени. Только трем племенам — племени Совы, Лягушки и Кенгуру — не понравилось это решение, и задумали колдуны этих племен перехитрить остальные племена. И пригласили они всех на большой пир, и начали их воины танцевать и петь, и сменялись эти танцоры много дней и ночей, так что танец не прекращался ни на одну минуту. А возле гостей было поставлено много вкусной еды и питья, но они сидели голодные, усталые и злые, потому что есть во время священных плясок запрещено, а если этот закон нарушали, появлялись злые духи, несущие смерть. И начали голодные гости из племен Эму, Коалы, Орла, Какаду, Журавля и многих других ссориться и драться между собой. Совсем рассорились племена и перестали говорить на одном языке. Каждое племя придумало себе свой собственный язык, и разучились люди разных племен понимать друг друга.
Как Черепаха стала Черепахой

Жил юноша по имени Вайямба. Смелый и храбрый охотник он был, но гордый и непослушный. И не взял в жены девушку своего племени, которую колдун ему давал, а украл женщину из другого племени. И были у той женщины дети и муж. Рассердились колдун и старейшины племени, и прогнали они прочь Вайямбу. Убежала та женщина к своим детям и мужу, и пошло ее племя войной на Вайямбу. А был он храбрый и смелый, и один бился с целым племенем. Положил перед собой Вайямба много копий, дубин и бумерангов и бил врагов. Привязал он большой щит на живот и еще один щит на спину. Отскакивали от этих щитов вражеские копья и стрелы, и не могли чужие воины его убить. Но приплыли еще лодки с врагами, и начал Вайямба уставать. Тяжело ему стало. Отступил он к реке и прыгнул в нее. А в воде превратился Вайямба в черепаху. Смотрят воины чужого племени, а по воде плывет невиданный зверь, весь запрятанный в панцирь.
Отчего у Казуара синяя голова

Все знают, что храбрый Йонди отодвинул низко нависшее над землей небо палкой, которую он нашел в Источнике будущего. Все знают, что палка эта изогнулась и стала бумерангом. Все знают, что появилась тогда на взлетевшем ввысь небе Радуга и что разбилась она на тысячи и тысячи разноцветных кусочков, которые превратились в тысячи и тысячи красивых птиц. А что произошло с этими птицами! Они упали на землю и стали учиться летать. Одни птицы очень скоро научились летать, другие так и не научились. Очень смеялась над такими неудачниками птица-хохотунья Кукабурра, особенно над Казуаром, у которого тогда еще не было синей головы. И разозлился Казуар. Злился, что он некрасивого серого цвета, не такой яркий, как попугай, злился, что он глупее совы, злился, что не умеет летать и что птица-хохотунья Кукабурра смеется над ним, когда он пытается этому научиться. И возненавидел Казуар всех птиц и решил поджечь лес, в котором они жили. Пошел он к Дереву Огня, принес оттуда горящую головню и поджег лес. Те птицы, которые научились хорошо летать, улетели далеко-далеко и вернулись только тогда, когда пожар потух. Но многие и многие птицы еще не умели летать. Спасаясь от пламени, бросились они в воду рек, морей и озер. И произошло чудо. Превратились те птицы в рыб. Вот почему есть разные рыбы — большие и маленькие, круглые и плоские, разноцветные, золотистые и бесцветные, красивые и уродливые. Это все бывшие птицы, и каждая рыба немного похожа на птицу, от которой она произошла. А Казуар был наказан за свое злодейство. Биами, создатель Всего, сделал так, что голова Казуара стала синей. И теперь над Казуаром смеется не только птица-хохотунья Кукабурра, но и все птицы и звери.
Плеяды и Созвездие Ориона

Как-то заигрались семь девушек, семь сестер, живших в небе, и спустились с синего неба на высокие горы внизу, на земле. На такие горы они спустились, где ледяные реки с шумом падают в бездну. Давно это было. И жили те девушки там долго, и очень тосковали и плакали, потому что не знали, как попасть обратно в свой небесный дом. И были те сестры прекрасны и холодны, как была прекрасна и холодна вода, струившаяся с ущелья тех гор. Один человек, по имени Вурунна, поймал двух из семи этих девушек. И заставил их жить в своей хижине и сидеть с ним у костра. И стали эти сестры блекнуть и умирать. Но посмотрели последний раз на небо и увидели там пять своих сестер, которые указывали им на высокое дерево. Подбежали те две девушки к дереву и стали умолять помочь им попасть домой. Сжалилось дерево и начало быстро расти. Росло, росло и уперлось верхушкой в небо. Вернулись обе девушки в свой небесный дом и присоединились к пяти сестрам. Но теперь они были не такими яркими, как их сестры, не бывшие в плену, а тусклыми и бледными. Печально смотрели на семь небесных звезд семь земных юношей Верай-Берай, любившие их на земле. И стало этим юношам горько и одиноко. Но доброе дерево помогло и им. Поднялись юноши на небо и превратились в Созвездие Ориона. Каждую ночь смотрят они на своих возлюбленных и слушают их тихое пение.
Как Лягушка Небывалой Величины выпила всю воду в Центральной Австралии и что случилось потом

Очень давно это было. Тогда еще не родился прапрадедушка моего дедушки. Пришли в страну Жара и Засуха. И не стало воды ни в одной реке, пруду или биллабонге. Люди, Животные и Птицы начали падать и умирать. С ужасом смотрели те, кто остался в живых, на страшное, злое Солнце, горевшее ярким пламенем в расплавленном золоте неба. Исчезли Тучи и Облака, и единственной тенью была Тень Смерти. Перестали охотники гоняться за дичью и умирали рядом с подыхающими Животными. И собрались те, кто еще был жив, у высохшего Главного Водопоя и стали обсуждать, куда делась вся вода в стране. Оказалось, что ее выпила Лягушка Небывалой Величины. И решили те, кто был еще жив Люди, Животные и Птицы, рассмешить эту Лягушку, чтобы вся вода вылилась из нее обратно. Но напрасно хохотала перед Лягушкой Птица-Хохотунья, напрасно смешно прыгал перед ней Кенгуру и танцевал на одной ноге Журавль. Лягушка Небывалой Величины крепко сжала рот и не хотела смеяться. Тогда забрался маленький юркий Червячок на ее голое брюхо и начал щекотать его кончиком своего хвоста. Долго крепилась, но наконец не выдержала Гигантская Лягушка, затряслась от смеха, и вода хлынула водопадом из ее огромного рта. И сразу наполнились до берегов реки и пруды и биллабонги, и жизнь всего жилого была спасена.
Откуда взялись Утконосы

Мало осталось сейчас утконосов, и закон запрещает убивать их. Утконос — полуптица, полуживотное, очень странного вида. Он откладывает яйца, как птица, плавает, как утка, и клюв его похож на утиный. Но у утконоса четыре ноги, меховая шубка, и своих детенышей он кормит молоком. Только очень, очень древняя австралийская легенда расскажет вам, откуда произошел род утконосов. «В далекие времена жила у большого пруда красавица уточка Гайя-Дари. Утащил ее однажды Бигун, сумчатая крыса. И держал ее у себя, в норе, взаперти. Удалось все-таки Гайя-Дари убежать домой. Снесла она два яйца и высидела их. И появились из этих яиц два странных существа — ни птицы, ни животные. Ужаснулись все утки и прогнали Гайя-Дари. Пришлось бедняжке жить далеко от своего рода, в горах. И умерла Гайя-Дари от горя».
О том, как Змея стала ядовитой

Это случилось в те времена, когда многие звери были еще людьми. И жил на земле страшный, ядовитый зверь Игуан, и звали его Мунгоон-Гали. В своей пасти он носил мешочек с ядом, убивал им людей и ел их. И стало мала людей, уж очень прожорлив был Мунгоон-Гали. Собрались тогда звери (а в те времена все звери и люди были близкими родственна-кажи) и стали думать, как спасти человеческий род. И решили звери послать хитрую черную змею Оойюбу-луи, чтобы она перехитрила страшного Мунгоон-Гали и украла у него мешочек с ядом. И согласилась хитрая змея Оойюбу-луи сделать это, а про себя подумала: «Отниму я у Монгоон-Гали его мешочек с ядом и оставлю его себе. И стану сильнее всех зверей и людей, и все будут бояться меня, черную змею Оойюбу-луи!» Приползла змея в логово Мунгоон-Гали, а он наелся человечины и спит. Разбудила его змея и говорит: «Звери и люди сговорились убить тебя. Но я твой друг и открою тебе тайну, как они хотят сделать это. Только сначала дай мне подержать твой мешочек с ядом а то я боюсь тебя!» Послушался глупый Игуан и передал змее мешочек. А она выскользнула из логовища и исчезла в густой траве. Погнался за ней Мунгоон-Гали, но не догнал. С тех пор не может больше Мунгоон-Гали охотиться на людей и ест только насекомых. А хитрая змея Оойябу-луи не пошла к костру, где ждали ее люди и звери, а оставила себе мешочек с ядом. И возненавидели змею все люди и звери, и стали убегать от нее или стараться убить. Игуаны тоже ненавидят Оойюбу-луи за обман и сражаются с ней. А если змея укусит игуана, он от этого не умирает, потому что знает чудесную траву, вылечивающую от змеиного укуса.
Отчего Коала не пьет ничего

Много дел у Коалы, маленького сумчатого зверька. Он должен непрерывно жевать сочные листья эвкалипта, а потом спать. Очень устает Коала от всех этих хлопот. К тому же иногда рождаются детеныши. При рождении они не больше боба, а взрослый зверек достигает длины в 40 см. Коала долго носит своих детенышей в своеобразной сумке в складке кожи на брюшке. Когда детеныш подрастает, он покидает свое убежище на материнском брюшке и устраивается на спинке матери, где и пребывает до полного совершеннолетия. Коала не пьет ничего, кроме материнского молока в раннем детстве, когда находится в сумке матери. Ему хватает сока эвкалиптовых листьев, его основного питания. Вот почему этих забавных зверьков зовут Коала, что на языке аборигенов означает «Я не пью». Древняя австралийская легенда так объясняет причину этого воздержания. «Поспорили раз Коала и Воротниковая Ящерица о том, кто из них выпьет больше воды. Пришли к биллабонгу и начали пить. Хитрая ящерица только притворялась, что пьет, а на самом деле сливала всю воду в кожаный мешочек, висевший у нее на шее. Бедный Коала так опился, что чуть не лопнул, и поклялся никогда больше не пить ни капли воды».
__________
В румынском городке Орадя создан музей, сотрудники которого собрали более 10 тысяч яиц 750 видов птиц из 78 стран мира. В коллекции имеется, например, около 150 совершенно разных яиц кукушки. Тем самым доказывается зоологическая истина, что кукушка может имитировать свои яйца под чужие. В гнездо малиновки она безошибочно подбрасывает свое маленькое яйцо, а в гнездо сойки — побольше. Самое маленькое яйцо в этой коллекции принадлежит синице. Оно имеет всего 13 миллиметров в длину. Самое большое — страуса — 152 миллиметра. Весьма интересна и коллекция птичьих гнезд — их около трех тысяч. Между прочим, в наше время некоторые птицы строят свои гнезда с применением ультрасовременных материалов — кусочков полиэтилена, тонкой проволоки с яркой изоляцией, стекловаты, миниатюрных керамических сопротивлений.
Во время строительных работ на окраине Кракова найдена стоянка людей каменного века. При этом обнаружен своеобразный склад строительных деталей — груды обработанных костей мамонта. Люди палеолита именно из таких деталей сооружали тогда свои жилища, обтягивая их затем оленьими шкурами.
Пищевая промышленность многих стран мира давно испытывает потребность в натуральных заменителях сахара и сахарина. Синтетические вещества слаще сахара, но далеко не безвредны для человека. Недавно в Кении был обнаружен дикорастущий кустарник, из ягод которого выделено органическое вещество в 1500 раз слаще сахара. Однако растение, которое неожиданно завоевало мировой рекорд полезной сладости, оказалось капризным: оно пока не поддается культивированию.
ЖИВОЕ И НЕЖИВОЕ

Представьте себе Землю без жизни. На смену пыльному испепеляющему лету приходили бы суровые безрадостные зимы, лились нескончаемые дожди, ревели бесчисленные ураганы, вздымались и снова разрушались горы… Безмолвная, неприветливая, угрюмая планета носилась бы в космическом пространстве, оставаясь все такой же бесприютной и пустынной. Но на Земле есть жизнь! Есть человек! Сейчас уже ни для кого не секрет, какую колоссальную роль сыграло живое вещество в преобразовании нашей планеты. Благодаря работе живых организмов, главным образом микробов и растений, на Земле возникли почва и кислородная атмосфера. А когда появился человек, он стал разумно перестраивать и само лицо планеты: высаживать леса, создавать новые водоемы, изменять течение рек… Живое и неживое. Мертвая, неодушевленная, безразличная ко всему материя, подчиняющаяся раз навсегда «заведенным» законам, и человек, который способен эти законы познавать и, управляя силами природы, заставлять их служить себе, перестраивать окружающую среду. Человек и среда — едва ли не главная из всех проблем современного естествознания. Значительная доля научных исследований направлена на то, чтобы достичь как можно более полного соответствия между человеком и окружающей средой. Хотя на данном уровне знаний эта проблема в основном сводится к решению тех или иных конкретных практических задач, полезно задуматься и о более общем вопросе: соотношении живого и неживого в природе. Известно, что живое возникает из неживого, что и то и другое тесно связаны, оказывая весьма существенное взаимное влияние. Но это еще далеко не все. Какое место занимает живое вещество, и в частности разумные существа, в общем развитии материи во Вселенной? Вопрос этот относится к категории фундаментальных, и, разумеется, ответ далеко не прост. Но надо ли уноситься в космические дали, если нас прежде всего интересует проблема — человек и среда здесь, на Земле? Есть неписаный закон: чтобы глубоко изучить какое-либо явление, необходимо исследовать область более широкую, включающую интересующее нас явление как частное. Это справедливо и в нашем случае. И хотя в конечном итоге нас интересуют чисто земные проблемы, разговор о них придется вести на «космическом уровне». Будут изложены только факты, в большинстве достаточно хорошо известные.
Одни или не одни?
Начнем с главного, основополагающего факта: на Земле существует биосфера — многообразный мир живых организмов, от простейших вирусов, микробов и бактерий до разумных существ, способных познавать мир и перестраивать в соответствии со своими потребностями окружающую среду. Так как данные современной науки убедительно свидетельствуют, что жизнь на Земле возникла естественным образом на определенном этапе эволюции нашей планеты, у нас нет никаких оснований сомневаться в том, что нечто подобное происходит и в процессе эволюции других небесных тел. Так говорит логика. Поскольку жизнь земного типа может существовать только на планетоподобных телах, то есть на холодных несамосветящихся спутниках звезд, естественно попытаться определить хотя бы относительное количество подобных объектов во Вселенной. Современная астрономия пока еще не может достаточно надежно определить, движутся ли вокруг той или иной звезды планеты. Другое дело — вычислить по некоторым косвенным признакам приблизительное процентное соотношение числа звезд, обладающих планетами. Оказалось, что в среднем каждая сотая звезда нашей Галактики — солнце некоторой планетной семьи. А это значит, что только в одной нашей Галактике свыше миллиарда планетных систем. Количество вполне достаточное, чтобы даже при наличии всевозможных ограничений возникли необходимые для жизни условия на очень и очень многих небесных телах. Так говорит статистика. Мало того, никто пока еще не доказал, что жизнь на других мирах должна быть точной копией земной, а их разумные обитатели как две капли воды похожи на людей. Не исключено, что при иных физических условиях возможен и другой химизм жизни. На Земле вода оказалась единственным распространенным жидким растворителем, а углерод — самым подходящим элементом, обеспечивающим наиболее выгодные для живых структур скорости химических реакций. Однако некоторые химики и биохимики считают, что при высоких температурах — от 200 до 400 °C роль углерода в живых молекулах могут с успехом играть кремний или германий. Подходящим жизненным растворителем для подобных температур могли бы в принципе служить сернистые соединения фосфора. Существуют подходящие растворители и для отрицательных температур, например аммиак или фтористый водород. При низких температурах до минус 100 °C растворителем может быть сернистый ангидрид, выделяющийся при вулканических извержениях. В условиях еще более низких температур на роль растворителя претендует окись фтора, жидкость, по многим своим свойствам напоминающая воду. И только температуры ниже минус 200 °C, видимо, следует признать непригодными для химических форм жизни. При таком холоде химические связи с атомами углерода становятся настолько жесткими и прочными, что органические молекулы практически теряют способность участвовать в реакциях. Все это, разумеется, только в принципе, поскольку жизнь мы знаем лишь «в единственном экземпляре» — земную жизнь, и никакой другой жизни никогда не наблюдали. Так говорит биохимия. Мы только что употребили выражение «для химических форм жизни». А разве возможны формы жизни нехимические, то есть такие, в которых главную роль играют не химические превращения, а какие-то другие процессы? Опять же в принципе такие формы, оказывается, можно себе представить. Вообще вполне мыслимо более широкое определение жизни, чем, например, дает биология. Для этого мы должны отвлечься от того, из чего состоит живой организм и как он устроен, обратив внимание на его главные свойства, на те функции, которые он выполняет. Этой проблемой занимались советские кибернетики, в том числе акад. А. Н. Колмогоров. Были предложены различные функциональные определения. Сейчас, пожалуй, трудно еще сказать, какое из них удачнее. Однако наиболее важные свойства живого организма можно перечислить. Это способность самосохранения, способность прогрессивно развиваться, извлекать информацию из окружающей среды, изменять свой химический состав в соответствии с внешними условиями, не меняя при этом своей структуры. И если какая-либо материальная система обладает всеми указанными свойствами, мы вправе (независимо от того, из чего она состоит — из белковых молекул, транзисторов или любых других элементов) считать ее Живым организмом. А если к тому же система обладает способностью сознательно обрабатывать полученную информацию и совместно с другими подобными себе системами (а может быть, и в одиночку) добиваться наилучшего соответствия между собственной структурой и внешней средой, мы вправе считать, что имеем дело с разумным существом. Можно и дальше пойти по этому пути и попытаться дать функциональное определение не только отдельного разумного существа, но и целой цивилизации. Предлагается, например, такое определение: цивилизация — устойчивое состояние вещества, способное собирать, хранить, анализировать и использовать информацию для получения максимума сведений, необходимых для выработки сохраняющих реакций как оперативного, так и прогнозирующего характера. Таким образом, в принципе можно представить себе целую цивилизацию, которая не является биологической и представляет собой даже не совокупность отдельных разумных существ, а единую кибернетическую систему. Вот где открывается поистине неограниченное поле деятельности для писателей-фантастов. И они не преминули этим воспользоваться. На страницах некоторых книг уже появились разумные существа, принципиально отличные от человека. Это и зловещее Черное облако Фреда Хойла, и мыслящий Океан Станислава Лема, и многие другие… Так подсказывает кибернетика вкупе с фантастикой. А теперь попытаемся сделать некоторые выводы. Итак, многое говорит за то, что жизнь — отнюдь не только земное, но широко распространенное во Вселенной явление, а земная цивилизация — далеко не единственное общество разумных существ. Во всяком случае если учесть все те весьма широкие возможности существования жизни, о которых здесь говорилось, и принять во внимание, что в наблюдаемой Вселенной миллиарды галактик, в каждой из которых в среднем около 100 млрд, звезд, а многие из этих звезд обладают планетами, то вряд ли останутся аргументы в пользу уникальности разумной жизни на Земле. Однако тем не менее мы до сих пор не отыскали сколько-нибудь убедительных следов космических пришельцев на Земле, не поймали искусственных радиосигналов инопланетных цивилизаций, не обнаружили никаких других проявлений деятельности разумных существ в космосе. Можно, конечно, попытаться найти какие-то объяснения этому противоречию. Но они будут столь же гипотетическими, как и все то, что мы вообще знаем о других цивилизациях.Живое и неживое
Итак, прямых фактов относительно существования инопланетных цивилизаций в нашем распоряжении пока нет. Но не будем забывать, что нас интересуют не только космические, но и земные проблемы. И потому, принимая во внимание то, что говорилось о жизни во Вселенной, попытаемся обсудить главный вопрос: живое вещество — случайный, редкий вид материи или, может быть, одна из необходимых и распространенных ее форм? Известный английский астроном Джемс Джинс, автор популярной в свое время космогонической гипотезы, утверждал, что жизнь — это плесень, возникающая на поверхности небесных тел. Джинс считал, что жизнь, живое вещество — это «отбросы» развития материи. Так ли это? От каких же фактов мы можем оттолкнуться в своих рассуждениях? Факт номер один: на Земле живое вещество возникло из неживой, неорганической материи. Этот факт можно считать установленным достаточно твердо. Факт номер два: неживая материя в зачаточной форме обладает свойством «отражения». Способность «отражения» — одно из главных отличительных свойств живой материи. С развитием жизни от простейших форм до разумных существ материя достигает способности познавать окружающий мир. Ведь познание — это и есть процесс отражения внешнего мира в человеческом сознании. В. И. Ленин отмечал, что в самом фундаменте здания материи можно «предполагать существование способности, сходной с ощущением», что «вся материя обладает свойством, по существу родственным с ощущением, свойством отражения». Развитие науки полностью подтвердило это гениальное предвидение. Еще в 1935 г. замечательный советский физик С. И. Вавилов в одном из вариантов статьи, опубликованной затем в журнале «Под знаменем марксизма», писал: «Может случиться, что будущая физика включит как первичное простейшее явление «способность, сходную с ощущением» и на ее основе будет объяснять многое другое». Утверждать, что это уже случилось, было бы, пожалуй, слишком смело. Но свойством отражения, присущим неорганической, неживой природе, современная наука и техника пользуются достаточно широко. Примеры: магнитофон, на пленке которого «отражена» определенная мелодия, «память» электронно-вычислительных машин, запоминающие устройства автоматических космических станций, хранящие накопленную информацию и выдающие ее в нужный момент для передачи на Землю. Но все это — примеры, для современного читателя довольно очевидные. Есть и менее очевидные… Если бы неорганическая материя не обладала свойством отражения, мы, вероятно, так бы никогда ничего не узнали о явлениях природы, совершавшихся в прошлом. Они текли бы своей чередой, не оставляя абсолютно никаких следов в окружающем мире. В действительности все обстоит несколько иначе. Если в физической системе происходит какой-либо процесс, он изменяет ее состояние. И в целом ряде случаев система как бы сохраняет в себе следы совершившегося. К примеру, астрономическая наука располагает фактическими данными лишь о современном состоянии нашей Солнечной системы, наблюдать ее в прошлом мы не в силах. Поэтому может показаться, что история Солнечной системы навсегда ушла в тень веков и узнать ее абсолютно невозможно. Но это не так. Прошлое не бесследно кануло в вечность — оно нашло свое отражение в современном состоянии нашей планетной системы. Далеко не всякий путь развития мог привести ее к этому состоянию. Движение планет в одной плоскости и в одном направлении по почти круговым орбитам, деление планет на две группы: внутренних — небольших и внешних — гигантских — все это и есть неизгладимые следы прошлых процессов… Или другой пример. Сейчас физики ведут интересные исследования следов космических лучей в слюдяных породах. Оказывается, космические частицы оставляют в слюде определенные следы (как и на фотоэмульсии). Эти следы можно обнаружить и таким путем выяснить, каковы были колебания космического излучения в прошлом. В какой-то степени все это напоминает детектив. Криминалисты утверждают, что преступник всегда оставляет следы, прямые или косвенные. И по таким уликам опытный следователь может восстановить картину преступления. Точно так же астрономы и физики, изучая современные состояния тех или иных объектов, зримые следы их предыстории, выясняют ход давным-давно совершившихся процессов… Впрочем, сейчас нас интересует не столько методика астрономических исследований, сколько тот поразительный факт, что неживая, неорганическая материя обладает в зачаточной форме одним из свойств, которые наиболее характерны для живой материи. Ведь это означает, что неживая материя не такая уж неживая… А ведь отражение не единственное общее свойство живого и неживого. Есть еще одно, если можно так выразиться, свойство «обучения», разумеется, в широком смысле этого слова. Один из основоположников кибернетики, Н. Винер, определял «обучение» как способность учитывать предшествующий опыт. В мире живого «обучение» проявляется, например, в выработке рефлексов, условных и безусловных. Рефлекс — это определенный ответ организма на повторяющиеся внешние раздражители. В частности, в животном мире в результате естественного отбора и борьбы за существование закрепляются те рефлексы, которые биологически наиболее целесообразны, то есть обеспечивают данному виду наилучшие условия для выживания… Но способностью учитывать предшествующий опыт, оказывается, обладает в зачаточной форме и неорганическая материя. Пусть у нас имеются два, казалось бы, совершенно одинаковых объема газа с равным количеством частиц и одинаковой температурой. Если один из этих объемов получен путем сжатия некоторого большего объема, а другой — путем расширения меньшего, то дальнейшее поведение обеих систем будет коренным образом отличаться друг от друга. Пожалуй, еще более убедителен такой пример. В пространстве движется тело под действием силы тяготения, скажем, ракета с выключенными двигателями. Достаточно знать три ее положения в пространстве, чтобы точно вычислить орбиту. Представьте себе, что две ракеты прошли через одну и ту же точку, но предшествовавшие точки были различными. Значит, и дальнейшее движение ракет после прохождения общей точки будет не одинаковым. Ракеты пойдут по разным орбитам. Подобных примеров можно привести множество. В состоянии и поведении материальных систем неживой природы довольно часто заложено их прошлое, так сказать «исторический опыт». Конечно, это свойство еще нельзя назвать «обучением» в полном смысле слова. Более точно его можно было бы назвать «накоплением» или «аккумуляцией». Стоит, между прочим, напомнить, что неорганические системы, создаваемые человеком, обладают способностью не только отражать, но и «обучаться». Сконструированы кибернетические машины, у которых можно вырабатывать «рефлексы». Уже существуют самообучающиеся машины, способные учитывать предыдущий опыт и вносить соответствующие коррективы в свои дальнейшие действия. Так, например, электронно-вычислительная машина, играя в шахматы, способна анализировать «сыгранные» ею партии и благодаря этому усиливать свою игру. Между живой и неживой материей есть и еще одно сходство. Если говорить языком кибернетики, любой живой организм — самоуправляющая система. Неорганическая природа свойством управления не обладает. Но в зачаточном состоянии мы обнаруживаем у некоторых неживых систем и это свойство. Оно проявляется в форме так называемой авторегуляции. Яркий пример — наше Солнце. Термоядерные реакции, которые являются источником его энергии, протекают в центральной зоне. Этот «ядерный котел» со всех сторон окружен массами вещества, которое удерживается силами тяготения. Если интенсивность реакции почему-либо падает, зона немедленно сжимается. Это приводит к увеличению давления и температуры, и реакция ускоряется. Наоборот, если реакция развивается слишком бурно, избыточная энергия вызывает расширение окружающих слоев. И зона реакции охлаждается до тех пор, пока процесс не войдет в норму. Подобным же свойством обладают и многие другие материальные системы. Если происходит отклонение от нормы, возникают силы, которые возвращают систему в состояние равновесия. Более того, можно предполагать, что способность к саморегуляции — свойство не только отдельных систем, но и присуще в какой-то мере материи вообще. Вспомним хотя бы хорошо известный каждому школьнику закон Ленца, согласно которому всякое изменение магнитного поля вызывает возникновение тока индукции, магнитное поле которого препятствует изменениям, вызвавшим этот ток. Аналогичный закон — принцип Ле Шателье справедлив и для химических процессов. Если оказывать воздействие на систему, которая находится в равновесии, то это вызывает в ней соответствующее противодействие, которое будет возрастать до тех пор, пока не восстановится нарушенное равновесие. Если сделать обобщение, то живые организмы и неживая среда, в которой они обитают, составляют единую общую систему. Между ними происходит непрерывный обмен веществ, в процессе которого живые организмы синтезируют живое из неживого и непрерывно обновляются… По крайней мере так обстоит дело на Земле. Все это, вместе взятое, наводит на мысль о том, что живое и неживое не только не разделены какой-то непроходимой границей, но и являются в известном смысле вполне равноправными формами существования материи.Прогресс или регресс?
Как-то мне пришлось присутствовать на одной любопытной дискуссии. Обсуждалась проблема развития в живой и неживой природе. Какое развитие считать прогрессивным, а какое — регрессивным? Если в человеческом обществе в области социального развития критерии прогресса и регресса нам совершенно ясны, то в природе они далеко не так очевидны. Что прогрессивнее — звезда или планета,комета или газовая туманность, травянистое растение или дерево? Предлагались различные критерии. И тут же отвергались. Наконец кто-то высказал мнение, что, пожалуй, наилучший признак — сложность. Чем система сложнее, тем она и прогрессивнее. С таким определением почти все уже были готовы согласиться, когда слово взял биолог и заметил, что в истории жизни на Земле появление очень сложных форм иногда вело вовсе не к прогрессу, а к явному упадку. Достаточно вспомнить хотя бы удивительных гигантов-динозавров, которые, несмотря на весьма сложное строение, оказались «тупиковой» ветвью развития, исчезнувшей без следа. С другой стороны, биологам известно, что иногда целесообразными оказываются как будто бы регрессивные изменения живых организмов. Например, акад. А. Н. Северцов отмечал, что многие явно дегенеративные формы принадлежат к числу наиболее процветающих групп животного мира. Получается довольно странная ситуация: в иных случаях усложнение ведет к упадку и вымиранию, а дегенеративные изменения оказываются даже выгодными с точки зрения приспособляемости к условиям внешней среды… Споры вспыхнули с новой силой, но к «общему знаменателю» участники дискуссии так и не пришли. Вопрос, о котором идет речь, имеет самое прямое отношение к интересующим нас проблемам. Без этого невозможно выяснить, какова роль живого вещества в движении материи. Поэтому попробуем обсудить его с позиций физики. Любое развитие предполагает изменение, то есть переход некоторого объекта или системы из одного состояния в другое. И чем больше у данной системы возможностей для таких изменений, тем радужнее перспективы ее дальнейшего развития. Это можно пояснить таким довольно грубым примером. Когда перед нами лежит кусок ткани, мы можем сшить из него и костюм, и платье, и пальто, и юбку. Но когда из этого материала скроен, скажем, костюм, все остальные возможности уже исключаются. Но по каким признакам определить, как меняется в процессе развития системы возможность ее дальнейших изменений? Здесь нам придется совершить небольшой экскурс в область так называемой статистической физики. Начнем опять с фактов. Факт номер один. Еще в середине XIX в. известный немецкий физик Р. Клаузиус сформулировал второе начало термодинамики — науки о тепловых явлениях. Второе начало представляет собой одно из проявлений всеобщего закона сохранения. Оно утверждает, что теплота сама собой может переходить лишь от более нагретого тела к менее нагретому и этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока температура обоих тел не окажется одинаковой. Представим себе, что вода всех рек, существующих на Земле, стекает в один океан. Поскольку уровень рек более высок, чем океана, в речной воде содержится определенный запас энергии, которая может быть превращена в работу, например, с помощью гидротурбин. Но вода, оказавшаяся в океане, не представляет в этом смысле уже никакой ценности. Ведь для того, чтобы заставить ее работать, пришлось бы сливать ее на еще более низкий уровень. Подобным же образом в результате тепловых взаимодействий некоторая часть теплоты «обесценивается», теряет способность совершать работу. Для обозначения этого явления Клаузиус ввел специальный термин «энтропия», образованный от греческого слова, что буквально означает «обращенная внутрь», «замкнутая в себе», «неиспользованная». Факт номер два. Наблюдения над физическими явлениями позволяют утверждать, что в любой замкнутой, изолированной физической системе все виды энергии должны постепенно «стечь» в «тепловой океан», а теплота равномерно распределиться между всеми телами, после чего всякие процессы, связанные с термодинамическими превращениями, в этой системе полностью прекратятся. Другими словами, энтропия любой замкнутой системы постоянно увеличивается. Факт номер три. Клаузиус сделал попытку применить второй закон термодинамики ко всей Вселенной и пришел к неутешительному выводу о неизбежной ее гибели. Энтропия Вселенной, утверждал он, стремится к некоторому максимуму. И чем больше Вселенная приближается к этому предельному состоянию, тем меньше возможностей для ее дальнейшего изменения. А когда это состояние окажется достигнутым, все изменения вообще прекратятся, наступит «тепловая смерть». В свое время Ф. Энгельс подверг теорию «тепловой смерти» резкой критике. Он указывал, что перенесение второго начала термодинамики на всю Вселенную абсолютно неправомерно. При этом основная мысль Энгельса заключалась в том, что в безграничной Вселенной среди неисчерпаемого многообразия форм движения материи должны иметь место не только процессы, ведущие к увеличению энтропии, но и процессы, связанные с ее уменьшением. Примерно так же обстоит дело в нашем примере с реками. Запасы воды в них никогда не исчерпываются. Солнечные лучи нагревают воду в морях и океанах и заставляют ее испаряться, водяной пар поступает в атмосферу, переносится воздушными течениями в различные уголки нашей планеты и вновь выпадает на Землю в виде осадков — снега и дождя. Таким образом происходит непрерывный круговорот воды, она вновь и вновь обретает способность производить механическую работу. Не происходит ли нечто подобное и во Вселенной? Но какие процессы могут вести к уменьшению энтропии? Обратимся к помощи статистической физики. С ее точки зрения переход от состояний с меньшей энтропией к состояниям с большей энтропией есть переход от менее вероятных состояний к более вероятным. Постараемся пояснить это утверждение. Попробуем охарактеризовать вероятность того или иного состояния с помощью понятий порядка и беспорядка. Вряд ли стоит доказывать, что превратить порядок в беспорядок, к сожалению, куда проще, чем достичь обратного. Таким образом, эволюция системы от состояний менее вероятных к более вероятным есть не что иное, как постепенный переход от порядка к беспорядку, от упорядоченности к хаосу. Следовательно, возрастание энтропии означает уменьшение организованности процессов, протекающих в данной системе. Вполне естественно поставить вопрос: не могут ли в природе при каких-то условиях совершаться обратные переходы — от хаоса к упорядоченности, от беспорядка к организации? Подобные переходы, вообще говоря, происходят и в неорганическом мире. Но в области взаимодействия живой природы с неорганическим миром они преобладают. Начнем с того, что сам по себе живой организм представляет собой антиэнтропийную систему, то есть такую систему, деятельность которой сопровождается уменьшением собственной энтропии за счет увеличения энтропии окружающей среды. Известный английский физик Э. Шредингер, исследовавший биологические проблемы, говорит по этому поводу, что «организм питается отрицательной энтропией». Некоторые ученые даже полагают, что указанное свойство — основная Отличительная черта живых организмов. Но главная антиэнтропийная сущность живых организмов заключается не столько в их внутренних особенностях, сколько в их деятельности, в характере взаимодействия с окружающей средой. В результате этого взаимодействия возникают такие состояния, которые весьма маловероятны для неживой природы. Примеров подобной деятельности живых организмов можно привести великое множество: хотя бы образование залежей каменного угля из древних тропических растений или формирование современного химического состава земной атмосферы бактериями, водорослями и земной растительностью. Масштабы деятельности живых организмов впечатляющи. Биосфера появилась на Земле около двух миллиардов лет назад, и с этих пор началась поистине грандиозная перестройка поверхности нашей планеты. По существу вся геологическая история Земли — это прямой результат работы живых организмов, следы которой можно встретить буквально повсюду. Растения и бактерии создали свободный кислород в атмосфере. Ежегодно через живое вещество Земли проходит около 180 млрд. т. углерода. В одних только известняковых породах живыми организмами сконцентрировано такое количество угольной кислоты, которое в тысячи раз превосходит объем всех льдов, имеющихся на Земле. А ведь если растопить одни только льды Антарктиды, уровень Мирового океана поднимется на десятки метров. Богатейшие месторождения угля, железа, марганца, бокситов, фосфоритов, мела — все это тоже результат деятельности биосферы… Столь грандиозный размах антиэнтропийной деятельности живых организмов тем более удивителен, что живое вещество составляет лишь ничтожный процент общей массы нашей планеты. Антиэнтропийным характером обладает и деятельность разумных существ. Подавляющее большинство состояний, которые человек создает искусственным путем, с точки зрения самостоятельного развития неорганических процессов обладают чрезвычайно малой вероятностью. Возьмем любое творение человеческих рук: станки, здания, ракеты, корабли, вычислительные машины. Разве могли они возникнуть в процессе движения неживой материи, в результате случайного соединения атомов и молекул? Ясно, что вероятность подобных событий практически равна нулю. Таким образом, воздействие человека на окружающую среду представляет собой процесс, противостоящий этому обычному ходу развития событий, при котором всякая замкнутая неорганическая система стремится к наиболее вероятному состоянию, то есть к полному равновесию. Теперь попробуем поставить вопрос более широко. Нельзя ли оценить размах антиэнтропийных процессов, происходящих во Вселенной? Данные современной науки позволяют считать, что одно из самых глубоких и неотъемлемых свойств материи — свойство «сохранения движения». Но если движение материи неизбежно связано с ростом энтропии, который ведет к прекращению теплового движения, то, очевидно, материя должна содержать в самой себе и какие-то противоположные тенденции. Это логический вывод из закона единства и борьбы противоположностей. Речь идет не о локальных, обособленных процессах, а о явлениях всеобщего характера. Поскольку рассеяние энергии происходит повсеместно, оно не может полностью компенсироваться одними только частными процессами. Значит, тенденция к уменьшению энтропии должна быть достаточно всеобщей. А так как помимо деятельности живых организмов Мы других антиэнтропийных процессов не знаем, то можно высказать предположение о том, что живое вещество играет весьма важную роль в общем круговороте материи во Вселенной. Это означает, что в самом движении материи, в самих ее свойствах «заложены» определенные условия, которые с необходимостью приводят к возникновению жизни. Правда, нужно сделать существенную оговорку. Было бы ошибочно думать, что живые организмы обладают способностью «уничтожать» энтропию «просто так», саму по себе. Как и в нашем примере с реками, всякое уменьшение энтропии в некоторой системе происходит «за счет чего-то», а именно путем увеличения энтропии внешней среды. Уменьшая энтропию на Земле, мы увеличиваем энтропию Солнечной системы, уменьшая энтропию Солнечной системы, увеличиваем энтропию Галактики и так далее. Таким образом, происходит лишь своеобразное «перекачивание» энтропии. Впрочем, не исключена возможность, что за границами нашей Вселенной существуют другие Вселенные, наполненные отрицательной энтропией — негэнтропией, и что при определенных условиях эта негэнтропия может переходить в нашу Вселенную. Подобный процесс можно себе представить примерно так. В какой-то области, скажем, благодаря деятельности разумных существ энтропия уменьшается. Тогда в остальной части Вселенной она увеличивается. В конце концов этот процесс «докатывается» до пограничных областей. Вот там-то и может происходить обмен энтропией с соседними Вселенными… Словом, как бы там ни было, деятельность разумных существ, создающих маловероятные состояния и превращающих хаос в порядок, представляется далеко не случайным, побочным ответвлением в развитии материи, а его существенной составной частью. Как известно, окружающий нас мир делится на две различные области — царство гравитации и царство ядерных сил. Гравитация господствует в мире космических объектов, зато в микромире силы тяготения сколько-нибудь существенной роли не играют. Наоборот, ядерные силы проявляют себя лишь на чрезвычайно малых расстояниях. Гравитация и ядерные силы в значительной степени независимы друг от друга, во всяком случае сила притяжения какого-либо тела не зависит от его физического состояния, а обусловлена только его массой. Примечательно, что живые организмы занимают место как раз на границе этих двух областей — гравитационных и ядерных взаимодействий. Можно подумать, что природа специально поступила таким образом, чтобы обеспечить разумным существам наилучшие условия воздействия как на микро-, так и на макроявления, т. е. наиболее широкие возможности для борьбы с энтропией… Само собой понятно, что у природы нет и не может быть никаких целей, потому что у природы нет разума. Но в то же время в ней есть всеобщая взаимосвязь явлений, неразрывные цепи причин и следствий, направление развития. И если появилось в природе разумное существо — человек, логично предположить, что и оно должно занимать какое-то определенное место в этой взаимосвязи, в этом развитии. В физике и астрономии время от времени разражаются революции, переворачивающие многие привычные представления. И в области изучения живого, — бесспорно, самой сложной области естествознания — они еще неизбежно произойдут, может быть, не в таком уж отдаленном будущем.В. Комаров
__________
Группа индийских ботаников нашла в горном районе своей страны лианоподобное растение (местное название — ротанг), длина ствола которого составила 354 метра. Это — самое длинное растение нашей планеты. Интересно, что ротанг, превышающий размеры Эйфелевой башни, не лиана, а пальма особого подвида.
Канадские исследователи ледников на севере страны были свидетелями, как пролетающий над горами реактивный самолет стал причиной целой серии снежных обвалов. При постановке опыта, когда летчики по просьбе гляциологов пролетели низко над горами, звуковые волны стали причиной опасных снежных лавин.
ВОДОЛАЗЫ РАСКРЫВАЮТ
ТАЙНЫ ВЕКОВ

Веру в будущее народы найдут в величии своего прошлого. Пусть проходят цивилизации, но люди всегда будут помнить тех, кто жил прежде и кто создал мир, в котором мы живем.Надпись на стене Музея антропологии и истории в Мехихо
Томпсон открывает старинный клад.
Легенда подтверждается
Шел 1885 год. Некто Эдвард Томпсон отправился в Мексику, слепо уверовав в факты из книги епископа Диего де Ланды «Сообщения о делах в Юкатане». Привлекли его прежде всего легенды индейцев майя, приведенные в этом старинном манускрипте XVI века. Диего де Ланда со слов индейцев подробно описал богатства города Чичен-Ица и его главную достопримечательность — Священный колодец. Забегая вперед, скажем, что этот колодец не был вырыт. Майя не строили подобных сооружений. Воду они всегда брали из естественных источников. Одним из них и был своеобразный водоем — глубокая яма, заполненная подземными водами. Колодец находился среди крутых, почти отвесно падающих скал высотой до 20 м. Примерно на такую же глубину темная вода уходила в толщу земли. По существу здесь была зияющая бездна, таинственный омут. Современные ученые считают, что этот зловещий водоем имеет карстовое происхождение. Когда-то тут была подземная пещера. Потом ее верхний свод случайно провалился и образовался водоем диаметром в 60 м. Возраст его определяют примерно в две тысячи лет. Диего де Ланда писал, что в стране майя было очень много золота и драгоценных камней. И большая часть этих сокровищ индейцев должна находиться на дне Священного колодца «В Чичен-Ица. Согласно легенде, этот глубокий провал в земле жрецы майя объявили священным. Служители культа ввели в столице обычай, по которому в дни, когда наступала засуха, в колодец бросали самую красивую девушку не старше 17 лет — жертву богу дождя Юм-Чаку. Вслед за ней в темную воду омута летел дождь из золотых вещей, нефритовых украшений, глиняных скульптурой. Все это было щедрым приданым девушке, невесте Юм-Чака. И вот 25-летний Томпсон, поверивший в существование колодца с несметными сокровищами, оказался после многонедельного пути в краю диких низкорослых джунглей. Не теряя времени, он приступил к исследованию провала, который нашел без труда. Измерил его глубину, определил место, где должны лежать на дне древние сокровища. Для этого он бросал в воду с края верхней площадки обрубки деревьев, соразмерные по длине телу человека. Рабочие спустили в колодец ковш землечерпалки и начали крутить ручки этого довольно примитивного устройства, выбирая донный ил и гнилые ветки деревьев. Прошло несколько недель в напряженном труде. Ковш извлекал на поверхность кости животных, большие камни. Старинных украшений не было. Однажды среди ила показался черепок сосуда. Томпсон в гневе швырнул его обратно в колодец. Он ожидал тут бесценных сокровищ, а не изделий из глины. И вот наконец появились первые статуэтки из нефрита, кусочки священной смолы — копаля, украшения из яшмы и золота. В своем дневнике Томпсон поспешил записать, что сделал величайшее археологическое открытие века. Он восхвалял прозорливость епископа Ланды и в чрезвычайно приподнятом тоне писал о грудах золотых бус, браслетов, ожерелий. Чуть с меньшим восторгом повествовал он о керамических чашах с орнаментом, щитах с барельефными рисунками, зеркалах, статуэтках божков, булавках, шкатулках. Коллекция находок получилась великолепной. «Результаты моих поисков — сенсационны, — писал Томпсон. — Полностью подтвердилось предание о том, что жрецы майя бросали в этот колодец девушек и украшения. Мне посчастливилось достать череп одной из невест Юм-Чака». Перед началом сезона дождей Томпсон решил прекратить свои работы. Ведь он уже добыл колоссальное богатство, о котором мечтал. Сундуки с ювелирными изделиями майя были тщательно упакованы и отправлены с караваном на побережье. В США золото майя, статуэтки, ножи тонкой работы, драгоценные камни и чаши он разделил на три части. Первую получили антиквары в счет своих щедрых субсидий на экспедицию. Вторая была продана за огромную сумму музею Пибоди. Третья осталась в виде сувениров в личном распоряжении Эдварда Томпсона, ставшего весьма и весьма богатым человеком. Мексиканским ученым давно было известно истинное лицо Томпсона. Еще в 1910 г. они потребовали вернуть украденные столь бесцеремонным образом произведения древнего искусства, которые по всем законам должны принадлежать музеям их родины. Томпсон наотрез отказался вести переговоры. К тому времени он уже вел образ жизни, соответствующий его капиталам, и приказал секретарям не тревожить его запросами из Мексики.Мексиканцы изучают легенды.
Готовится новая экспедиция
Из записок Томпсона могло создаться впечатление, что историкам и археологам уже больше нечего делать в Священном колодце. Однако мексиканские ученые придерживались другой точки зрения. Проделав определенные расчеты, специалисты пришли к выводу, что обряд жертвоприношений у Священного колодца начался примерно в 450 г. н. э. и длился почти тысячу лет. Значит, Эдварду Томпсону, положившему на свой счет два миллиона долларов, удалось украсть примерно десятую часть сокровищ майя. Значит, есть определенный резон для повторного спуска в колодец. Произведения искусства майя должны наконец попасть в национальные музеи. Прежде всего изучению подвергались история города Чичен-Ица и легенды, окружавшие мрачной славой Священный колодец. Была восстановлена картина религиозных празднеств, сопровождавшихся человеческими жертвоприношениями богу дождя. Действительно, в период засух начиналась бурная деятельность жрецов. Они объявляли перерыв во всех работах, организовывали религиозные церемонии и массовые шествия. Главное шествие начиналось у пирамиды К’ук’улькана — легендарного вождя и первоучителя майя. Эта величественная ступенчатая пирамида одновременно служила и астрономическим и религиозным целям. Жрецы торжественно провозглашали, что причина засухи — гнев бога дождя Юм-Чака. Раздавался бой барабанов, свист труб, сделанных из раковин. Верховный жрец требовал жертву для бога, тогда падут на землю дожди… Тем временем старухи уже готовили жертву. Ее одевали в красивые платья. Тело натирали благовониями. Жрец-прислужник брал девушку за руку и включал в процессию. Сделав большой круг, процессия возвращалась к пирамиде К’ук’улькана. Жрец вел бедную девушку на самую вершину. Там совершалась последняя церемония. На тело наносили красочную татуировку, украшали золотыми ожерельями, серьгами, браслетами, кольцами. Главный жрец поднимал жезл с хвостами змей и давал знак. Другой служитель культа толкал жертву в спину… Прав был Диего де Ланда, сообщая в своей хронике о том, что в колодце скопилось огромное количество древних драгоценностей.Легенда о крови и змеях не подтверждается
В 1954 г. первая мексиканская экспедиция пробилась сквозь джунгли Юкатана и расположилась у знаменитого колодца в Чичен-Ица. Возглавлял группу археологов большой энтузиаст в изучении доколумбовой истории Мексики, бывший президент страны Эмилио Портес Хил. Исследования проводились Мексиканским национальным институтом антропологии и истории. По его заказу изготовили специальные водолазные костюмы, в которых на дно колодца должны были опускаться и ученые. Древние жители Чичен-Ица создали в свое время и другую легенду, в которой говорилось, что Священный колодец охраняют от дурного глаза верховные боги Юкатана. Они время от времени превращают воду в человеческую кровь, вид которой не в силах выдержать ни один смертный. Кроме того, боги населили колодец гигантскими ядовитыми змеями убивающими всякого, кто рискнет подойти к запретному месту. Когда члены мексиканской экспедиции подошли к краю огромной круглой ямы, они увидели, что она наполнена водой кроваво-красного цвета. Однако это, конечно, нисколько не пугало археологов. Но водолазы в красной воде не нашли ничего: в ней невозможно было что-либо разглядеть. Разумеется, можно было собирать древние вещи ощупью, но мексиканцы не желали повторять ошибок Томпсона, которого не интересовала топография находок. Экспедиция, сознательно отказавшись от бессистемного подъема драгоценностей, провела тщательную разведку колодца и окружающей местности. Специалисты пришли к двум очень важным выводам. Первый касался объема древних сокровищ. Археологи не тронули на дне ни одной вещи, но определили, что в колодце после грабительских трудов Томпсона оставалось значительно больше 90 % предметов искусства майя, брошенных туда за столетия традиции жестоких жертвоприношений. Археологи убедились, что в Священном колодце образовалась уникальная кладовая, сохранившая до наших дней бесценные материальные следы исчезнувшей цивилизации. Значит, сюда нужно приехать еще раз, но с совершенно другими техническими средствами. Второй вывод касался старинной легенды о змеях и человеческой крови в колодце. Никаких змей тут не было. Правда, около ямы иногда появлялись питоны, но они, как известно, не очень велики и не ядовиты. При большом воображении за змей можно принять стволы упавших в воду деревьев. Что же касается красного цвета воды, то это явление весьма типично для всего Юкатана. Устрашающий цвет вызывается весьма прозаическими причинами — безвредными микроскопическими водорослями, бурное размножение которых начинается в период, когда опавшая листва деревьев сгнивает в воде. Вот эти водоросли и заставили мексиканских археологов привлечь к своей работе группу молодых инженеров и химиков. Химики предложили специальный препарат, который убивал красные водоросли и делал воду несколько прозрачнее. Водолазам стало работать легче. В 1960 г. мексиканские инженеры собрали пневматическое устройство, получившее название «эрлифт». В 1961 г. устройство было по частям перевезено в джунгли, спущено в колодец на большом плоту и испытано. Широкий прорезиненный рукав опустили в один из весенних дней на илистое дно Священного колодца. По команде неутомимого Эмилио Портеса Хила включили мотор мощного насоса. Придонный ил начал поступать на поверхность и падать в огромное сито. Археологи, засучив рукава, принялись за работу. Каждая вещь впервые получала научное описание прямо на месте находки. Томпсон, как известно, пренебрег этим строгим правилом археологии.
Общий вид работы археологов по подъему со дна колодца произведений древнемексиканского искусства
1. Подъемный кран. 2. Насосы, откачивающие воду из колодца. 3. Плот-понтон. 4. Компрессор, б. Труба эрлифта. 6. Шланг компрессора
За несколько недель мексиканцы извлекли из ила около четырех тысяч различных предметов — золотые нагрудные украшения, серьги, гребни, бусы, медные и бронзовые пуговицы, позолоченные кольца, небольшие скульптурные изображения божков, оружие. Благодаря усердию водолазов каждая вещица получила свой цифровой шифр, соответствующий ее положению на дне колодца. Однажды ученые вытащили из грязи куклы, сделанные из каучука. Это были, по словам экспертов, самые древние на свете каучуковые изделия. Как они попали в колодец? Тогда ответа еще не было. Казалось бы, можно лишь радоваться находкам. Но руководитель экспедиции приказал немедленно прекратить работы и разобрать эрлифт. Оказалось, что он повреждал многие хрупкие изделия из глины, которые могли оказаться значительными и важными археологическими документами. Потребовалось еще шесть лет сотрудничества с инженерами, чтобы создать более совершенный эрлифт для третьей мексиканской экспедиции в джунгли Юкатана. Для третьей атаки на логовище кровожадного Юм-Чака.
Еще одна легенда.
Рождение интересной гипотезы
В начале 1968 г. через джунгли Юкатана потянулся необычный караван. По трудным дорогам тракторы, автомашины и лошади тащили 25-тонный подъемный кран со стрелой, равной диаметру Священного колодца; 15-метровый плот-понтон; мощные дизельные насосы; бесчисленные шланги и трубы, груды водолазного оборудования для ста ныряльщиков; ящики с продовольствием и веществами для консервирования находок. Двигался караван очень медленно. Во многих местах приходилось перестраивать мосты, чтобы они выдерживали вес тягачей и платформ с грузами. Стоял период засух, и хвост каравана скрывался в облаке пыли. И вдруг, когда оставалось преодолеть последний мост на пути к Чичен-Ица, налетел шквальный ветер, небо закрыли тучи, начался сильнейший ливень. Пришлось срочно разбивать временный лагерь. Через несколько дней непогода кончилась. Но дорогу размыло, а мост снесло потоками бурной воды. Чтобы наверстать потерянное время, часть археологов ушла вперед пешком с рюкзаками за плечами. Они довольно быстро достигли каменистой площадки у Священного колодца и начали там раскопки. Удалось обнаружить, что когда-то по приказу жрецов древние строители вокруг всего провала устроили для служителей культа ровную мощеную площадку. На естественное известковое основание они уложили превосходно обработанные базальтовые плиты. На такой удобной «авансцене» жрецы и устраивали свои мрачные спектакли. Тут же археологами был найден клад — своеобразный запасник. Жрецы в углублении на краю площадки спрятали нефритовых идолов и каменных змей, глиняных божков и большие каменные изваяния бога дождя. Все это когда-то готовилось, чтобы сбрасывать в Священный колодец во время жертвоприношений. Но кто-то помешал выполнить последний обряд… Тем временем усилиями главного отряда был починен мост и все оборудование переправили в Чичен-Ица. Среди чернорабочих третьей экспедиции находились и прямые потомки майя. Они поспешили поведать археологам отголоски еще одной легенды своих предков. Когда на Юкатан врывались захватчики и приближались к Чичен-Ица, боги-охранители устраивали лесные пожары, яростные бури и даже землетрясения. Если это не помогало и враг все же приближался к Священному колодцу, вмешивался сам бог Юм-Чак. Он вылезал из воды и посылал на землю ужасающие ливни. Дабы показать врагам майя, что это именно он встал на их пути, Юм-Чак бросал на дороги мертвых змей. Питонов, гадюк и других змей вокруг временного лагеря после бури было множество. Однако ученые прекрасно понимали, что все эти пресмыкающиеся погибли от бешеной воды в своих норах, а затем были вымыты потоками наружу… Археологи в спешке сборов забыли перед дальней дорогой ознакомиться с прогнозом погоды. А ведь именно в это время над Юкатаном пронесся очередной тайфун, двигавшийся из Атлантики. Еще за две недели до похода этот разрушительный ураган получил нежное женское имя Бэлла… И тут в голове одного из археологов родилась гипотеза. Быть может, жрецы майя обладали секретами не только астрономии, но и метеорологии… Что, если они могли заранее предсказывать тайфуны и устраивали свои пышные церемониалы с жертвоприношениями как раз накануне тропических ливней?..Человеческие кости.
Конец легенды о прекрасных девушках
Итак, весной 1968 г., несмотря на противодействие Юм-Чака, мексиканские ученые установили на поверхности Священного колодца 15-метровый плот-понтон. Плавучесть придали ему четыре подушки из пенопласта. Включили дизельные моторы насосов. За несколько дней они должны выкачать многие десятки тонн воды и тем самым резко понизить уровень ее в колодце. Затем в воду сбросили содержимое пластмассовых пакетов. Химикаты быстро превратили красную воду в зеленую. Водолазы могут теперь производить пробные погружения на дно, вести разведку. Было установлено, что илистое основание, скрывающее в своей толще сокровища майя, располагается наклонно. Это, конечно, затруднит работу, но новый эрлифт должен справиться со своей задачей. Когда уровень Священного колодца понизился почти на 5 м, заработал эрлифт. Сито укрепили теперь посреди понтона над отверстием, куда стекала вода. Медленный на этот раз воздушно-водяной поток высасывал находки без всяких повреждений. По всем правилам современной археологии водолазы расчертили наклонное дно на квадраты и следили за тем, из какого места труба высасывает ил. Это помогло уточнить датировку различных вещей. Кроме того, водолазы, подавая команды наверх по радио, прикрепили к канатам подъемного крана какие-то огромные скульптуры. Когда их подняли на площадку и расчистили от слизи, перед археологами оказались базальтовые ягуары — знаменосцы бога дождя. Один из них имел более метра в высоту, а два других — до полметра. Кроме того, кран со дна колодца поднял головы змей, крупные каменные блоки и еще несколько ягуаров. Как определили ученые, все они имели отношение к маленькому храму, стоявшему когда-то на площадке около колодца. Археологов поразило, что ягуары и змеи, пролежавшие в иле много веков, сохранили свою раскраску — синюю, красную, черную, зеленую, желтую. Над расшифровкой рецепта столь стойкой краски стоит поломать голову.
Каменный ягуар, поднятый со дна колодца
Если говорить о золоте, то его и на этот раз извлекли намного больше, чем смог это сделать Томпсон. Но теперь оно не исчезло в сейфах чужестранцев, а попало на витрины музеев Мексики. Количество ценных вещей, поднятых со дна Священного колодца, позволяет говорить о том, что эрлифт — весьма совершенный землесосный снаряд — помог проделать одну из самых значительных работ в археологии Центральной Америки. На поверхность были извлечены и уникальные вещи — искусно обработанные броши из морских кораллов, домашние божки, вырезанные из ценных пород дерева, позолоченные детские сандалии, куски материи, ваза с десятками хорошо сохранившихся цветных рисунков. Вызвала восхищение и шкатулка, сделанная в виде черепахи с маленькой головой ягуара. Удивительно одаренный мастер создал ее более тысячи лет назад. Подъемный кран и водолазы извлекли весьма внушительное количество человеческих скелетов. Мексиканский антрополог Пабло-Ромеро насчитал останки более 300 человек. Проведенная им экспертиза дала неожиданные результаты. Среди найденных черепов лишь два-три были женскими. Один скелет явно принадлежал старику. Все же остальные останки жертв богу дождя оказались детскими. Это были малолетние мальчики и девочки. Не подтвердилась легенда о красивых девушках — семнадцатилетних невестах бога. Эксперты установили и то, что жертвы не сталкивались в Священный колодец живыми. Жестокая традиция требовала предварительно убивать их обсидиановым ножом на самом краю верхней площадки. Свежей детской кровью обмазывали каменных идолов, которых затем тоже бросали в воду. Мексиканские специалисты уточнили и ход церемонии жертвоприношений. Оказывается, жрецы сперва бросали в темные воды различные ценные вещи и изображения богов. Если дождь не начинался, они убивали ребенка и сталкивали его тело в Священный колодец. Совершенно неожиданно под плитами на верхней площадке колодца обнаружили яму, где находилось 50 детских черепов! Тайна этого мрачного склада пока не разгадана. Неясно также, кто и когда разрушил маленький храм, многие плиты и скульптурные украшения которого почему-то оказались на дне провала. Загадочен факт, что жрецы бросали в колодец головы каменных змей, а их тела закапывали в каменистый грунт вокруг этой ямы. Словом, мексиканским ученым предстоит немало дел. В своих первых отчетах они с вполне оправданным оптимизмом писали, что извлекли из мрачной бездны значительно больше вещей, чем Томпсон. По художественному значению и исторической ценности все они далеко превосходят любые другие находки нашего века в Мексике. Однако историки и археологи еще раз выразили свое глубочайшее сожаление по поводу трагических событий, развернувшихся на Юкатане в середине XVI в. Изуверы и фанатики, кровожадные грабители и мракобесы, какими были испанские конкистадоры, не только разрушали города, но и уничтожали на кострах исторические хроники индейцев. Все рукописи исчезли. Один из духовных вдохновителей конкистадоров, первый епископ Юкатана, похвалялся, что он один сжег сотни рукописей за то, что на них «сам дьявол своей лапой нарисовал непонятные знаки». И вот теперь изучать прошлое народов Америки значительно труднее, чем историю других народов, живших значительно раньше. Рукописей нет. Заставить говорить камни трудно. Но когда они все же заговорят, то, возможно, целая эпоха предстанет перед нами в совершенно ином свете.
Герман Малиничев
__________
Сотрудники биологического центра в Квебеке нашли новый способ защиты садов и огородов от весенних заморозков и зимних морозов в бесснежные дни. Земля в подобных случаях покрывается слоем устойчивой пены. Под такой «химической шубой» толщиной 15 сантиметров температура почвы на 10 градусов выше, чем на открытых участках. Когда необходимость в пене отпадает, ее смывают водой из шланга.
В Лондоне выпущена морская карта, на которой расположение Бермудских островов отличается от традиционного. Новейшие исследования показали, что эти острова за последние 60 лет сдвинулись примерно на 50 метров в северо-западном направлении.
За последние пять лет цифра, определяющая время, когда в Австралии появились первые люди, изменялась уже два раза. После исследования костей и угольков костра, найденных в пещере Кениф, оказалось, что люди жили на востоке континента 12 тысяч лет назад. Самые последние раскопки в Квинсленде отодвинули эту дату еще на две тысячи лет назад.
Лава вулкана Этна недавно нашла практическое применение. В Мессине испытана установка, которая расплавляет породу и делает из нее эластичные нити. Лава превращается в несгораемую ткань, использование которой весьма перспективно в судостроении в качестве акустической и тепловой изоляции.
ГДЕ БЫЛА ПРАРОДИНА ДРЕВНИХ ШУМЕРОВ?

Широкое использование в археологии методов абсолютной хронологии, основанных на содержании некоторых радиоактивных изотопов, дало целый ряд неожиданных результатов, зачастую противоречащих давно установившимся представлениям. Наиболее хорошо разработан так называемый радиоуглеродный метод. Он основан на определении содержания в органических веществах (главным образом остатках растений) радиоактивного изотопа углерода С14, имеющего полупериод распада около 5750 лет. Не так давно в печати появились два таких сенсационных сообщения. По одному из них в Румынии археологом Н. Бласса в 1963 г. было раскопано неолитическое поселение Тэртэрия, где найдены глиняные таблички с изображениями и рисуночной письменностью, чрезвычайно схожими с древнешумерскими. Конечно, такая находка вызвала удивление — ведь Тэртэрия расположена в тысячах километров от Месопотамии, где жили древние шумеры. Но еще большее удивление вызвало определение возраста находки (по углю кострища), которая, как оказалось, относится к пятому тысячелетию до н. э., то есть по крайней мере на тысячелетие древнее, чем самые древние находки такого же типа в Месопотамии. Такое странное несоответствие заставило некоторых ученых предположить, что здесь во всем виновато несовершенство радиоуглеродного метода, приводящего к огромным хронологическим ошибкам. Но этот метод теперь уже всесторонне проверен и считается вполне надежным. Сенсационность находок в Тэртэрии вызвала и другие мнения о том, что найденные таблички — подделка и сообщение вообще не заслуживает доверия. Несколько позднее югославский ученый Д. Срейович открыл в Лепенском Вире (в 14 км вверх по Дунаю от Нижнего Мисливца) странное поселение городского типа с высоко развитой культурой (в том числе и с рисуночной, пиктографической, письменностью), видимо, близкое по своему характеру к открытому в Румынии. Это поселение возникло примерно 8 тыс. лет назад, то есть оно даже древнее, чем в Тэртэрии. Видимо, оно древнейшее из пока найденных в Европе городских поселений. Отметим, что близкие по датировке культуры были найдены в Хатал Куюке (Турция) и в Иерихоне (Палестина). Эти поселения городского типа относятся к 8–7 тысячелетию до н. э. А теперь отвлечемся на время от археологии и займемся астрономией. Польский астроном доктор Людвиг Зайдлер в своей книге «История часов» (издана в Варшаве в 1956 г.) разбирает особенности ряда древнейших календарей. Изучая историю вавилонского календаря, он обратил внимание на то, что древнейший календарь весьма существенно отличается от позднейшего. Так, вариант, принадлежавший еще шумерам и известный из клинописной книги Мул-Апин (восходящей к 2000 г. до н. э.), указывает на самый длинный день в 16 часов, а самый короткий — в 8 часов. Однако такая продолжительность длинного и короткого дней не соответствует широте, на которой находится Месопотамия. Действительно, более поздние календари дают иные цифры. Так, вавилонский календарь, относящиеся к 300 г. до н. э., указывает на самый длинный день в 14 часов 24 минуты, а самый короткий — в 9 часов 36 минут. По ассирийскому календарю, относящемуся к 606 г. до н. э., близкие цифры, разница только в минутах, ибо Ассирия лежала несколько севернее Вавилонии. Но самое примечательное — вывод доктора Зайдлера: шумерский календарь создан не в Месопотамии, а в стране, расположенной значительно севернее, приблизительно на широте северных берегов Черного моря или Каспийского. А на этой широте как раз и расположены древнейшие культуры Тэртэрии и Лепенского Вира! Сопоставим еще некоторые факты. Известно, что шумеры пришли в Месопотамию из горной страны или из предгорий (вспомним высокие башни-храмы — зиккураты, имитирующие горные вершины) уже с вполне сложившейся культурой. Родина шумеров неизвестна, язык необычен и своеобразен. У них существовала довольно развитая рисуночная письменность, постепенно превратившаяся в клинопись. Если сопоставить все это, невольно приходит в голову мысль: может быть, не от шумеров жители Тэртэрии и Лепенского Вира получили свою письменность, а сами шумеры пришли в Месопотамию из гористых местностей севера Балканского полуострова, начав оттуда свое продвижение на восток? Позднейшая история знает переселения народов на такие расстояния (кельтов из средней Европы в Малую Азию, а скифы доходили даже до Сирии). Остается сказать лишь несколько слов о возможном пути шумеров. Вряд ли продвижение шло морским путем: во-первых, шумеры не были хорошими мореходами, а во-вторых, в те времена (пятое-шестое тысячелетия до н. э.) Босфор и Дарданеллы было трудно преодолеть (вспомним греческий миф об аргонавтах). Современный вид они приняли через несколько тысячелетий после сильных тектонических сдвигов в областях Черного и Эгейского морей. Видимо, шумеры из своей прародины на севере Балканского полуострова шли сухопутьем, скорее всего через современные Болгарию и Турцию. Северный путь — по побережью Черного моря, через Кавказ, кажется маловероятным: он более длинен, и к тому же проход через Кавказские горы всегда был очень труден и опасен — там жили воинственные племена. Возможно, с продвижением шумеров связана гибель древнейшей культуры Иерихона, что по времени близко к описываемой эпохе. Из древнешумерского эпоса о Гильгамеше (древнейшем путешественнике) известно, что шумеры знали о гористых местностях Палестины и Ливана, о лежащем за ними Море Заката. Из текста эпоса также следует, что Гильгамеш искал страну своих предков на западе. А по отношению к Месопотамии Балканский полуостров лежит на северо-западе. В пользу нашей гипотезы говорит иболее грубый характер тэртэрийских письмен, чем месопотамских. Возможно, это и привело к предположению о подделке.
Николай Жиров
__________
Весной 1969 г. международная экспертная комиссия археологов провела радиоуглеродный анализ уникальной находки, сделанной в Болгарии. Возраст ее был определен в 5850 лет. Тем самым прежнее предположение, что родиной колеса была Месопотамия, отпадает. Близ болгарского села Беково обнаружена самая древняя из всех известных науке телег с колесами. Ученые делают вывод, что весьма древняя цивилизация, развившаяся на берегах Черного моря более 6 тысяч лет назад, и была родиной первого колеса. Сейчас начаты исследования остатков этой цивилизации.
Не так давно американская океанографическая подводная лодка «Эльвин» опустилась на глубину 600 метров. Экипаж приготовился к наблюдениям. Внезапно в свете прожектора показалось тело большой рыбы, а затем последовал сокрушительный удар по иллюминатору. Стекло треснуло, герметизация была нарушена. Потребовалось срочное всплытие. За это время рыба нанесла лодке еще несколько ударов по обшивке, оставив существенные вмятины. Ученые успели заметить, что нападала меч-рыба. Считается, что это первый случай «столкновения» рыбы с подводной лодкой.
Австралийские ученые обнаружили на плато Мельбурн в Антарктиде следы деятельности еще одного современного вулкана. Они нашли холмики из свежего пепла, вулканические бомбы, осколки базальта. Близ основного конуса вулкана зафиксированы так называемые фумарольные образования. Под ними были явно слышны звуки подземного кипения.
Самым южным живым существом, обитающим на нашей планете, по-видимому, следует считать мелкого красного клеща, обнаруженного в Антарктиде в 500 километрах от Южного полюса. Обитает этот клещ в маленьких озерках талой воды среди гор на Земле Королевы Мод.
Более двух тысяч лет насчитывает рецепт лепешек, которые изготавливают и сейчас негритянские племена, живущие на берегах озера Чад. Делаются эти лепешки из высушенных нитей водоросли спируллины. Белок этих водорослей питательнее мяса. Одной лепешкой охотник утоляет свой голод в течение целого дня.
Как сообщает еженедельник «Вохенпост» (ГДР) недавно этой водорослью заинтересовались ученые. Оказалось, что она во много раз ценнее хлореллы. Судя по всему, именно она будет пищей космонавтов при дальних полетах. Ведутся эксперименты по изготовлению из нее белкового порошка для исследователей Антарктиды. А пока эту водоросль по совету специалистов ЮНЕСКО начали разводить крестьяне Алжира и Мексики.
На нашей планете продолжаются открытия неизвестных науке животных. Близ Огненной Земли обнаружено девять новых видов глубоководных рыб. На одном из горных перевалов в Швейцарии ученые неожиданно для себя нашли насекомое— жучка, отлично переносящего холод. Туристы, отдыхавшие в лесу вблизи Мельбурна, поймали на эвкалипте какое-то очень маленькое и миролюбивое существо кофейного цвета. Когда зверька исследовали зоологи, они были чрезвычайно удивлены — перед ними был карликовый опоссум, который, как считалось, вымер много тысячелетий назад.
Английские ученые утверждают, что апельсины и лимоны полезны не своими витаминами (в цитрусах их мало), а большим содержанием специфических соединений калия и натрия. Эти соединения необходимы человеческому организму для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.
Французский ученый Пьер Гарбонье утверждает, что в Северной Африке необходимо срочно создать фермы по искусственному разведению розовых скворцов. С помощью больших стай этих птиц вполне возможно решить проблему борьбы с саранчой, которая в последнее время сильно распространилась в прибрежных районах. Розовый скворец весьма прожорлив и из всех видов насекомых предпочитает именно саранчу. По мнению ученого, скворцы быстрее и дешевле справятся с саранчой, чем самолеты, распыляющие химикаты.
Профессор Токийского университета Якира провел опрос среди крестьян и рыбаков, чтобы выяснить, есть ли народные приметы, касающиеся не только погоды, но и предсказания землетрясений. Оказалось, что такие приметы существуют давно. Крестьяне сообщили, например, что за пять часов до сильного подземного толчка начинают беспокойно кричать фазаны. Рыбаки рассказали про рыбу, которая еще за сутки до землетрясения поднимается с глубины на поверхность моря и выпрыгивает из воды с широко открытым ртом.
Более удивительной воды, чем в колумбийской реке Рио Винегре, пока не обнаружено нигде. В реке не водится рыба, нет ракушек и водорослей. Не годится эта вода ни для питья, ни для полива полей. Ученые установили, что вода этой реки содержит большой процент соляной и серной кислоты. Причина такой высокой кислотности заключается в том, что подземные источники, питающие эту реку, встречаются на своем пути с горячими вулканическими породами.
Гавайский архипелаг, а также острова Фиджи и Самоа, Марианские и Каролинские острова в Тихом океане подвергаются в настоящее время невиданному и беспощадному нашествию полчищ морских звезд. Полинезийские рыбаки называют этот вид звезд «колючим венком». На лучах животных много острых шипов. «Колючие венки» питаются исключительно кораллами. Они прикрепляются к их веткам и своими ороговевшими челюстями размельчают известковую оболочку. Крошечные полипы проглатываются один за другим, а ветки превращаются в порошок. На острове Гуам за последние два года морские звезды уничтожили более девяти процентов береговой полосы. Исчезнут кораллы, исчезнут из этого района и рыбы. Над многими островами Океании нависает угроза голода. Кроме того, коралловый пояс защищает острова от разрушения морскими волнами. Без этой преграды даже огромные острова будут размыты океанскими бурями. Чем же объяснить столь внезапное и губительное нашествие звезд! Чем вызван биологический взрыв в массовом размножении этих животных! Японские и американские зоологи, вынужденные ныне в срочном порядке изучать новую проблему, в качестве первой рабочей гипотезы выдвигают изменения в химическом составе воды. Однако точные причины бедствия еще не известны. На Филиппинских островах сейчас пробуют такой метод борьбы с хищными звездами: охотник в костюме аквалангиста ныряет на дно и струями концентрированного формалина убивает скопления звезд. За четыре часа таким способом можно уничтожить до двух тысяч морских звезд. Но пока этот способ не приостановил нашествие животных на коралловые острова.
Семена водяных гиацинтов лет сто назад случайно были завезены из Южной Америки в Центральную Африку. Попав в реку Конго, эти растения принялись затем быстро завоевывать новый континент. В настоящее время Нил в своем верховье зарос гиацинтами так, что эти растения образовали плотный десятиметровый слой зеленой массы. Они препятствуют судоходству, вытесняют рыбу, Гиацинты проникают в оросительные каналы и прекращают ток воды. До сих пор не найден надежный метод борьбы с этим стихийным бедствием. Заросли гиацинтов столь велики, что им не опасны прожорливые растительноядные животные и рыбы. Не найдены пока и химические средства борьбы с этим растением. Сейчас 18 африканских государств создали общий научный центр, который должен разработать методы, позволяющие прекратить безудержное наступление гиацинтов на реки Африки.
Недавно знаменитый Ниагарский водопад был подвергнут капитальному ремонту. Дамбой из гравия реку перекрыли на несколько месяцев. Инженеры смогли изучить состояние скальных пород и укрепить цементом те места, которым грозит обвал. После этого дамбу размыли, и водопад снова «заработал».
Оказывается, что во второй половине XX века кораблекрушения случаются даже чаще, чем в прошлом веке. По данным, опубликованным в Ливерпуле, за 1964–1969 годы в морях и океанах погибло более 800 кораблей общим водоизмещением около 4 миллионов регистровых тонн. На первом месте по количеству затонувших кораблей стоит Греция — 132 судна; на втором Либерия — 104; на третьем Англия — 87; на четвертом Панама — 82. Крупные потери понесли Норвегия, Италия, Япония, Ливан и ФРГ.
Самым крупным кораблем из всех когда-либо потерпевших крушение был либерийский супертанкер «Марпесса» водоизмещением 207 тысяч тонн. Он затонул в Атлантике в 80 километрах от Дакара 15 декабря 1969 года. За всю историю мореплавания, как подсчитали английские океанографы, затонул примерно один миллион триста тысяч кораблей.Факты подобраны Г. Малиничевым
Об авторах
Данилова Наталья Анатольевна. Родилась в 1922 году в гор. Геленджике Краснодарского края. Окончила географический факультет МГУ, по специальности климатолог, работает научным сотрудником в отделе климатологии Института географии АН СССР. Автор книги, около тридцати статей и разделов в монографиях по климатологии. В нашем сборнике публикуется впервые. В настоящее время работает над монографией «Оценка климатических условий Черноморского побережья для отдыха и туризма».Акимушкин Игорь Иванович. Родился в 1929 году в Москве. Окончил биологический факультет МГУ, кандидат биологических наук, специалист по головоногим моллюскам. Автор многих научных статей и нескольких научно-художественных книг, в том числе таких: «Следы невиданных зверей», «Тропою легенд», «Приматы моря», «И у крокодила есть друзья», «Куда и как?», «Занимательная биология». Им написано также восемь книг для детей. В нашем сборнике публиковался много раз. В настоящее время работает над новой книгой о животных.
Верзилов (Гурский) Юрий Николаевич. Родился в 1937 году в Москве. Окончил геологический факультет МГУ и аспирантуру при кафедре геохимии, на которой работает и в настоящее время. Кандидат геолого-минералогических наук, специалист по морской геохимии и геологии. Морской геологией начал заниматься с 1958 года в Институте океанологии АН СССР. Неоднократно участвовал в морских экспедициях на судах «Витязь», «Московский университет», «Акад. Вавилов» и других. Автор ряда научных работ по морской геохимии. Сейчас работает над монографией, посвященной геохимии микроэлементов и органического вещества в морских отложениях. В сборнике публикуется впервые.
Гуляев Валерий Иванович. Родился в 1938 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. По специальности археолог, научный сотрудник Института археологии АН СССР, кандидат исторических наук. Побывал во многих археологических экспедициях в нашей стране и за рубежом. Занимается проблемами исчезнувших цивилизаций Латинской Америки. Автор двадцати пяти научных статей, монографии «Древние цивилизации Центральной Америки», научно-популярной книги «Америка и Старый Свет в доколумбову эпоху». В нашем сборнике выступал три раза. В настоящее время работает над монографией о структуре древнейших государств Центральной Америки и Ближнего Востока.
Эрнст Адлер — видный немецкий этнограф из ГДР. Всю свою жизнь посвятил изучению быта и культуры аборигенов Австралии. Тридцать два года Адлер прожил среди аборигенов, деля с ними все радости и невзгоды. Он подробно изучил и скрупулезно записал народный фольклор австралийцев. Мы публикуем здесь только небольшую часть высоко поэтичных мифов и легенд коренных жителей Австралии. Эти сказания сопровождаются выразительными рисунками, стилизованными под рисунки австралийцев.
Комаров Виктор Ноевич. Родился в 1924 году в Ростове-на-Дону. Окончил физический факультет МГУ. Очень много занимается популяризацией научных знаний. Член Союза журналистов СССР. Опубликовал около двадцати научно-популярных книг и свыше двухсот пятидесяти статей. Автор научно-фантастического романа «По следам неведомого» (написанного в соавторстве с А. Громовой) и нескольких научно-фантастических рассказов. В нашем сборнике публиковался неоднократно. В настоящее время работает над несколькими книгами: «Новая занимательная астрономия», «Загадки будущего», «Спор с самим собой».
Малиничев Герман Дмитриевич. Родился в 1926 году в Москве. Окончил факультет журналистики Московского полиграфического института. Член Союза журналистов СССР. Публиковаться начал в 1952 году в журнале «Техника — молодежи». Им написано много очерков и статей, которые были напечатаны в газетах «Комсомольская правда», «Неделя», «Москоу ньюс», в журналах «Вокруг света», «Огонек», в ежегоднике «Земля и люди» и других изданиях. В нашем сборнике публиковался неоднократно. Сейчас работает над научно-фантастическим рассказом и научно-популярными статьями.
Жиров Николай Феодосьевич. Родился в 1903 году в Киеве (умер в декабре 1970 года). По образованию химик, доктор химических наук, атлантолог. Автор ряда монографий о светящихся составах, пиротехнических пламенах, книг об Атлантиде и нескольких десятков научных и научно-популярных статей. В нашем альманахе публиковался неоднократно.

Последние комментарии
2 часов 10 минут назад
3 часов 17 минут назад
4 часов 15 минут назад
4 часов 29 минут назад
13 часов 39 минут назад
13 часов 41 минут назад