Мир приключений, 1926 № 06 [Николай Александрович Морозов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Содержание

«АТОМЫ ЖИЗНИ», — предисловие к роману «Нигилий», проф. Н. А. Морозова (Шлиссельбуржца) (1)
«НИГИЛИЙ», — фантастический роман Р. Эйхакера; перевод Анны Бонди; иллюстрации М. Мизернюка (5)
«КРОВАВЫЙ КУЛЬТ БОГА-ЗМЕИ ВОДУ», — очерк В. Р.-П. (35)
«БУРЛАКИ ВОСТОЧНОЙ БУХАРЫ». «МАЯТА НА ПЯНДЖЕ», — очерк Д. Корзуна, с иллюстрациями (39)
«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!» — Задача № 28.
Наблюдательны-ли вы? (57)
«ЧЕТВЕРТЫЙ», — рассказ Д. Рёсселя, пер. О. Косман, с иллюстрациями (59)
«ЛИФТ», — рассказ из жизни русских эмигрантов А. В. Бобрищева-Пушкина, с иллюстрациями (85)
«ЖИЛИ-БЫЛИ 3 МАТРОСА», — рассказ Аллана Лемэй, с иллюстрациями (101)
«НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!» — Ответы на вопросы №№ 16–27 (115)
«ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ». Откровения науки и чудеса техники:
Электричество из солнечного света, с иллюстр. (117)
Борьба с морской качкой, — с иллюстр. (119)
Авто-вело-машина, — с иллюстр. (120)
Гигантский морской гидроплан, — с иллюстр. (121)
Рыцарское вооружение в XX веке, — с иллюстр. (122)
«Паровой дом» нашего времени, — с иллюстр. (123)
Вкусовые симфонии, — с иллюстр. (124)
Новый электрический фонограф (125)
«КАК СДЕЛАТЬ ЯЩИЧНЫЙ ЗМЕЙ», — с чертежами (126)
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК (на 3-й стр. обложки)
Обложка худ. М. Мизернюка.

«МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ» ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД 5 РУБ. С ПЕРЕС.
ПОДПИСКУ и ДЕНЬГИ адресовать: Ленинград, Стремянная, 8. «МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
-
АТОМЫ ЖИЗНИ

Предисловие к роману «Нигилий»
Директора Научного Института им. Лесгафта, проф. Н. А. МОРОЗОВА (Шлиссельбуржца).
Имеют ли какое-нибудь научное значение такие романы, как Уэллса, Жюля Верна, Эйхакера? Конечно, это фантазии, а не наука. То, что в них говорится об открытиях — не открытия, а причудливая смесь разрозненных научных фактов и идей, которая не является научной теорией. Но такие фантастические повествования будят человеческую творческую мысль, заставляют ее интересоваться не одними житейскими предметами, но и высшими вопросами знания. Вот, в интересном романе Эйхакера «Нигилий», прекрасно переведенном Анной Бонди, трактуется вопрос о первичном веществе, а вместе с тем поднимается естественно связанный с ним вопрос и о сущности нашего сознания, о том, что такое наше мыслящее и сознательное «я». Я изложу здесь несколько собственных мыслей по этому предмету, которым я много занимался, но до сих пор еще не высказывался печатно. Основным элементом всего существующего в природе являются, как говорится и у Эйхакера, первичные атомы всенаполняющей мировой среды. Но если мы спросим, что же они такое, то не будем в состоянии ответить ничего другого, как то, что это отдельные, невообразимо малые сгущения или разрежения чего то единого, непрерывно вездесущего, всенаполняющего и бесконечного. Наше трехмерное пространство есть основная сущность, а не пустота, потому что пустота, т. е. ничто не может иметь никакого протяжения или измерения. Абсолютный нуль не имеет даже и зародыша какой либо меры. Таким образом трехмерное всенаполняющее сплошное и вездесущее пространство есть основание не только древнего, но и современного научного мышления. Но оно неоднородно. В нем, без разрыва сплошности, существуют сгущения, как положительные элементы жизни, и разрежения, как ее отрицательные элементы, то сдвигающиеся друг с другом, то отодвигающиеся друг от друга, называемые нами первичными атомами всякой жизни во вселенной. Через них все в ней творится и изменяется. Сейчас же возникает однако и другой философский вопрос: — не повторяется ли атом также и во времени, или он имеет по нему сплошное протяжение? Другими словами: протягиваются ли атомы, как бесконечные сплошные нити в глубину прошлого и будущего на шкале веков, или они прерывисты в нем, т. е. исчезают и вновь возрождаются, будучи прерывисты, как в пространстве? Наука до сих пор смотрела на атомы мировой энергии исключительно с первой точки зрения. Но обоснована ли эта идея? Мне кажется, что нет, и что все существующее в нашем сознании, т. е. вся наша вселенная, а в ней и каждый атом, — в одно и то же время и непрерывна и кинематографична. С этой последней точки зрения, первичный атом, как основной элемент всего живущего в пространстве и времени — от кристалла до человека — не может считаться резко отграниченным от окружающего пространства, т, е. имеющим какую то поверхность. Ведь наше представление о поверхности физических тел — чисто оптическое. Только зрительными областями нашего мозга мы можем представлять себе поверхности физических тел или, вернее, физических процессов в их замкнутом виде. Осязание является здесь лишь вспомогательным фактором. Оно указывает нам лишь границы трехмерности пространства, доступного передвижению органов нашего тела. В тех случаях, когда эта граница проницаема, вроде раздела между водой и воздухом, осязание нам не указывает ее, а между тем для глаза эта граница еще доступна, как предел области, проницаемой для тех или иных световых колебаний. С такой точки зрения и первичный атом, рисующийся в нашем сознании каким то обособлением в бесконечной трехмерности, является в ней на деле не омертвелым, вечно неизменным посторонним включением, а вечно переменчивым, как волна, и, подобно ей, ритмически переходящим из сгущения в разряжение и, наоборот, без резкой границы с порождающим его мировым протяжением. Я представляю себе это для ясности на самой простой для нашего воображения схеме, ничуть не настаивая на том, что и в самой вселенной все так же просто, как и в ней. Вообразим себе сначала пространство одномерным, в виде столбика слипшихся между собою черных и белых гутаперчевых кубиков и пусть черные кубики будут сдавлены белыми во всем столбе, а затем эта анормально сдавливающая сила внезапно исчезнет. Тогда черные кубики, благодаря своей упругости, раздвинутся и по инерции в свою очередь сдавят белые, и весь столб будет представлять собою линию вечно упругих волнообразных колебаний, если только он будет бесконечен и в его элементах (кубиках) не будет внутреннего трения. Идя далее, мы можем перейти и к слою, в котором бесчисленность наших столбиков спаялась друг с другом так, что черные области одного чередуются с белыми другого, как на шахматной доске. Пусть черные кубики опять будут областями сгущения, а белые — областями разрежения составляющей их слоевой среды и не резко отграничены друг от друга, а постепенно и упруго переходят одни в другие. Тогда, сделавшись свободными, эти области будут бесконечно переходить одна в другую по двум перпендикулярным друг к другу измерениям этого слоя, если ему нигде не будет границ. Возьмем теперь и третий случай. Наложим бесчисленность таких слоев один на другой так, чтобы сгущение одного слоя приходилось на разрежении другого. Тогда и без объяснения станет понятно, что кубические области сгущения и разрежения здесь будут переходить волнообразно одни в другие по трем независимым друг от друга направлениям, давая этим яркую картину вечно волнующегося трехмерного протяжения, как бы живущего своей внутренней жизнью, но однообразного в своем целом. Здесь каждое сгущение, т. е. каждый первичный атом не вечно существует, а возрождается с каждым новым мгновением и в промежутки даже переходит в отрицательное состояние, т. е. в антиатом. Промежуток от одного возникновения атома до другого его возникновения будет естественная единица вселенского времени. Неизбежность его нового появления в том же виде проявится как закон сохранения его массы и энергии, но из этой схемы мы не получим еще возможности той разнообразной творческой жизни атомов, какую мы наблюдаем во вселенной. Все первичные атомы возникали и исчезали бы в тех же самых взаимных отношениях, как и прежде. Для того, чтобы объяснить себе существующее в природе, а с нею и в нашем сознании разнообразие явлений, необходимо представить, что, кроме этих элементарных первично-атомных сгущений и разрежений, существуют еще другие, более обширные области сгущений и разрежений, включающие в себе известные коллективы первичных сгущений и разрежений, подобно тому, как в десятичной системе объемов каждый кубический метр заключает в себе тысячу кубических дециметров, и каждый кубический дециметр тысячу кубических сантиметров и т. д. Тогда, после своего перехода в отрицательное состояние, каждый первичный атом уже не будет возрождаться на прежнем расстоянии от всех своих восьми ближайших соседей, а на больших или меньших расстояниях от них, судя по тому — разрежается или сгущается весь пространственный коллектив в этой области. Таким образом получается картина многообразных вторичных сближений и разрежений. И эта картина будет достигать все большей и большей сложности, а сближения и раздвижения — все большего и большего разнообразия, в зависимости от того, сколько таких варьирующих объемов будут включены одни в другие, и будут ли они находиться друг к другу в соизмеримых объемных отношениях, или даже, может быть, и в несоизмеримых. Кроме того, необходимо принять во внимание, что и области сгущения и разрежения должны быть разнообразно ориентированы, так как иначе было бы трудно объяснить происхождение круговых движений во вселенной, которые, как и всякие другие поступательные движения, с этой точки зрения могут быть только фиктивными, подобными поступательным движениям волн. Но какова бы ни была природа атома — это единственная творческая сила во вселенском протяжении, частью которого является и сам первичный атом. Такова вершина современной естественно-научной философии, издали виднеющаяся уже для нашего умственного взгляда, подобно вершине гигантской снежной горы на рассвете из-за заслоняющего ее покрова тумана, еще лежащего в долинах между ею и нами, стоящими лишь на холме у ее подножия. Эта вершина одна освещена розовыми лучами еще не взошедшего для нас солнца, мгла лежит между ею и нами, и мы еще не знаем, как до нее дойти, хотя ее и видим. Роман Эйхакера и представляет собою попытку увлечь человеческую мысль сквозь эту мглу к недосягаемым вершинам современного знания, и оканчивается роман символическим полетом д-ра Верндта из глубин океана в бесконечные выси для блага человечества.
 (обратно)
(обратно)
НИГИЛИЙ

Фантастический роман Р. Эйхакера
Научная идея М. Фалиера
Перевод Анны Бонди
Иллюстрации М. Мизернюка
_____
I.
Огибавший Площадь Парсов автомобиль так неожиданно остановился на всем ходу, что завизжали тормоза. Задняя часть кузова на мгновение приподнялась, точно собираясь перекувырнуться. Потом колеса стали. Из кузова американского образца высунулась голова: — Чорт тебя гонит, что ли, бездельник! Индус-шоффер умоляющим жестом поднял левую руку: — Шествие, саиб! Это джайны. Вся улица полна народом. Белолицый сердито сжал губы и опустился на сидение. — Еще одно идиотское праздничное шествие этих молодцов. Натыкаешься на них на каждом углу! Вот уж два месяца, как весь Бомбей превратился в сумасшедший дом. Весь этот сброд был охвачен ужасом, когда метеор находился еще на небе. Теперь эта сволочь подняла с радости рев. Каждый час начинается новое шествие. Все чернокожие жители из Петтахса[1] расползлись по улицам, чтобы приносить благодарственные жертвы своим безчисленным богам. Взгляните-ка только на это шествие! Для вас во всей этой волшебной картине есть еще очарование новизны. Перед автомобилем показалась гигантская фигура слона. Высоко на его спине, как раз за могучим затылком животного, сидел стройный индус. Он заложил свои коричневые ноги за уши толстокожего. Роскошные покрывала и ковры спускались по обе стороны слона, поднимая пыль. Младший из седоков высунулся из автомобиля. В то же мгновение извивающийся влажный хобот животного задел его щеку. Он испуганно вскрикнул. Спутник его громко рассмеялся и с трудом подавил смех.
Праздничное шествие двигалось по улицам Бомбея. Европеец высунулся из автомобиля. Извивающийся влажный хобот слона задел его щеку.
Мимо проходили все новые и новые толпы кричащих, пляшущих и воющих людей. Все были в праздничных нарядах — белых одеяниях и пестрых шалях. Музыканты в священном изступлении колотили в барабаны или извлекали из длинных тонких флейт неприятно-высокие и резкие звуки. А среди всей этой толпы — торжественно выступающие огромные слоны, священные коровы из храмов джайнов, визжащие обезьяны и пестрые символы индийских божеств. Молодой болгарин был весь поглощен этим зрелищем. — Сказочная картина, мосье Кахин! — В ближайшие дни вам еще не раз придется любоваться. Сегодня празднуют джайны, поклонники Махавиры, побежденного соперника Гаутамы. Завтра — будут парсы, ученики Заратустры, кстати сказать, самые богатые купцы в Бомбее, правда, вместе с магометанами, забравшими в свои руки всю ювелирную торговлю. Вы познакомитесь со всеми народностями и кастами — гоанами, афганами, сингалезами и как еще их там всех зовут… Город, по мере движения автомобиля, приобретал все более европейский характер. Храмы, правительственные дворцы, большое здание клуба в готическом стиле, широко раскинувшиеся цветники в европейском вкусе, площадки для тенниса и хоккея мелькали мимо. Автомобиль остановился перед длинным одноэтажным зданием, в стиле английского загородного дома. Несколько чернокожих слуг подскочили открывать дверцу. Господин с проседью и его спутник прошли в дом. Белолицый секретарь встретил приезжих и подал им книгу, в которой расписывались посетители. Иностранец взял карандаш и быстрым взглядом окинул заполненную страницу. — Профессор Кахин, — старательно вписал он. — Брюссель. — И в особую графу внес: Химия. Маленький болгарин последовал его примеру. — Думаску, — написал он торопливо. — Париж. Инженер. Секретарь прочитал имена и поднял портьеру. — Мадам ждет господ! Профессор удивленно взглянул на него. — Мадам ждет нас уже сегодня? Мы, ведь, собственно хотели приехать из Бенареса только завтра и… По лицу секретаря промелькнула едва заметная улыбка: — Так как господа приехали в Бомбей уже сегодня, в 3 часа 40 минут, и остановились в Hôtel des Indes, то госпожа и ожидала их сегодня. Кахин ничего не ответил и прошел за портьеру. — Неприятная женщина! — шепнул он Думаску. — Ее шпионы сидят в каждом углу. В соседней комнате им указал дорогу индус. Оба иностранца вдруг очутились среди довольно большого общества мужчин. — Здесь не представляются друг другу, — сказал почтительно индус. Кахин невольно обернулся к нему, но индус уже исчез. Вошедшие обменялись с присутствовавшими легкими поклонами. Все стояли небольшими группами по углам и в нишах. Разговоры велись шепотом. Посреди комнаты вытянулся длинный стол. Вокруг него стояло множество стульев. На них еще никто не сидел. Думаску нервно оглядывал комнату и нетерпеливо теребил маленькую острую бородку. — Скажите же мне, наконец, уважаемый профессор, что это за дом… — Одна из интереснейших каменных построек в Бомбее. За каждой дверью притаилась тайна. Стоит вам нажать кнопку, и вы на три четверти заколдованы и проснетесь завтра в образе «наутхгерль»[2]. Каждый кусочек пола может опуститься вместе с вами и стоит индусу сделать «ссит», как все исчезнет. Дорогой мой, — рассмеялся он в лицо недоумевающему болгарину, — вы прежде всего должны отучиться в Индии от одного: от расспросов. В Индии — все загадка, тайна неразрешимая… Надо брать все так, как оно есть, не раздумывая надо всем… Кто спрашивает и наблюдает, — получает здесь только щелчки по носу. Любознательных людей в Индии не любят! Несмотря на шутливый тон этих слов, Думаску послышалось в них нечто такое, что заставило его насторожиться. Нечто, похожее на тайное предостережение человека, не позволявшего себе сказать больше того, что заключалось в простом ответе. Бельгиец даже скосил на мгновение глаза, точно подозревая, что его подслушивают. Но Думаску разразился вопросом, который все время его волновал: — Вы знаете мадам Барбух? — спросил он вполголоса. Профессор Кахин был явно смущен. Глаза его снова безпокойно забегали. — Вы такими вопросами подставляете шею под веревку, уважаемый коллега! — произнес он тихо, удивительно неподвижно держа голову. — Никто не знает мадам Барбух. Никто не знает, где она живет. Но она — владычица Индии. Никто не знает, кто она, и является она в тысяче образов. То она — прекрасная женщина, то — индусский мальчик, факир, «наутхгерль», эмир, купец… Никто не может сказать, не стоит ли она около него в образе мальчика у лифта, или нищего, магараджи или спортсменки-мисс. Она есть собирательное понятие, сила, — страшная сила! Она все слышит, все видит, всем повелевает. Про мадам Барбух думают, но о ней не говорят. Последние слова звучали серьезно. Болгарин напрасно старался подавить в себе чувство легкой жути. Только теперь заметил он странные и ценные украшения стены. Она вся была увешана блестящей змеиной чешуей и шкурами тигров и других диких обитателей джунглей. В противоположном конце комнаты раздвинулся занавес. Белолицый секретарь из приемной безшумно подошел к столу и дотронулся до гонга. Секретарь был теперь во фраке. — Приветствую господ присутствующих от имени госпожи, — произнес он отчетливо и непринужденно. Прошу вас занять места! Когда гости разместились за длинным столом, оказалось, что все стулья заняты. В общем собралось одиннадцать мужчин и одна женщина северного типа. Ее светлые белокурые волосы блестели под электрическими лампами. Белолицый секретарь сделал у себя пометку. Во фраке он казался значительно старше, и теперь было заметно его индусское происхождение. В его взгляде было нечто повелительное, холодное, не внушавшее доверия. В каждом слове его слышался звук металла. — Госпожа пригласила вас сюда, чтобы лично познакомить вас со своими решениями. Но предварительно она просит, чтобы мне сделали короткий доклад. Мы все вместе пережили два месяца тому назад падение метеора. Могу я просить Японию изложить имеющиеся уже теперь данные? В середине стола поднялся невзрачный японец с седыми волосами. На лице его блестели стекла больших очков. — Метеор, падение которого грозило гибелью нашей планете, попал в одно из самых глубоких мест океана и лежит теперь на глубине 9436 метров. Только этим объясняется спасение человечества. Метеор находится теперь в международных водах и вне владений Японии. Поэтому он и будет принадлежать тому, кто сумеет им завладеть. Среди слушателей пробежало легкое волнение. — Но технически это почти невыполнимо. Секретарь перебил его: — Есть ли доказательства, что метеор, действительно, находится на дне океана? — Да, немецкому химику Верндту удалось опустить на известную глубину в этом месте океана ультрахроматические пластинки и определить степень их почернения. Но, зато, никому еще не удалось добыть на свет божий ни одного зернышка этой космической материи. — За исключением обломков в Японии. — Само собою. После падений метеора перед правительственным дворцом в Токио нашли обломок метеора 2½ куб. метра в окружности. При дальнейших исследованиях в стране извлекли на свет еще два обломка в ½ и 1 куб. метр. По месту нахождения они стали собственностью Японии. — Кому они принадлежат в настоящее время? — Немецкому химику Вальтеру Верндту. Между глазами секретаря появилась глубокая складка. — Почему же их не купила наша секция Руда? Японца точно придавил тон, каким сказаны были эти слова. — Это и было сделано, но… Продажа была объявлена японским правительством недействительной, чтобы избежать соперничества между нациями. Отдельные лица, — а их было одиннадцать с почти неограниченными финансовыми средствами, — были выставлены кандидатами и японскому народу было предоставлено решение. Оно состоялось в пользу немецкого химика Верндта. Второй по размерам обломок бесследно исчез в день народного решения. Его, очевидно, украли. Черные глаза индуса скользнули по лицу одного из присутствовавших. Это был итальянец — человек с черной бородой, повидимому, отличавшийся большой физической силой и ловкостью. Итальянец слегка улыбнулся в ответ. — Хорошо, — кивнул индус в сторону японца. — А купленные обломки находятся еще в Токио? — Они вывезены. — Куда? — Неизвестно. Но, во всяком случае, в Индию. Секретарь кивнул головой и записал что-то в своей книжке. — Благодарю вас. — Секция Изысканий! Атлетический итальянец поднял плечи. — Доклад совпадает. Второй обломок скрыли. Транспорт Верндта был направлен в Бенарес. Верндт строит южнее города императора Акбара гигантскую лабораторию. Заброшенные до сих пор части города заселены теперь тысячами рабочих. — Когда будет готова лаборатория? — Приблизительно через две недели. — Благодарю вас. — Секция Химии! Со стула поднялся бельгиец Кахин. — В этом метеоре для нас величайшая химическая загадка мира. Выясненные до сих пор излучения и эманации совершенно особого рода. — Как определили эти излучения? — Посредством спектра химика Верндта… Бледные щеки индуса слегка покраснели. — Опять этот Верндт! — прошипел он. Но сейчас же овладел собой. — Посредством спектра химика Верндта, с помощью его новых ультрахроматических пластинок… — Секция Изысканий! — послышался резкий вызов с конца стола. Итальянец насмешливо улыбнулся: — Этот спектр еще до падения метеора был наблюдаем в Нью-Йорке, на Мичиганской обсерватории, и имеется описание результатов и 23 пластинки. Складка на лбу индуса снова исчезла. Кахин наклонился вперед: — Я видел эти пластинки. Результаты были проверены. Мы нашли кроме линий спектров известных нам веществ, или химических элементов, как железо, хром, никель, серебро, платина, золото, медь и натрий еще совершенно неизвестные нам до сих пор линии, которых никогда не встречали ни на земле, ни на какой-либо другой планете. — Какой же вы делаете вывод? — Что упавший метеор заключает в себе совершенно новый элемент, неизвестный до сих пор ни физике, ни астрономии. Его наводящие ужас эманации обещают каждому исследователю мгновенную смерть… или безсмертие! — Конечно, — торопливо добавил он, — смерть отдельной личности не играет никакой роли перед значением этого таинственного нового элемента, который… Речь его оборвалась, точно нитка. Неожиданно потух свет в комнате. Все сидели в непроницаемом мраке. Всего только несколько мгновений. Потом свет снова вспыхнул. Все глаза повернулись к стулу, на котором сидел индус. На его месте сидела… незнакомая фигура — индусская женщина… — Продолжайте, пожалуйста, господин профессор, — сказала она глубоким, звучным голосом. Ее большие, блестящие глаза спокойно скользили по лицам присутствующих, точно она и не замечала отразившегося на них удивления. Прошло некоторое время, пока Кахин собрался с мыслями. Его глаза невольно повернулись к Думаску. Но тот не замечал этого. Он смотрел на женщину, как зачарованный. От ее экзотической красоты точно исходили особые флюиды, передававшиеся всему собранию. Бельгиец усиленно старался вернуть своим мыслям ясность. Все в этой комнате, в этом доме, казалось, имело целью поражать, смущать. Но он не хотел поддаваться слабости. — Я убежден, — закончил он свой прерванный доклад, — что значение для нашей земли этого нового таинственного элемента беспредельно велико, что он превзойдет все известные нам до сих пор вещества. — Я разделяю это убеждение. Благодарю вас, — произнес спокойный голос во главе стола. — Это убеждение и привело меня к последующим решениям. Метеор и его таинственная материя должны стать нашей неотъемлемой собственностью. Пока в нашем распоряжении только второй по размерам обломок. Секция Химии предпримет исследование. Необходимые средства готовы. Нужно произвести все возможные опыты. Человеческие жизни не играют роли, как вы правильно заметили, господин профессор… На бельгийца был устремлен ледяной, страшный взгляд, точно взгляд хищного зверя. Он ответил лишь молчаливым поклоном, но губы его слегка дрожали. Сидящая напротив него женщина повернула в сторону свою прекрасную голову, точно говоря с кем-то невидимым: — Но опыты начнутся тогда, когда я прикажу. Первые эксперименты предоставляются химику Вальтеру Верндту. Я полагаю, что они принесут ему смерть. Напрасно старалась я завоевать этого человека для нас, — страстная злоба исказила вдруг ее черты, — он отверг моих агентов. Поэтому он будет теперь помимо своего желания работать для нас… Париж — Инженерная секция?! Думаску неохотно поднялся. — Вы будете принимать участие в технической части сооружения лаборатории в качестве представителя международной комиссии. Удостоверение вы получите сегодня же. Вы постоянно будете держаться возле Вальтера Верндта и о каждом опыте делать нам немедленно донесения. Молодой болгарин покраснел от властного тона этого приказания. Как решилась эта женщина распоряжаться им словно вещью, видя его в первый раз? Его, залученного в этот дом под разными необычайными предлогами! Кровь прилила к его вискам. — Прежде, чем я исполню просьбу, мне необходимы некоторые разъяснения, — коротко ответил он. — Я могу исполнять подобные поручения только, если мне подходят условия. Присутствующих снова объял какой-то страх. На болгарина смотрели растерянные глаза. — Сатана в вас, что ли?… — прошипел Кахин. Большие глаза женщины изменились только на мгновение. В них точно вспыхнул огонек. Потом на ее тонко-очерченных губах промелькнула улыбка. — Секция Изысканий, — медленно, как ни в чем ни бывало, произнесла она, — и секция Руды должны находиться в постоянной самостоятельной связи с секцией Техники и делают сообщения секциям Химии, Финансов, Культуры и Центральной секции. Секция Изысканий!.. Итальянец услужливо наклонился вперед. — Всякий случай приобрести еще куски метеора должен быть использован. — Химия!.. Кахин поднял руку. — Я жду доклада, как только Вальтер Верндт достигнет каких-нибудь результатов, годных для практического применения, или же, если он падет жертвой своих первых опытов. Культура! Кто изменит общей работе — погибнет! Казалось, головы присутствующих пригнулись ниже к столу. Каждый смотрел перед собой таким взглядом, точно желал скрыться от грозного значения этих слов. — Вот зверь! — прошипел, сжав зубы, Кахин. Парижанину снова прилила кровь к вискам. Он только теперь понял угрозу женщины. Вся его мужская гордость протестовала против такого обращения. Он не понимал этих людей, безвольно склонявшихся перед ней. — Прошу слова! — крикнул он через стол. И только тут он увидел, что стул, на котором сидела женщина, пуст. Из-за занавеса снова появился белолицый секретарь и подал каждому из мужчин продолговатый конверт. — Благодарю господ присутствующих. Гости торопливо направились к выходу. Думаску шел последним, сразу за бельгийцем. Но когда он уже был у выхода, индус у портьеры поднял руку. — Госпожа ожидает саиба! Болгарин на мгновение остановился в нерешительности. Инстинкт точно предупреждал его. Но гордость взяла верх. — Где она? — спросил он с подчеркнутой невежливостью. Индус деловито пошел вперед и пропустил его с глубоким поклоном за занавес. Думаску стоял в сказочно обставленной индусской комнате. Переливчатые шелковые ковры покрывали стены. Вокруг стен стояли диваны, покрытые подушками, на полу лежали пушистые шкуры. Затемненный свет ламп падал на золотые украшения низких столиков и скамеечек. Посреди комнаты, на оттоманке, покрытой тигровой шкурой, лежала индусская женщина. Мягким движением руки пригласила она гостя войти, приблизиться и сесть на один из диванов. Спокойно и с интересом изучала она его лицо. — Вы горячий и смелый, — мечтательно сказала она глубоким, звучным голосом, — мне нужны смелые люди. — Я не люблю покоряться женщинам! — коротко произнес он с умышленной резкостью. — Поэтому я не люблю выказывать перед женщиной и смелость свою. Она слегка улыбнулась. — У вас будет случай проявить ее и при других обстоятельствах. Вы курите? Она протянула ему вазочку с папиросами. В ее вопросе было что-то похожее на приказание. И хотя инженер и хотел отклонить ее предложение, он все таки протянул руку за папиросой и закурил ее. Легкий, сладковатый аромат распространился по комнате. — Благодарю вас, что вы, подающий самые большие надежды техник Франции, отозвались на мой призыв, — приветливо продолжала она разговор. Нечто в ее голосе заставляло болгарина, вопреки его привычкам, оставаться невежливым. — Я не отзывался на ваш призыв, мадам. В Бенарес меня направило мое начальство для технических работ. Сладкий запах папиросы приятно успокаивал его мысли. — Бенарес? Город прекраснейшей воды? — повторила она. Слова ее звучали, точно пение. — Это чудный город, но таинственный. Бе-на-рес. — Ва-ра-на-зи… Своеобразное очарование исходило от этих слогов, произносимых ее голосом. Думаску вдруг ясно увидел перед собой картину этого города. Он видел ее так живо, точно на полотне кинематографа. Бесконечные ряды мечетей и храмов, берега реки с тысячами купающихся пилигримов, благоговейно пьющих священную воду, в которой изо дня в день искали исцеления прокаженные, и по которой плыли обугленные останки сожженных покойников… Ва-ра-на-зи, город прекраснейшей воды… Бе-на-рес… город безумия… Голос звучал точно из другого мира, но глаза женщины, похожие на два пламенных солнца, он видел у самого своего лица. И притом этот странный, сладковатый аромат… — Так вы бы не пришли, если бы знали, что я вас зову? — нежно ворковала она. — Бе-на-рес… Ва-ра-на-зи… — звучало в его мозгу. — Нет! — пыталось в нем что-то противиться, но тонкий, синий дым папиросы обволакивал все волевые центры каким-то блаженным туманом. — Я… не… знаю, — сказал он тихо. Слова были похожи на вздох. — Я… не… знаю… Точно ласку, почувствовал он на лбу мягкую руку, раз, другой… потом, блаженно улыбаясь, он откинулся на спинку дивана, погружаясь все дальше… дальше… Индусская женщина молча смотрела на него. Голова его лежала на ее руке, глаза ее были пристально устремлены на его переносицу. Медленно, будто странная песня, падали слова с ее губ: — Ты будешь смел, — внушительно произнесла она, — но не против меня. Тат вам ази… Ты — я… я — ты… Потом она ударила в гонг и исчезла за занавесью.
II.
Как две серебряные змеи тянулись узкие рельсы новой электрической рабочей дороги от северной части Бенареса вглубь страны. Вагон за вагоном катились из гигантских депо вокзала и направлялись во вновь возникший сказочный город, чуть ли не в одну ночь выросший из ничего в двадцати километрах от берегов священного Ганга, в цветущем уединении. Город Вальтер-Верндт, — как называли европейцы. Туземцы звали его городом волшебника. Каждый вагон, бежавший по рельсам, был доверху нагружен всевозможными материалами: аллюминиевыми плитами, целыми оконными рамами, досками, бетонными плитами, перевязанными веревками тюками. Индусские носильщики устраивались на задней площадке и теснились поближе к высоко-наложенной клади, чтобы хоть немного укрыться в тени и спастись от пылающих лучей солнца. Или же бранились с загорелыми молодцами, с легкомысленным задором вертевшимися на горах клади и ежеминутно рисковавшими сломать себе шею. Город волшебника… Чем ближе становились темные силуэты на горизонте, тем оживленнее было движение кругом. Бараки, сараи, бетонные строения надвигались на рельсы и растягивались во все стороны, точно паутина. Белые, желтые и смуглые фигуры кишели среди пустых его помещений, пешком и верхом, с волами или слонами, шли, торопясь, сгибаясь под тяжелыми ношами. Тысячи всевозможных звуков наполняли воздух. Стук молотков, скрип, шум колес, треск, сверление и визг пилы… Точно шум гигантской фабрики или кузницы. Среди всего этого — крики рабочих, короткие восклицания надсмотрщиков, звуки сирен и сигнальные свистки, вся будто ярморочная сутолока сотен суетящихся людей. Техники-европейцы принимали поезда и, осмотрев вагоны, рассылали груз по добавочным путям. Вокзал помещался в центре строений, заключавших в себе самую большую лабораторию всех времен, и напоминал внутренность мрачной больницы. Колоссальные залы, длинные каменные корридоры, широкие круглые и с углами башни странной формы. Между ними — толстые бетонные стены, глубоко врытые в землю, штольни, похожие на провалы и крытые землею погреба. Присутствие стражи перед входом в эти подземелья указывало, что опасные вещества уже были распределены по своим местам. От одного из затормозивших вагонов отделилась стройная мужская фигура. Техник услужливо пошел ей на встречу. — А… мистер Нагель!.. уже вернулись? Приезший приветливо протянул руку. — Прямо из Мюнхена. Тут все в порядке? Он выпрямил свою сильную, тренированную спортом фигуру, и сдвинул на затылок шляпу. Голубые, молодые глаза из под белокурых волос оглядели местность. Он впитывал в себя оглушительные звуки работ точно давно утраченную благодать. — Вы усердно работали последнюю неделю. Зала 3 и 4 уже готовы… — А 1 и 2 уже совсем устроены. И ваша обсерватория тоже. Все делается, как по волшебству. — Где сейчас доктор Верндт? Глаза техника засияли от гордости. — В главном здании. Он устраивает помещения в обеих башнях. С ним и новый инженер. Доктор Нагель слегка поднял брови. — Новый инженер? С каких пор?.. Его собеседник, казалось, готов был к этому вопросу. — Это — представитель международной комиссии… француз или болгарин… — Так!.. — Загорелое лицо инженера вдруг затуманилось. — Чтож, увижу в чем дело. С коротким поклоном он повернулся и направился прямо к зданию с башнями, составлявшему центр города. Его лицо постепенно прояснилось при виде шумной работы вокруг. С искренной живостью отвечал он на поклоны надсмотрщиков и инженеров. По их приветливости можно было судить об их расположении к нему. Один из старших инженеров присоединился к Нагелю. Они поднялись по лестнице главного здания. — Вы найдете много перемен за те восемь дней, что провели в Германии. Мы значительно подвинулись вперед. Что вы скажете о нашем главном зале? Доктор Нагель стоял пораженный. — Я в восхищении! — вырвалось у него. — Так, на деле, выходит еще иначе, чем на плане. Спутник его сиял. — Никто не в состоянии выстроить такой зал, как этот. Он находится в моем ведении, это — дворец аппаратов. Поглядите-ка на эти весы, чувствительные до одной миллиардной части грамма. Вдоль всей этой стены размещены аппараты для определения длины, толщины и объема, для измерения плотности, давления атмосферы и температуры. — А доктор Верндт? — спросил Нагель. Мысли его, казалось, были далеки от этих безчисленных аппаратов, стоявших, лежавших и висевших на подставках и столах. Но инженер не выпускал его. С любовной заботливостью провел он рукой по сверкавшему двояковыпуклому стеклу. — Мы собрали здесь все, самое усовершенствованное, что было до сих пор в распоряжении фотографии, фотохимии, кристаллографии, спектроскопии… — Бога ради! — Молодой человек заткнул себе уши. — … и это понятно само собою. Но рекорд побивают мои оптические и электрические измерительные инструменты для измерения углов, радиусов, кривизны и фокусных расстояний чечевиц[3]. Взгляните-ка на этот большой сферометр, на этот спектрометр, вольтометр, амперметр, болометр… Он вдруг замолчал, удивленно глядя на коллегу. Нагель кошачьим прыжком очутился на верхней ступеньке лестницы, ведущей в средний зал. — Продолжайте балометрировать один в вашем паноптикуме, дорогой Фред! — смеясь, крикнул он сверху, — тело мое перенесло уже несколько тысяч километров и не вынесет сегодня больше никаких метров. Не успел его собеседник опомниться, как Нагель уже исчез за обитой войлоком дверью. — Ого! — встретил его звучный голос, когда он влетел в зал. — Уже обратно? И в таком веселом настроении? Нагель быстро обернулся. Перед ним стоял стройный мужчина в лабораторном халате, с красивым, точно из бронзы отлитым лицом, на котором сияли удивительно ясные глаза, глаза орлиного охотника с северных гор. Овал лица его был узкий, нос с горбинкой. Все еще смеясь, младший коллега протянул Верндту руку с нескрываемой радостью. — Извините, учитель! Мистер Фред напал там на меня со своей боло- и сферометрией. Он был уже на вернейшем пути для измерения искривленной линии моего пустого желудка. Я спасся только поспешным бегством. Здравствуйте, дорогой учитель! Вальтер Верндт крепко пожал ему руку. Профессора всегда освежала бодрая жизнерадостность молодого друга, который был его товарищем в необычайных и опасных обстоятельствах. Нагель только теперь заметил рядом с Вальтером Верндтом незнакомца. Знаменитый исследователь заметил этот взгляд и сказал: — Доктор Нагель, мой верный ассистент и многолетний адъютант, — господин Думаску, член международной инженерной комиссии из Парижа, которому мы обязаны моделью нашего большого помещения для взрывчатых веществ. Со странно вопросительным взглядом Нагель и Думаску обменялись рукопожатием. Потом на лице Думаску появилась любезная улыбка. — Я так много слышал о вашей деятельности, уважаемый коллега, что вдвойне радуюсь лично познакомиться с вами. Я знаю вас как по тому времени, когда так счастливо был подавлен раздор между вашей родиной и Францией, моей второй духовной родиной, так и, прежде всего, по вашей охоте за нашим метеором, который живо интересует нас всех. Вы стали с тех пор для всего мира символом… символом… Он смущенно запнулся. — Безпокойства! — улыбаясь подсказал Вернд. — Можете говорить это спокойно. Это так и есть. Он повернулся к своему другу: — В Германии все в порядке? Ассистент кивнул головой. — Мне удалось скупить большее количество радия, чем то, которым обладают лаборатории всего мира, взятые вместе. Я привез и рентгеновские аппараты. Я вез ценный груз… — А молодую жену, как самый ценный? Глаза Нагеля засияли. — Она прилетела со мной на аэроплане. Я высадил ее в Бенаресе, а сам поехал по рабочей дороге. Думаску взглянул на него с интересом: — Ах… дочь математика Картклифа? Вы совершили самое оригинальное из всех свадебных путешествий. Нагель вежливо повернулся к нему. — Каким отделом будете вы ведать, коллега? Верндт предупредил его ответ: — Господин Думаску взял на себя изоляционные работы отдельных помещений. Эта работа требует особого внимания и опыта, так как нам приходится иметь дело с рядом новых, обладающих неслыханной проницаемостью лучей, которые легко могут незаметно и непрошенно помешать нашим опытам. В этой области господин Думаску специалист. Он будет, по желанию международной учредительной комиссии, лично присутствовать при наших опытах. Нагель хотел что-то возразить, но его остановил быстрый, предупреждающий взгляд Вальтера Верндта. Он хорошо знал этот взгляд по годам совместной работы. Это было молчаливым знаком того, что его учитель и друг хотел сказать ему нечто такое, что не должен был слышать третий. Доктор Верндт снял рабочий халат и пошел в залы, расположенные к северу. У дверей он вдруг остановился. На встречу ему несся беспорядочный шум криков, среди которых прорывался чей-то бранившийся голос. Металлические стены и стекляные окна усиливали звуки точно рупор. — Сыновья индусов, негры с Ганга, бонзы-факиры! — донеслась снаружи невероятная смесь английского, испанского и сингалезского наречия. — Вы здесь, в Индии, воображаете, что можете показать нам что-нибудь новое? Несчастные вы, соломенные головы, что вы значите с вашими фокусами со змеями перед волшебными инструментами моего друга и хозяина, синьора Нагеля! Если я направлю на вас вот эту трубу. Боже мой! Чорт побери! Несколько индусских работниц громко завизжали. — У того, кто заглянет сюда, душа вылетит через эту трубу прямо к звездам и рассыпется там на десятые части атома, так что весь мир начнет без конца чихать!.. Прочь от трубы, несчастная желтая кожа, не толкайся в трубы со своей голой головой с зеленой грелкой для кофе. Бездельники! Подождите-ка, вот я поверну эти винты… Послышались взрывы брани и испуганные крики. — Вы не стоите, крокодиловы братья, чтобы я вас оберегал, но… кто не уберет свои жирные пальцы с этих выпуклых стекол, того я увеличу до таких размеров, что он лопнет, как надувшаяся лягушка. Пальцы долой! Индусы понимали его на половину, но они стояли, разинув рты, то смеясь, то с испугом глядя на рассерженного оратора. Верндт сочувственно улыбнулся Нагелю. — Ваш дон Эбро в роли сторожевого пса. Оратор услышал звон железной двери. Он тотчас же прервал свою речь и принял позу. Теперь он стоял неподвижно, полный достоинства, слегка выставив одну ногу, точно для танца. Желтое лицо его,перерезанное морщинами, было неподвижно. Смеялись только черные, как уголья, глаза. Нагель подал ему руку. — Опять сердитесь, дорогой мой? Дон Эбро убрал выставленную ногу. Складки его точно кожаного лица проделали какое-то круговое движение и снова застыли. — Наука требует от меня принесения в жертву моего испанского достоинства. Что это за ужасный народ! Я не понимаю их, они не понимают меня, возятся с нашими трубами, точно со своими бамбуковыми палками. Все время так боишься, что они что-нибудь сломают, — sennor mio, — что потеешь со страху, не переставая, точно в июле месяце в Мадриде. А чечевицы, чечевицы! Я их уже шесть раз чистил, а они снова липнут к ним своими жирными пальцами, точно оводы летом… Каким-то фантастическим прыжком очутился он возле смуглого парня и схватил его за ухо. — Клоп с Ганга! Негодяй лезет прямо в стекло большого рефрактора! Осторожно, ломовая лошадь! Бобби, унеси в обсерваторию маленькую подзорную трубу. Где измеритель меридиана? Я подозреваю, молодцы, что вы жрете платину и аллюминий! Его худая черная фигура исчезла в лабиринте ящиков и тюков, среди толпящихся носильщиков… — Не слуга, а настоящая жемчужина! — заметил Думаску. — Его участие в полете вашего «Сокола» сделало его международной знаменитостью. Верндт удовлетворенным взглядом окидывал полные подставки и сверкающие столы. — Я бы хотел еще осмотреть наши холодильники и электрическую печь. Она должна дать 16.000 градусов. Через две недели… еще всего две недели и наша работа может начаться.III.
В высоком зале с куполом обсерватории города Вальтера Верндта царил голубоватый полусвет. Точно привидения вырисовывались в лунном свете на фоне белой стены сверкающие силуеты подзорных труб и гигантских телескопов. Тени от облаков затемняли по временам полуоткрытый купол и фантастически изменяли очертания предметов. Они точно качались, уплывали во мрак, ускальзывая от взгляда… В невозмутимую тишину ворвался легкий стук, точно звук открывающейся двери. Растущая тень быстро промелькнула по зале и на мгновение задержалась в освещенном луной пространстве. Резко очерченный профиль мущины повернулся к темной части помещения и несколько секунд перед его глазами трепетал лист бумаги. Потом человек безшумно скользнул к длинному 20 дюймовому рефрактору, конец которого выходил через купол. Скрипнули задвижки и рычаги, раздалось тихое-тихое жужжание. Черная фигура и блестящая труба точно срослись и стали одним существом. — Ну вот, — послышалось мгновение спустя, — превосходно! Потом все стало тихо. И вдруг странный силуэт точно разорвался на две части. Голова мущины очутилась в звездном свете. Он прислушался. Всего несколько секунд. Потом тень отпрянула в сторону и исчезла в сереющем мраке… В то же мгновение задребезжала железная дверь, звякнула задвижка и вспыхнул яркий свет. — Пожалуйста, фрау Мабель, — сказал, входя в башенное помещение, Вальтер Верндт. — Вы ведете меня в настоящую сказку с привидениями, — послышалось в ответ. Из полумрака дверей выступила стройная фигура молодой женщины. Яркий свет упал на нежное лицо поразительной красоты. Сейчас же вслед за ней вошел доктор Нагель. Он окинул зал блестящими глазами… — Может ли быть что-нибудь прекраснее обсерватории при свете луны, Мабель?! Тут заключено все великое, вечное, сильное. Светящийся мрак ночи, открытый купол, точно врата к разгадке мироздания, очертания труб, — нащупывающие руки ищущих познания людей… И миллионы людей просыпают каждую ночь эти чудеса вселенной, смотрят на небо только как на картину, как на зажженую рождественскую елку, на немые кулисы, ничего не подозревают о всем этом волшебстве там, на верху, о звездах, о скоротечности времен… и умирают, умирают, ничего не узнав! Молодая жена нежно пожала руку мужа. Она вся была во власти воспоминаний о старике отце, знаменитом астрономе Картклифе. — Присядем немножко, — предложил Верндт и придвинул стул молодой женщине. Его ассистент выжидательно смотрел на него. Инженер помедлил еще минуту. — Я привел вас сюда в этот поздний час не без причины, мои дорогие, — сказал он тихо, спокойным и серьезным тоном. — В течение дня так редко остаешься наедине. А у меня есть причины скрыть от третьего то, что я вам хочу сегодня сказать и показать. У меня такое чувство, точно меня преследуют, подслушивают… Жена Нагеля подсказала: — Думаску! Так значит, — правда… — Может быть Думаску, может быть кто-нибудь другой. Во всяком случае — не он один. Несколько недель тому назад ко мне явился человек, — я принял его за индуса, — и старался довольно странными предложениями склонить меня вступить в частную компанию и предоставить им мои открытия… — Да что этот молодец, съума сошел, что ли? Он же знал, с кем говорит! — Даже очень точно. Когда я отверг его предложения, он попросил меня подойти с ним к факиру, который даст мне очень важные сведения для моего дела. Мабель была страшно заинтересована. — Вы этого не сделали? — Я молча повернулся к нему спиной. Когда я обернулся, индус исчез. Но на его месте лежала записка со словами: «Бойся гнева госпожи! Повинуйся!» Нагель громко рассмеялся. — Безподобно! Настоящий рассказ с сыщиками! Не могут наши братья индусы бросить шарлатанства. Но Верндт, против ожиданий Нагеля, остался серьезен. — Я сначала отнесся также точно и разорвал эту дрянь. Сегодня, спустя четыре недели, я снова нашел такую же записку на моем письменном столе в Бенаресе… — Жуткая страна! — сказала Мабель. Она вся вздрогнула. Верндт успокоительно кивнул ей. — Это еще не значит, что мы должны повсюду видеть привидения. Я принял бы все это за некрасивую шутку или за угрозу сумасшедшего, если бы инстинкт не предупреждал меня на этот раз. — Я сразу почувствовал недоверие к этому болгарину. — У меня до сих пор нет причины подозревать Думаску. Хотя я и должен считаться с возможностью, что он приставлен ко мне для контроля… — Но что за цель может быть?.. — Целей может быть достаточно, фрау Мабель. Вы не должны забывать, что дело касается исследований, от которых весь мир ожидает особенных результатов и знание которых является для владеющего ими, при известных условиях, настоящей силой. А вы знаете, что стремление к власти ведет ко всяким преступлениям. — Вы должны еще вспомнить, как остро было соперничество за приобретение японских осколков метеора, и что я среди больше чем десяти сильных конкурентов получил по народному решению метеориты и поручение произвести их химическое исследование. Некоторые отдельные лица и группы не помирятся добровольно с таким решением. Стремление к могуществу и богатству могут быть двигателями. Ведь оскорбленная гордость Франции уже добилась того, что назначена международная контрольная комиссия при исследовании метеора. Болгарин — член этой комиссии. — Я ему не доверяю. Что ему здесь нужно? — Предоставим это будущему. Пока что с меня довольно ощущения, что нас подслушивают, или, вернее — преследуют, как угрожает записка. Если до сих пор я просто мог не обращать внимания на эти угрозы, то сегодня я уже не имею права так поступать. На мне лежит ответственность за мою задачу, от меня, быть может, зависит будущее человечества. Я должен рассчитывать и на то, что метеор проявит силы и особенности, для которых мои средства могут оказаться недостаточными. Коротко говоря, какой-нибудь из опытов может мне стоить жизни. Беззаботность была бы ошибкой. Я должен быть уверен, что мои исследования и результаты моих опытов не исчезнут вместе с моей персоной. — Вы записываете их? — Да, я делал это. Но мои записки… были украдены. Точно в одном порыве подскочили к нему Нагель и его жена. — Украдены? — Украдены, — спокойно повторил Верндт. — Уже в Нью-Йорке я заметил исчезновение некоторых записок, касавшихся эманаций метеора, спектральных анализов и других. Последние ночи я снимал здесь с вами на ультрахроматические пластинки части неба. У меня были совершенно определенные причины. Мои ожидания подтвердились. Эти приемки привели к открытию большой важности. Глаза обоих слушателей засверкали в серебряном свете луны. Безконечное уважение отразилось на их лицах. Инженер встал и прошел к 20 дюймовому рефрактору. — И эту записку у меня украли несколько часов тому назад. Из моего запертого письменного стола. Нагель сжал кулаки. — Я найду этого негодяя! Я… Инженер сделал рукой отрицательный жест. — На этот раз там было всего только несколько строк. Притом особым астрономическим шифром, известным только мне. Тот, кто нашел эти записки, извлечет из них мало пользы. Но я не могу допустить таких случайностей. Мои исследования должны быть отделены от моей персоны. Я подумал о том, чтобы сообщать их вам, дорогой Нагель. Я не знаю более молчаливого хранителя тайн, чем вы, мой былой сотрудник. Но и этого уже недостаточно. И вам грозят те же опасности, что и мне. Мабель невольно прижалась к любимому человеку. — Поэтому я хочу довериться еще одному лицу, на которое могу положиться во всех случаях. Фрау Мабель, хотите вы взять на себя эту задачу? Молодая женщина не отвечала. В ее блестящих глазах сверкали слезинки. Она была слишком тронута, чтобы говорить, слишком подавлена таким большим доверием, чтобы быть в состоянии благодарить. Она молча и от всего сердца протянула Верндту руку. — Так подойдите, пожалуйста, к этой трубе. Он взялся за рычаги, чтобы направить трубу, но рука его застыла у рукоятки. Он тихонько свистнул от удивления и обернулся к Нагелю. — Подходили вы сегодня после семи часов к этой трубе? — Я целый день не был в этой башне. — Ключи от ворот еще у вас? — Вот они. Верндт на мгновение задумался. — Удивительно! Мне казалось, что я оставил трубу в другом положении. Все еще задумчиво поворачивал он винты и задвижки. Потом осторожно отошел и уступил место Мабель. Дочь астронома Картклифа умела обращаться со звездами. Она с интересом заглянула в стекло. — Труба сдвинулась, — сказала она после непродолжительного напряженного наблюдения. — Нет. — Но я ничего не вижу, — последовал удивленный ответ. — И все таки в поле зрения подзорной трубы находится созвездие, которое я могу назвать замечательным. Поверните-ка окулярный револьвер на более слабое увеличение. — Да. — Теперь вы должны видеть у границ поля зрения пять звезд, образующих почти равносторонний пятиугольник. — Я вижу их и… — И в этом пятиугольнике небо совершенно пусто… — Да, я не вижу ни одной звезды в этом пространстве. — И вы ничего не видели, когда я вам подставил при большем увеличении середину пятиугольника. И все же там имеется звезда, ярче Веги, сияющая больше чем Южный Крест, и даже ярче Сириуса, самой блестящей из неподвижных звезд. Только свет ее не действует на сетчатку человеческого глаза. — Так эта звезда испускает ультрафиолетовые лучи, как американская туманность? Световые волны ее так коротки, что глаз их не воспринимает? — Никоим образом. Но звезда посылает свой максимум света при условии «W»=0,7–0,3[4]. — Это, ведь, длина волн видимого спектра — торопливо вставил Нагель. — Конечно. И, все же, это трансцендентный свет. То же излучение, которое воспринимает моя ультрахроматическая пластинка и которое показал нам спектр метеора. Нагель невольно схватил ученого за руку. — Вы открыли звезду ультрафотографическим способом? — Да, позапрошлой ночью. Несколько секунд все трое молчали. Мысли были подавлены значительностью услышенного. — Какое значение имеет открытие этой звезды? — прервала, наконец, молчание Мабель. — Я думаю, что она даст нам возможность разгадать великую загадку природы и задаст нам новые загадки. Нагель взволнованно смотрел в трубу. — Не думаете ли вы, что между нашим метеором и той звездой есть связь? — Без сомнения. Я подозреваю, что наш метеор — вестник с того созвездия, что он летел миллионы лет в пространствах вселенной, чтобы, наконец, быть пойманным нашей всеобщей матерью — солнцем, разбиться о землю к ужасу ее обитателей и превратиться в ничто. Нагель смотрел на Верндта с благоговейным волнением. — Учитель, вы посланы нам с неба, чтобы… — Не я, а метеор. И я верю в предназначение. Ничто не бывает без смысла. Почему попал метеор именно на землю, единственную обитаемую планету в царстве солнца? Почему попал он на землю именно теперь, когда на нашей планете настолько расцвела культура, что вестнику неба обеспечено всяческое внимание? Почему этот болид при падении не уничтожил все человечество? Почему не погрузилось все сокровище из далекого звездного царства вглубь океана? Почему часть его попала на сушу, и мы теперь имеем возможность исследовать его? И, наконец, почему так относительно близко от нас находится родное метеору созвездие и почему оно все продолжает приближаться к нам с головокружительной быстротой? Мои исследования с помощью спектрографа не допускают в этом никаких сомнений. Сегодня еще могут покачивать головами, но я вам говорю, что между всеми этими вопросами есть связь, которая сейчас еще остается для меня совершенно непонятной. Но, если будет возможно открыть эту связь, она приведет нас к расширению познания вселенной, к познанию сущности всех вещей. — Вы думаете, что это единственная звезда такого типа? — Может быть, единственная, может быть найдут еще легионы подобных. Во всяком случае, здесь дело касается целого класса образований материи совершенно особого типа. Кто знает, быть может, как раз на этом созвездии скрыта тайна обитаемости звездного мира. Быть может, мы узнаем живут ли на звездах какие-нибудь существа и что это именно за существа? Кто знает, достигнут ли люди того, чтобы по куску праха, посланного нам этой звездой, прочесть таинственные письмена неба? Чуждо звучал голос Нагеля в мерцающей синеве лунной ночи. — Да, учитель, вам это удастся! Вальтер Верндт ничего не ответил. Он стоял у трубы, окруженный мраком, но высокий лоб его был освещен, а сияющие глаза как будто отражали свет звезд… Раз… два… пробили башенные часы с высоты главного зданья. Эхо звучало долго, прозрачное, далекое… Оно было точно подтверждением, ответом…IV.
Маленький, кровавокрасный аэроплан стремительно снизился на землю невероятно крутой спиралью, похожей на падение, и остановился на скалистой площадке среди ущелий. Несколько секунд он еще раскачивался из стороны в сторону, точно яркая бабочка. Потом быстро открылась дверца и появился единственный пассажир. Это была женщина в плотно облегавшей фигуру кожаной одежде. Она легким движением расстегнула кофточку и сняла с головы шлем. Ищущим взглядом больших, блестящих глаз, окинула она окружающую местность. Потом, со спокойной уверенностью, направилась к непроходимой с виду стене из ползучих растений. Женщина отодвинула в сторону зеленую стену, точно занавес. За нею сразу стало светло. Естественные ступени в скале вели кверху, к неровному выступу. Напротив этого выступа, в отраженных лучах солнца, сверкали и отбрасывали вниз глубокую тень каменные ворота, точно выросшие из скалы или сооруженные руками титанов. Над зияющей, наводящей ужас пропастью, по самому ребру скалы к воротам вела узкая тропинка. Летчица, не колеблясь, пошла по ней. Точно каменный корридор, вела вглубь горы узкая расщелина с блестящими от сырости стенами. Широко-размытые пространства в скале, напоминавшие собою залы, говорили о том, что здесь когда-то пробивал себе дорогу могучий водопад, пока не нашел другого выхода или не отклонился в сторону. Не видно было ни одного человека. Только гигантские летучие мыши, точно приведения, неподвижно висели по стенам, и маленькие пестрые ящерицы и змеи мелькали на земле в высохшем русле. Рев бушующей под почвой воды становился все слабее и слабее. Изредка стены издавали жалобные, шипящие звуки, далекие, неправдоподобные, неопределимые, и еще неприветливее становилось в вымершем ущельи. Вдруг женщина вздрогнула. Но это было всего только мгновение… Прямо перед ней сидела черная фигура. Изможденный, почти оголенный человек откинул назад голову и неподвижно поднимал руки к небу. Без движения, без признаков жизни, точно каменное изваяние. Только широко-открытые, лихорадочные, сверкающие глаза бегали в орбитах из стороны в сторону, точно подхлестываемые зверьки. Поперек дороги лежал еще один человек. Он вытянулся на узкой доске, усеянной длинными гвоздями. Их ржавые острия впивались в тело кающегося. Но ни одно слово жалобы не слетало с его уст. За ним вниз головой свешивался человек. Ноги его были привязаны к перекладине, и он не подавал никаких признаков жизни. Вдоль стен вырисовывались все новые и новые фигуры. Молодые люди, связанные в неестественных позах, с тяжело дышащими боками. Белоголовые старцы, погруженные в немое созерцание, с пронзительным взглядом глаз, устремленных на скалистую стену. Местами отвратительные головы, точно жуткие призраки, торчали из расселин скалы… Не оглядываясь, проходила женщина мимо кающихся иогов. Русло потока разделялось на две части и образовало колоссальный зал, деревянные двери которого были первым признаком человеческой деятельности в этом мрачном месте. Трижды прозвучали удары молотка, вызывая среди скал эхо, похожее на рев. Потом двери растворились, точно от дуновения ветра. Яркое солнце ворвалось в проход. Перед глазами женщины был двор, похожий на двор храма. Пол его был выложен блестящими камнями. Они образовали звезду, в центре которой высился золотой бассейн. Вековые деревья теснились вокруг двора и визгливые обезьяны раскачивались в их ветвях и рычали на встречу незнакомой посетительнице.
…Это были все кающиеся иоги…
Молодая женщина остановилась, устремив взгляд на поднимавшуюся перед ней скалу. Высокая, высокая и страшно узкая, склонялась она над обрывом, похожая на окаменелый ствол дерева. Точно в далекий мир был протянут мост, противоположный конец которого обломился. Под скалой зияла мрачная пропасть, полная колеблющихся теней и обломков скал. И на этом страшном, головокружительном конце скалы спокойно стоял человек. Его тело казалось на фоне неба неестественно большим. Длинная белая одежда ниспадала до пят и развевалась от ветра, поднимавшегося из пропасти. Он казался погруженным в созерцание солнца. Наконец, он повернулся на скалистом выступе и несколько секунд шел, как бы несясь по воздуху, по лезвию скалы, и затем спокойно подошел к золотому бассейну. Его точеное лицо было неестественно желтого цвета. Яркого и ровного, точно кожа апельсина. Голова его была обнажена. Длинные, белоснежные волосы ниспадали до плеч и придавали ему облик, вызывавший почтение.

На головокружительном конце скалы стоял человек. Длинная белая одежда ниспадала до пят…
Без малейшего удивления взглянул старец на ожидавшую его женщину. Точно благословляя, протянул он к ней на мгновение руку. Она молча склонила голову. — Я видал, как из облаков опустился гриф моей дочери, — сказал он звучным голосом, поражавшим при его седых волосах. — Чем могу я служить госпоже? Она с живостью подняла прекрасную голову. — Дай мне совет, учитель! — Спрашивай! Что беспокоит мою дочь, владычицу индусов? — Мне доносят о странных явлениях. Китайское судно, на пути из Сан-Франциско в Пекин, сообщает, что море в той области точно поднялось и образовало гору, с которой стекает во все стороны вода. Корабль был задержан этим явлением на своем пути. — Когда это случилось? — Уже месяц тому назад. — Что сообщают теперь? — Проявления этого странного изменения в море становились с каждым днем все сильнее. Водяная гора поднималась все выше. Образовалась водяная тромба, гейзер. Он выбрасывает на высоту двух тысяч метров столб водяной пыли… Иог стоял некоторое время неподвижно, молча, с закрытыми глазами. Потом жизнь снова вернулась к нему. — Говори дальше! — Пилот скорого воздушного корабля, совершающего перелеты от Иокогамы до Сан-Франциско, заметил в первый раз месяц тому назад и чем дальше, то все сильнее, отклонение компасной стрелки. Из-за этого водяного столба изменилась также температура и барометрическое давление… Старец снова закрыл глаза. — Это место объято вихрем антициклона… — Да, это так. — …В море же образовался циклон, типа мальстрома? — Ты это знаешь! По измерениям азиатско-американской линии, круговоротное движение становится уже заметным в 50 километрах от центра. В 20 километрах оно уже так сильно, что корабль с трудом держится курса. Совершенно невозможно приблизиться к центру больше, чем на 10 километров. На поверхности моря, в центре, где вода поднимается, точно колокол, с которого она стекает во все стороны, течение, как ты говоришь, антициклонное. На небольшой глубине уже определили поворот течения, а глубже нашли чудовищное вихревое течение. Не говоря ни слова, подошел иог к золотому бассейну посреди площадки. Движением подозвал он к себе индусскую женщину. Но прошли минуты, пока он медленно заговорил. — Тебе доносили правду, дочь моя. Это метеор, который ты ищешь. Индуска вскочила. Ее смуглое лицо было радостно взволновано. Старец предупредил ее вопрос. — Но для тебя он недостижим. — Так чужеземец будет обладать тем, о чем я… Иог спокойно покачал головой. Точно порицая ее: она не дождалась его ответа. — Чужеземец проник в мое царство и хочет… — Вальтер Верндт тоже не достигнет цели, если Брама не захочет. Она смотрела на него, пораженная его словами. — Ты знаешь?… Он отклонил вопрос, как глупую болтовню. — Прости меня! Помоги мне одолеть чужеземца! Старец скрестил на груди руки. — Не бойся ничего. Чужеземцу незнаком путь вечности. Он — европеец, — в его голосе звучало невыразимое презрение, насмешливое сожаление. — Семь ступеней посвященного чужды ему. Рычагами и винтами хочет он разгадать мировую тайну. Руками пракрти[5] тянется он к Будде и наталкивается на… ничто. Он сын физического мира!.. Индуска взволнованно смотрела перед собой. — Но если это ему все же удастся… Если ему удастся… В глазах иога промелькнул огонек. — Malabar Hill[6] — произнес он угрожающе. — Тогда его ждут коршуны парсов.
V.
Дон Эбро стоял у дверей в неподвижной позе, полной достоинства, — слегка отставив ногу, как в танце. — Sennor Верндт просит вас через четверть часа в лабораторию. Все уже готово. — Отлично! — кивнул Нагель. Его молодая жена задумчиво посмотрела вслед слуге. Ее глаза беспокойно блуждали по комнате, постоянно задерживаясь на лице мужа. Глаза ассистента сияли. Он вытянул руки, точно пробуя свою силу. — Наконец-то мы добились, что можем произвести первый опыт. Значит, момент, действительно, наступил. Месяцами готовились к нему, мечтали… — И боялись! Он удивленно обернулся и только теперь заметил беспокойство Мабель. — Боялись?! Ты боялась? Но почему же?.. Она виновато улыбнулась. — Ты еще спрашиваешь, почему? Вы собираетесь исследовать новое вещество, новый элемент, скрывающий в себе, быть может, опасности, о которых вы и не подозреваете. Неожиданные взрывы, выделение едких жидкостей и ядовитых газов, невидимые, несущие с собою смерть, излучения… Смерть подстерегает вас в этом несчастном метеоре в тысяче всевозможных видов. Он погладил ее волнистые волосы. — Глупенькая! Такие фантазии у дочери ученого! Сотни раз присутствовала ты при подобных опытах, даже сама помогала в лабораториях… — Но тогда у меня еще не было тебя… — А когда ты бесстрашно полетела вместе с нами на великолепном «Соколе», навстречу падающему метеору? — Я была тогда возле тебя. Мне не о чем было беспокоиться… — И теперь тебе тоже не о чем беспокоиться. О чем? Я уверен, что обломок будет вести себя так же чинно и спокойно, как и всякий камень. Газетная шумиха расстроила тебе нервы. Так много говорят про опасности и всякие козни, что нас станут, пожалуй, осуждать, если все обойдется благополучно. — Ты очень недурной актер, Вернер! Он сделал серьезное лицо доцента. — Но почему же? Если бы в камне, действительно, было что-нибудь такое, так оно давно бы уж проявилось. Метеор упал с неба в раскаленном состоянии, изо всех сил ударился об землю и все же не произошло взрыва. Кули подобрали осколки, взвалили их на повозки и никто не лишился руки или пальца. Тысячи людей в Токио осматривали и ощупывали камень и никто из них не попал в дом для умалишенных. Очевидно, не существует ничего более безвредного, чем этот кусок камня. Она любовно посмотрела на мужа, но в глазах ее все же был упрек. — Ты рассказываешь все это совсем маленькой девочке, или дочери Марка Картклифа? Он слегка смутился. Она нежно обняла его за шею. — Ты говоришь о внешней оболочке. Я же говорю о самом ядре. Вы проникаете в тело метеора всеми реактивами: кислотами и щелочами, нагнетением и нагреванием. А, ведь, вы знаете странный спектр этого вещества. И все, что вам известно о нем, это то, что он был не известен до сегодняшнего дня. Вы делаете прыжок во мрак. И я в первый раз испытываю страх. Страх перед чем-то неизвестным. Мой инстинкт совершенно отчетливо предупреждает меня. Он пугает меня по ночам, в сновидениях. Если бы я хоть могла присутствовать, когда… — Бога ради! — вырвалось у него. Но он сейчас же заметил свою ошибку и сконфуженно засмеялся. — Что нам было бы делать вчетвером? Верндта, Думаску и меня совершенно достаточно, — торопился он говорить, стараясь не дать ей вставить слово. — Да и, кроме того, ты обижаешь своим беспокойством Вальтера Верндта. Ты думаешь, что он не предусмотрел всего? — Насколько он был в силах сделать это. — Его скафандры, положительно, гениально устроены. Ни у одного химика до сих пор не было в шкафу такой одежды для лаборатории. Ты, ведь, видела эти костюмы при примерке. Точно в водолазном наряде стоишь в этих асбестово-каучуковых оболочках. В таких панцырях с нами ничего не может случиться. Мы облили их серной кислотой, хлорной водой и соляной кислотой. Мы окунули их в расплавленный свинец, испытывали на них действие различных газов и огня. Дорогое дитя, и газ и огонь просто на смех нас подняли. Наши костюмы действуют, как изоляторы для электричества. Они обезврежены против рентгеновых лучей, лучей Y, Z. — и против всех других лучей радиоактивных веществ. Право не знаю, что еще нужно было бы от нас при таких условиях этому сумасшедшему метеору! В дверях, точно призыв к действительности, стояла темная фигура слуги. — Иду, — кивнул ему Нагель. Он заставил себя взять беззаботный тон — Так значит до обеда, моя девчурка? И не бояться, слышишь?! Она удержала его поцелуем. — Я пойду с тобой и помогу вам хоть одеть ваши халаты, — сказала она слегка дрожащим голосом. Она направилась к лаборатории, не дожидаясь его ответа. Как три допотопных, неуклюжих чудища двигались в большом зале лаборатории Вальтер Верндт и его два ассистента, заканчивая последние приготовления к опыту. Они подняли кверху огромные головы асбесто-каучуковых костюмов. Гениально устроенные скафандры допускали переговоры с помощью радиофонных аппаратов, но без головных уборов все же легче было понять друг друга. А, главное, гораздо приятнее было дышать свежим воздухом лаборатории, чем находиться в сгущенной атмосфере всех кислот, которыми пропитан был костюм. Собственно, помещение для опытов поражало своей пустотой. Все лишние предметы были устранены. Все аппараты были вынесены в соседние комнаты и находились на случай нужды под рукой при посредстве электрических двигателей и пневматических передач. Стены зала были оклеены тем же непроницаемым веществом, из которого были сделаны халаты исследователей. Странно мрачными казались эти каучуковые обои стен высотою с дом. Только большое окно в куполе пропускало в зал дневные лучи. Оно было устроено с таким расчетом, что тотчас же автоматически открывалось, когда атмосферное давление в зале начинало превышать 860 миллиметров. Взрывчатые газы находили таким образом свободный выход кверху. На случай большой опасности, стояли похожие на гигантские несгораемые шкафы панцырные камеры, защищенные предохранительными экранами. Они были расставлены в известном порядке вокруг плавильных печей, возвышавшихся на широких бетонных площадках. Последним внимательным взглядом окинул Вальтер Верндт плавильные аппараты. — Все в порядке, господа, мы можем начинать. Мы будем обращаться с метеором, как принято обращаться с неизвестными телами. Только я воспользуюсь для разложения химических веществ жаром, а не слишком продолжительным реагентивным методом. Опустите ваши шлемы. Он нажал электрическую кнопку. Тотчас же раздвинулся пол, раздался глухой шум и из глубины поднялась большая каменная глыба. Темная, угловатая, таинственная — меньший из найденных осколков метеора. Нагель отбил от нее молотком кусок величиной с кулак и подал его Верндту. Остальной камень медленно опустился под пол. Верндт положил крупинку вещества метеора на платиновую сетку и закрыл ее платиновой проволочной крышкой. Посредством рычага включил он электрический ток и дал телу медленно нагреваться. Несмотря на значительную степень нагревания, кусок оставался все тем же камнем. Не произошло ничего нового. Не выделялся газ и вещество не проявляло склонности к плавлению. — Ничего не выделяется! — проворчал разочарованный Нагель. — Меха для взрывчатых газов! — приказал Вальтер Верндт. Из-за шлема его голос звучал точно через мембрану телефона. Думаску пустил в ход аппарат. Жара повышалась неотступно. Метеор оставался без изменения. Верндт выключил рукояткой электрический ток. — Теперь испробуем плавильную печь, — сказал он спокойно. Нагель направил кабель. Он вертелся вокруг печи, точно молодой слон. — Теперь-то уж наверно нагреется эта ледяная глыба, — засмеялся он сухим смехом. Эхо точно передразнило его. Думаску выжидательно наклонился вперед. — Какую температуру дает печь? — От 6 до 10 тысяч градусов. Она годится, во всяком случае, только для небольших опытов. Я начинаю, господа! — Нам не нужно еще уходить в предохранительные камеры? — Пока еще нет. Что показывает термометр? — 2100. Жара усиливалась с каждой минутой. Черный метеор в тигле не показывал никаких признаков жизни. — 3000 градусов! — прокричал Нагель. Его выводила из себя невозмутимость камня. Разве для этого делались все приготовления, строился город Верндта и был напуган весь мир? Миллионы и миллионы людей в эту минуту нетерпеливо ждали первых сообщений. Первый опыт, конечно, не мог дать окончательных результатов. Это была только проба, легкое нащупывание. А что, если этот обломок камня в тигле обманет их ожидания? Если все было только воображением? Такой же камень, как и всякий другой! Какие их тогда ожидают нападки! — 3100. Верндт коротко нажал выключатель. — Теперь нам, к сожалению, придется отправляться в нашу клетку. Покачиваясь и нащупывая стены, залезли трое мужчин в массивный стальной шкаф. — Мне кажется, что я пакет с долларами в банковском сейфе, — шутил Нагель, стараясь вернуть себе доброе расположение духа. Инженер герметически закрыл изнутри неуклюжую дверь. Он стал следить в зрительную трубу за положением обломка метеора. Ничто в нем не изменялось. — Возьмитесь за съемку на обыкновенные пленки, Думаску. А вы там, милый Нагель, за ультра-хроматическую пластинку. Ассистенты встали к аппаратам. Это дело было им хорошо знакомо. Плавильная печь была устроена так, что со всех сторон можно было видеть раскаленный тигль. Температура снова поднялась на сотни градусов. — 4000, — произнес Нагель. Легкое движение пробежало по фигуре инженера. — Метеор тает! — твердо произнес он, без малейшего волнения. Глаза всех напряженно смотрели на чечевицы. Руки их механически хватались за рычаги и клапаны. — Хорошо, что стекла зачернены! — послышался голос Нагеля. — Иначе жара была бы невыносима для сетчатой оболочки. Серо-зеленая масса обломка метеора быстро растекалась, точно тающее железо. Клокочущая жидкость постепенно выпарялась. Она заметно уменьшалась в объеме. — Последите-ка за постоянно меняющимся спектром! — крикнул Верндт, стоя у чечевицы. — Точно радуга в калейдоскопе. — Что вы из этого заключаете? — Каждый элемент имеет свой определенный спектр, свое особенно окрашенное сияние, по которому его узнают физики. По этим спектрам мы еще до падения метеора могли определить присутствие знакомых нам веществ, как железо, никель, хром и платина. Теперь вы видите, как эти вещества отделяются при таянии по одиночке, точно на параде. Исчезает спектр за спектром, указывая этим на то, что известный элемент испарился. Этим объясняется меняющаяся окраска. — А то, что остается? — Есть именно то, что мы ищем. — 7000 градусов, — произнес удивленный Нагель. — Остановитесь! — сказал Верндт и прильнул к зрительной трубе. Жидкость вдруг неожиданно изменилась. Жидкая до сих пор масса вдруг превратилась в кашу, стала тягучей и начала выбрасывать кверху большие клубы газов. — Теперь! — послышалось короткое восклицание. Ассистенты поняли, что хотел сказать Верндт. В молчаливом ожидании сильнее забился их пульс. Что проявится? Что случится? Разнесет ли взрыв эти остатки камня? От этого зависело все. Каждая минута, секунда могла дать ответ… Верндт дал полную электрическую силу. Термометр поднимался в бешеной скачке. 8000… 8300… 8500… 9000!.. — Внимание! — предупредил снова Верндт. Нервы были напряжены до последней степени. Точно коварный зверек, поблескивала кашеобразная масса в плавильной чашке. — 9500–9600… Вещество вдруг как-то зловеще успокоилось. Нагель удивленно заворчал: — Почему не испаряется остаток? Он точно пожирает весь жар! Ведь он должен же испариться в открытом тигле! — Последний газ… …улетучился, — хотел сказать Верндт. Но он не успел этого выговорить. В зале раздался такой страшный взрыв, что тяжелый металлический шкаф весь сотрясся. Инженер, привыкший к самым сильным взрывам, невольно отскочил назад. Но он сейчас же снова заставил себя приставить глаз к чечевице. С губ его сорвалось тихое восклицание удивления. Он повернул винты и втянул голову. Не отрываясь, продолжал он смотреть наружу. — Ну, вот, теперь мы имеем удовольствие сидеть в темноте, — засмеялся Нагель. — Метеор оказался не из папки. Он требует уважения, чорт возьми! Думаску весь дрожал. Необычность происходящего действовала на его нервы. — Электричество…? Верндт не отвечал. — Будьте добры, Нагель, подойдите сюда! — произнес он медленно, странным тоном. Ассистент нащупал трубу и отодвинул ее в сторону. — Труба сломана! — Нет! — Но я ничего не вижу. Снаружи все черно, как уголь. — Так вы тоже ничего не видите? — послышалось только несколько секунд спустя. — Видите вы меня перед собой? — Нет, тут, ведь, темно, как ночью. Египетская тьма! — И эту руку мою вы тоже не видите? Я держу ее перед вашими глазами. — Нет. Ничего не вижу. — И снаружи вы тоже ничего не видели? Хоть я и зажег отсюда несколько ламп в зале…? — Как? Снаружи зажжены лампы?.. — Все триста. — Так электричество повреждено?!! — Оно в полном порядке. Ваш аппарат работает. Я слышу, как он жужжит. — Действительно! — Зал должен быть освещен лампами силой во много тысяч свечей. А мы ничего не видим. В течение нескольких секунд не было никакого ответа. Только с места, где был Думаску, послышался стон. — Так мы… значит… ослепли? — спросил он дрожащим голосом. Нагель в отчаянии стал под маской тереть себе глаза. Ни малейший проблеск света не попал на сетчатую оболочку. По спине его пробежала дрожь, точно от холодной руки. Значит он, действительно, ослеп? Муж Мабель — слепец? Его учитель и божество навсегда калека? Это не может быть! Он вдруг почувствовал безумную жажду жизни. Как сумасшедший бросился он к радиофонам, соединявшим внутренность шкафа с главным зданием. — Я уже тоже пробовал, — послышалось возле него. — Нет никакого ответа! — Но что же делать! Голос инженера звучал серьезно и твердо. — Нам остается только думать. Надо сдерживать нервы, буйство не приведет ни к чему. — Мы слепы? Действительно слепы? — снова спросил Думаску. — Повидимому, да, но я не могу этому верить. Что-нибудь должно нас убедить в этом. Где вы, Думаску? — Здесь, в этом углу. — Где ваш кино-аппарат? Болгарин подал ему руку и потащил его через мрак. Верндт очутился у проволок. — Мы должны попробовать вызвать здесь какой-нибудь свет, электрическую искру. Если мы и тогда ничего не увидим… Он не договорил фразы. В его сомнении все почувствовали ужас. Верндт нащупал в темноте кабель и провел по нему рукой до зажимов. Пропитанные перчатки его костюма защищали его от электрического тока. Он медленно и с большим напряжением сгибал концы проволок, все ближе и ближе… В темной камере была мертвая тишина. Мысли всех были направлены только к одному, к тому, что должно было решить их судьбу, и разгоряченные глаза впивались во мрак. И вдруг все одновременно вскрикнули… С треском вспыхнула ослепительная искра. Это было освобождением от ужаса. В невыразимом восторге смотрели они на нее. Инженер разъединил концы проволок. — Значит, мы не… слепы! Несмотря на этот мрак в зале! — радостно сказал он. Только теперь понял его ученик по тону его голоса, что должен был пережить этот человек за последние минуты. Какие чувства должны были бушевать в нем в те мгновения, когда решался вопрос, помешает ли ему слепота решить загадку, ради которой он пожертвовал всем. Мысль о смерти вряд ли могла испугать его. Его, безконечное число раз смотревшего в глаза самой страшной смерти. Но ослепнуть, — ослепнуть, не достигнув цели! Уйти с арены исследований теперь, когда мрак только еще начинал рассеиваться! Когда перед ним вставали еще новые загадки!.. Нагелю вдруг стало стыдно перед учителем. Ему стало стыдно за свой эгоистичный страх за жизнь. Что значил он со своей судьбой перед этим избранником! В неудержимом ликовании он схватил руку учителя. — Вы спасены, — сказал он проникновенно. Верндт дал ему руку, но сам не выражал ничем своей радости. Его острый ум снова заработал и уже видел новые опасности. Думаску оправил на себе одежду. — В этой будке до ужаса жарко! Нагель вдруг насторожился. Он только сейчас заметил, как силен был жар. — Жарко? Но наши костюмы настолько изолируют от жара, что мы совершенно свободно можем перенести температуру в сто градусов. Верндт перебил его. — Значит там, в лаборатории, жар так велик, что мы, несмотря на все, уже чувствуем его здесь. — Смотрите! Смотрите! — закричал болгарин. Остальные уже тоже обратили внимание. Из темноты выступал красноватый цвет, становившийся все ярче. Во мраке стали все резче и резче обрисовываться контуры. — Окна! — воскликнул Нагель. Теперь было совершенно ясно, что окна камеры раскалены до красна. Сначала раскалились металлические части, потом стекла, разгораясь все ярче и ярче… — Стекло… эта жара! — произнес пораженный Думаску. — Это должны быть тысячи градусов… они пропитаны… — Но они раскалены только извнутри. Снаружи мрак! Ученые лихорадочно следили за усилением жара, за все более и более разгоравшимися окнами. Они чувствовали себя в своих костюмах, как в инкубаторах. Каждый из них с ужасом сознавал, что их ждет, если жара в лаборатории не уменьшится. Пылающее окно было страшной угрозой. Красный свет стал ясно распространяться на стены и крышу камеры. Что случится, если она расстает! Ведь окна толщиной с руку уже стали размягчаться и вогнулись в камеру, точно гуттаперча! Что, если в их герметическую камеру проникнет газ, наполнявший лабораторию и пожравший там весь свет? — Я задыхаюсь! — простонал Думаску. Ему казалось, что он дышит жидким пламенем. Верндт тоже тяжело дышал. Свет этого адского огня ложился тяжестью на глаза и на легкие. Точно подхлеснутая, мчалась по артериям кровь. Никто уже не говорил. В темноте раздавалось только стонущее дыхание. — Мы изжаримся на смерть! — послышалось, точно вздох. Никто не знал, кто произнес эти слова. Мозг казался раскаленным горном. Точно гигантское огненное колесо вертелись мысли все на одном и том же: изжариться… растаять… белок в крови должен от жара свернуться… дыхание кислородом… смерть от сожжения… смерть от удушения… Отсвет раскаленных окон упал на трубы, на цифры… — Измеритель воздушного давления, — хрипло закричал Нагель, — воздушное давление снаружи… — Верхний свет… вентилятор зала…, — Думаску хрипел. — Он должен открыться… — При давлении в 860 миллиметров, — был едва слышный ответ. Нагель склонился к самой скале. — 850. Поднимается слишком медленно. 851–852. Жара ростет быстрее и слепит глаза. Я уже не могу разбирать делений от боли. Как зачарованные, смотрели все, не отрываясь, страдающими глазами на огонь. Не остановится ли, наконец, накаливание в лаборатории? — 854–855. Паузы казались вечностью. Соперничая в адском беге, мчалась кверху ртуть, показывая усиление жара и воздушного давления. Кто останется победителем? Вопрос шел о жизни… дело было в какой-нибудь секунде… Пол уже жег ноги, даже сквозь непроницаемую одежду. Было ли это концом? Ужасным концом? Задохнуться, сгореть в огненной печи… Уже! Точно занавеску выгнуло пламенеющее стекло в окне, и на нем образовались продольные складки… — Учитель!.. Конец!.. — послышался тихий стон. Верндт едва держался на ногах. Мозг его горел возмущением. Так вот цель, призвание, которому он служил? Презренно сгореть в этой норе… теперь, когда мрак, палящая жара, более слабое воздушное давление, — когда все это говорило ему, что разгадка близка! Он видел ее точно через светящийся туман! И достаточно было одного порыва ветра, чтобы он сразу разлетелся. Путь был бы тогда свободен к последней разгадке… Медленно выступили на окне пламенеющие капли. Они потекли по окну, точно слезы, и упали в камеру. — 858… — Газ! Газ! в отчаянии вскричал Думаску. Это было больше похожее на стон. — 859!.. — послышался угасающий голос. Точно ударом кулака нарушилась вдруг тишина. Раздался резкий крик. Ужасный грохот сотряс все вокруг. Под землей прокатились удары, отголоски которых продолжали звучать. Внутрь камеры полетели раскаленные осколки стекла. Одно мгновение казалось, что камера вертится в головокружительном темпе. Потом вдруг наступила тишина, жуткая, за сердце хватающая, после этого адского грохота и ужаса. В помещение ворвался ослепительный дневной свет. Страшный мрак прорвался, уступил свету. Целительный воздух влился во все окна и наполнил камеру. Он переборол дымный туман помещения и прохладительные струи его ничем уже не прерывались и становились все обильнее и обильнее… Думаску склонился вперед и тяжело дышал. С Нагелем сделался нервный припадок. Горячие слезы потоком лились из его глаз. Натянувшиеся нервы не выдержали напряжения… — Боже мой! — послышалось возле него. Верндт сдвинул далеко назад шлем и с жаждущим взглядом впитывал в себя воздух. Потом он обнял рыдающего друга.VI.
Перед тенистым загородным домом Вальтера Верндта стояли безконечные ряды автомобилей. На площади, напротив дома, без помехи снизились аэропланы ярких цветов европейской, азиатской и американской прессы. Движение в этом квартале становилось все затруднительнее. В 10 часов утра не было уже проезда лошадям. Туземные конные полицейские стояли по обе стороны улицы и следили за порядком в рядах автомобилей. Несмотря на образовавшиеся цепи, к дому теснилось множество народа. Из еще движущегося автомобиля, из снижающегося аэроплана выпрыгивали, выползали и торопились люди к центру сборища. И среди всей этой сутолоки толкались туземцы-кули, торговцы, кричали возницы и зевали нищие. Внизу, в приемной, стоял дон Эбро. Его невозмутимое спокойствие было резким контрастом с волнением всей толпы кричащих и суетящихся представителей печати. — Sennor Верндт ни с кем не будет говорить! — с достоинством повторял он в сотый раз и все тем же тоном. Кожаное лицо его было прорезано глубокими складками, нога — слегка выставлена вперед, точно для танца. Как Цербер охранял он дверь во внутренние комнаты. В зале было шумно от говора. Раздавалась французская, голландская, шведская, английская, немецкая, итальянская и русская речь. Не отсутствовало почти ни одной значительной газеты. Кроме того были представители ученого мира и государственных учреждений для исследований, члены спортивных обществ. Каждый желал быть первым в этой борьбе за новым, за сенсацией, и каждый представлял собою настоящий рог изобилия вопросов, желаний, просьб и уговоров. Каждый пробивался вперед, не обращая ни на кого внимания. Меняли постоянно ряды и места, но дальше приемной не проникал никто. Эбро, отстраняясь, вытянул руки и стоял неподвижно, точно пагода. Тотчас же накинулись на эти руки десять, двенадцать подстерегавших людей и стали напихивать их деньгами. В долларах и рублях, марках и пезетах, испанец равнодушно прятал их и разражался над головами теми же словами, разбивавшими все надежды.
Дон Эбро охранял дверь. Репортеры газет всего мира осаждали д-ра Верндта.
— Sennor Верндт — ни с кем не будет говорить! — Земляк, земляк, будь добр!.. — прошептал кто-то у него сбоку. Черноволосый репортер шарил по его бокам, стараясь найти вход во внутрь… Дон Эбро схватил его быстрым движением за воротник и спокойно поставил среди остальных. — Я навещу тебя в Барцелоне, почтенный земляк! — сказал он ему ласково. Кожаное лицо его было невозмутимо и только в глазах был добродушный смех. По временам сбоку раздвигался занавес и выбрасывал в комнату кучку репортеров. Они были хмуры и разочарованы, но им все таки завидовали. Никто не трогался с места. Продолжали выжидать. — Следующие десять господ! — разрешил дон Эбро. Точно коршуны бросались все к открытой двери. И каждый раз напрасно. Испанец не пропустил бы и лишней мыши. В то же мгновение ряды снова надвинулись. В дверях стоял красный и смеющийся доктор Нагель. Его появление произвело действие, подобное бомбе. Напор задних рядов был так силен и неожидан, что Эбро напрасно простирал вперед руки. Он не мог удержать равновесия и беспомощно барахтался, вращая белками. Нагель движением руки попросил всех успокоиться. Прошли минуты, пока его просьба была услышана. — Послушайте, господа, — сказал он, смеясь, — так не может продолжаться! Доктор Верндт, конечно, очень благодарен человечеству за сочувствие к его опытам и к его здоровью, но он все же не может отрываться от работы из-за этого подавляющего сочувствия. Он не имеет возможности давать объяснения каждому из присутствующих здесь. Весь мир одинаково интересуется первым опытом. Мне очень жаль, но я не смогу сообщить печати ничего, кроме уже известных фактов, пока не будет разобран материал и не выяснятся результаты. Доктор Верндт просит всех, здесь присутствующих, не отказать сообщить своим издательствам, что он отклоняет все без исключения лестные и соблазнительные предложения, полученные им в бесчисленных телеграммах и вызывах по радио, предложения — в первую очередь получить от него сообщение об опыте. Как рапиры, скрещивались в рядах злобные, мстительные, безутешные и полные ненависти взгляды. — Итак, остальные тоже! Этакие мошенники! Пробуют своими миллионами убить конкурренцию. А этот Верндт отказывался от денег! Да он съума сошел… немецкий упрямец! Хорошо еще, что остальные ничего не знают. Теперь дело касалось положения каждого репортера… Нагель, улыбаясь, вытер пот со лба. — Сегодня в час ночи всему миру одновременно будет сделан доклад по радиотелефону. А пока — до свидания, господа! Среди толпы началось необычайное беспокойство. Точно какое-то внутреннее сомнение волновало ряды недоуменных, растерянных людей. Но это продолжалось всего несколько мгновений. Потом несколько человек бросилось к выходу. Это было как-бы сигналом к бегству из дома. Толкаясь, теснясь в каком-то головокружительном вихре, мчались все с криками, перегоняя друг друга, к автомобилям, аэропланам и лошадям. Через четверть часа после появления Нагеля, пространство перед домом было совершенно пусто. Последний аэроплан мчался над крышами и исчез в погоне за автомобилями. Нагель многозначительно кивнул дон-Эбро. Испанец, застывши на месте точно столб, с упреком рассматривал свое разорванное платье. — Эти молодцы хотели захватить с собой памятку о тебе. — «Карамбо», — произнес дон Эбро сквозь зубы. — Да, любезнейший, вот что значит быть международной знаменитостью! Лицо в кожаных складках вдруг засияло. — Вы думаете, sennor, что я более знаменит, чем тореро Маскито? — Он — клоп по сравнению с доном Эбро! Сияющее лицо растянулось от удовольствия в целую луну. — …и все эти люди почитают дон Эбро? — Ты же сам видел, как они наступали на тебя. Твоя всемирная известность очаровывает их и все синьориты видят тебя во сне. В лабиринте желтых складок образовался от гордости и восхищения люк. — Я надену новый костюм, — решил дон Эбро и нежно погладил свои лохмотья. Нагель открыл дверь во внутренние комнаты. — Покончить со всем, — не давать больше ответов! — закричал он, покрывая болтовню и жужжание радиофонного аппарата. — Слава богу! — последовал ответ. Мабель с облегчением нажала книзу рычаг аппарата. Сразу наступила полная тишина. — Я оставила еще открытой большую антену для важных передач. — Конечно. Как всегда. — Он нежно провел рукой по ее локонам. — Плохо пришлось, правда? Сегодня утром? — Ужасно! 5438 телеграмм за один только час. Он засмеялся. — Сенсация, — и деньги. Люди стали, точно одержимые. Каждый хотел бы, если не быть единственным, то быть первым, сообщающим о первом опыте. Печать всего мира потеряла голову от слухов об одном или двух взрывах, о больших опасностях и смертоносных газах. Ты бы посмотрела, как все эти молодцы уничтожали друг друга взглядами, как набрасывались на меня с просьбами и угрозами. Они мне обещали состояние за самое короткое сообщение. Остальное они бы сами присочинили. «Tutmondo Heraldo», самая богатая газета, предложила миллион за одну только строчку. — Да, люди съума сошли, что-ли? — Ого, тоже скажешь! — притворился он обиженным. — Разве ты дешевле ценишь мои строки? Когда я пишу тебе: я тебя люблю, прекраснейшая из всех! Она, смеясь, ударила его. — Нет, серьезно: эти молодчики расчитывают очень правильно. Если я сообщил бы одному из них о нашем опыте, он тотчас же отпечатал бы шесть миллиардов экстренного выпуска, продал бы в пятьдесят раз дороже обычной цены и через час приобрел бы миллиарды долларов. Ты же сама испытала, как они тебя мучали телеграммами и радиопередачами. — Это было просто ужасно! Я совершенно разбита. — Те сами разбиты не менее твоего. Я так и вижу господ редакторов и магнатов печати с радиоприемником у уха, с трясущимися руками и ногами, ожидающих с лихорадочным волнением спасительного сообщения. Одно и то же безумие в Нью-Иорке, Бостоне, Буэнос-Айресе, в Сан-Франциско, Мельбурне и Сиднее, в Бомбее и Капштадте, Калькутте, Владивостоке, Берлине, Риме, Париже, Вене и Каире. Что произойдет, когда Верндт, наконец, сообщит по радио разгадку всему миру! — Я желала бы, чтобы вы уже достигли этого и все опасности… Она увидела его просительный взгляд и прервала свои слова. — Как же ты добился, чтобы они тебя сразу оставили в покое? — Очень просто. Я им сказал, что мы известим сегодня ночью весь мир о результатах нашего опыта. В ту же секунду… — И что же? — Что же? — Ты еще спрашиваешь! Да, ведь, это было для них ударом молнии, глупенькая! Теперь вопрос идет о том, кто напечатает первый. Узнать могут все одновременно, — но кто успеет отпечатать раньше и пустить номера в продажу? Сегодня ночью все должны быть готовы к этой бешеной скачке человечества. Вся печать и тысячи служащих должны быть готовы к этой пляске миллиардов. Предупредить во что бы то ни стало конкуренцию. Быть первым в этом гигантском бою за деньги! Ах, жаль, что нельзя принять участия в этих скачках. Представь себе только: известие облетит на электрических крыльях в одну и ту же десятую часть секунды весь мир! Но потом, потом — старт! Все на полный ход, даже если машины разлетятся в дребезги. Конечная цель: лучше со 100 миллионами номеров первый, чем с миллиардами последний. Масло течет потоками. И повелевающий десятью легионами рабочих висит на микрофоне, весь дрожа, крича хриплым голосом. Он отлично знает, что все дело в конкуренции. Каждый рабочий выбивается из последних сил; двойные ротационные машины делают неуследимые глазом обороты барабанов. В каждую машину пропускается 120 километров бумаги. Продиктована последняя фраза, рукопись приготовлена к сдаче в набор, набрана на наборной машине, еще горячей стереотипирована и хромоэлектрическим способом перенесена на медные валы — «рубашки». Старый добрый набор 20-го века не выдержал бы и 10 секунд такого напряжения. Машины свистят, рычат все громче, пронзительно, оглушительно. Готовая газета летит в толпу. Вот, где безумие! Легионы мальчиков-газетчиков мчатся с опасностью для жизни по улицам, переулкам и бульварам всего мира, исчезают в корридорах подземных железных дорог, бросаются под колеса мчащихся автомобилей, преграждают путь экипажам, протягивают руки к воздушной железной дороге, мчатся тысячи метров на аэроплане, в подводной лодке, пока газета не очутится в дрожащих руках у каждого, пока каждый не заплатил. Одна секунда… ради одной секунды! Это настоящие скачки, радующие души спортсменов. Он перевел дыхание. Она с улыбкой слушала его. — Твоя фантазия! Твоя фантазия! Она опять умчала тебя к звездам! — Фантазия? Что ты говоришь! Уверяю тебя, что действительность далеко превзойдет все, что я тебе говорю. Она задумалась. — А потом… когда кончится эта скачка безумия? Тогда на земле будут лежать миллиарды листков, как умирающие чайки. Никто из тех, кому они так дорого дались, не сменяет на них и пуговицы от панталон. Ветер подует, наметет горы этих ненужных тряпок и потопит в мирском море бумажные тучи… Потом погоня за призраками… Все остается в прошлом… скачка в пустоту…
______
Фантазия Нагеля не рисовала слишком ярких картин. Ночь обнародования первого известия была похожа на пляску безумия. Ничем не прикрытая алчность, погоня за сенсацией, тщеславие и трепетный страх всех народов перед повторением катастрофы, подобной только что пережитой, создавали благоприятную почву для всяких безумств. За пережитые годы, полные борьбы, Нагель привык ко всему, но, при всей своей предусмотрительности, он забывал одно… В час ночи всему миру было дано радиосообщение. Раньше двух часов, по человеческим расчетам, не могла появиться первая газета. В течение этого часа печать всего мира мчалась в стремительном беге, безумствовали газетные магнаты и редакторы, нетерпеливо выжидала толпа в домах и на улицах. И все же вышло иначе. Не прошло и пятнадцати минут после принятия известия, как в людские толпы ворвался какой-то ураган. Бешено мчались автомобили, светящиеся аэропланы прорезали мрак, раздавались крики, свистки, визги, высоко поднимались руки… дождь экстренных выпусков падал на землю и на ночном небе появились гигантские, огненные буквы: «GASETTE DE PARIS». — «Первый опыт доктора Верндта — первое сообщение». Весь этот шабаш ведьм, который описывал доктор Нагель, бешено мчался по земному шару и быстрее гнал кровь в артериях самых хладнокровных людей. На одно мгновение остановилось дыхание всего мира. Несколькими часами позднее узнали, что это сообщение было чистейшим вымыслом, подготовленным за много часов. Когда же появилось настоящее сообщение, то его встретили удивленными вопросительными взглядами. Потом новый вихрь заставил позабыть разочарование. Издатель маленькой французской газеты в тиши потирал себе руки. Его обман принес ему миллиарды. В течение недель продолжалось волнение человечества. Комментарии, статьи, книги знаменитейших ученых, лекторы и поэты разрывали новинку первого опыта на блестящие кусочки, раздували факты, точно воздушные шары, кормились возле славы исследователя. И все же тайна была по-прежнему покрыта мраком и только стала предметом самых яростных распрей.
Продолжение в следующем, № 7 «Мира Приключений».
 (обратно)
(обратно)
КРОВАВЫЙ КУЛЬТ БОГА-ЗМЕИ ВОДУ

Очерк В. Р.-П.
Недавно в Нью-Йорке обнаружены были лица, принадлежавшие к какой-то изуверской секте. Они собирались тайно, в никому неизвестных помещениях, и там совершали свой ритуал. Однажды им удалось заманить к себе молодую женщину. Они привязали ее к креслу и подвергли мучительной смерти. Труп несчастной оказался весь покрытым ножевыми ранами. В комнате, где совершено было это преступление, стояли наполненные костями урны и корзины, в которых находились змеи. По расследовании оказалось, что эти преступники были последователями негритянского культа бога-змеи Воду. Как странно, как дико слышать, что в XX веке, в таком центре технической цивилизации, каким является Нью-Иорк, могли найтись подобные безумцы! Что-же это за культ Воду и откуда он взялся? Это не античное почитание змеи, известное из глубокой древности и следы которого находят и в Египте, и в Мексике, откуда между прочим некоторые ученые делают вывод о религиозном культе змей, существовавшем в изчезнувшей Атлантиде. В том виде, в каком культ змеи существует в стране долларов и автомобиля, он практиковался у негров, в Африке, в громадной области Гвинее, расположенной между Сенегалом и Камеруном. Эта часть Африки являлась местом, откуда, главным образом, вывозились невольники в Америку. Целые миллионы негров были в свое время переселены в Луизиану, в Мексику и на Антильские острова. Вечно угнетаемые, постоянно подвергаемые наказаниям, плохо содержимые, эти негры ненавидели своих хозяев; христианство они приняли только по внешности и не забыли своих старых богов; они считали их мстителями за свою попранную свободу и на них только возлагали свои надежды, причем наиболее могущественным из этих богов считался бог Воду, воплотившийся, по их мнению, в змею. Поклонники Воду собирались ночью в чаще лесов, вдали от жилищ белых, на какой-нибудь поляне, и там с факелами в руках совершали священный танец, сопровождаемый дикой музыкой и пением. Их бывшие вожди снова обрели свою утраченную власть, но уже в качестве колдунов и кудесников, так как их считали обладателями особой силы, дарованной им змеей Воду. Эту сверхъестественную силу они направляли против белых и стоило им произнести на древне гвинейском языке таинственное заклинание, сопровождаемое возгласами «зиб, зиб, зиб!», как у белых или разбегались стада, или дети их заболевали неведомой болезнью, или приключалось какое-нибудь иное несчастье. Еще в половине XIX века находилось не мало людей, веривших в эти заклинания. Так, например, известен случай, когда на острове Гаити один черный генерал по имени Грибуйль отправился к колдуну, который за высокое вознаграждение заговорил его от пуль. Вернувшись к себе, генерал пожелал испробовать действительность заговора и, построив своих солдат, велел им стрелять в себя. Солдаты, тщательно прицелившись, дали дружный залп и генерал, пронзенный пулями, упал мертвым. Возмущенные солдаты отправились к колдуну и стали упрекать его, что он плохо заговорил генерала, но колдун не смутился и объяснил, что заговор был действителен лишь против вражеских пуль, а не против своих. Таким образом вера в могущество Воду не поколебалась. Над этими колдунами владычествовала царица Воду, которой все беспрекословно повиновалось. Но и после освобождения и обращения в христианство негры в Соединенных Штатах и особенно на Антильских островах долгое время еще придерживались культа Воду и, — что самое удивительное, — приобрели даже последователей среди белых. Впрочем, по большей части, культ этот в наше время сводится к исполнению невинных обрядов. Но некоторые последователи продолжают считать змею настоящим богом и воздвигают в честь ее храмы; иногда же совершают религиозный ритуал, сопровождаемый заклинаниями и колдовством, под открытым небом, как это делалось в старину. Главными принадлежностями культа является каменный жертвенник, у подножия которого находится клетка со змеей и несколько больших медных чаш, наполненных — одни костями, другие тафией (водкой). Когда все верные культу оказываются в сборе, колдун или колдунья начинают свои заклинания, повторяемые хором всеми присутствующими. Они призывают благословение на верных и месть на предателей. Затем приводят буйвола или приносят петуха, убивают их и кровь выпускают в чашу с тафией, после чего пьют эту отвратительную смесь. В прежнее время этот буйвол, петух, или иное животное лишь заменяли человека, так как Воду требует себе в жертву «козленка без рогов», т. е. другими словами, белую женщину или ребенка. Иногда эти фанатики съедали свою жертву. Еще в конце XIX века один такой колдун заманил свою собственную племянницу, которая была убита и съедена всеми присутствующими, при этом, как выяснило следствие, в пиршестве принимала участие и мать несчастной жертвы. Все это с несомненностью говорит за то, что культ Воду есть пережиток людоедства, и тем более кажется удивительным, что такая странная и изуверская секта могла найти себе приют в городе небоскребов. Негр, задавленный, не признанный в своем человеческом достоинстве, отомстил за себя, набив голову гордого американца мрачной чепухой первобытных лесов.
 (обратно)
(обратно)
БУРЛАКИ ВОСТОЧНОЙ БУХАРЫ.
МАЯТА НА ПЯНДЖЕ

Очерк П. КОРЗУНА
Я — человек военный и не писатель, но путешествие, которое мне пришлось сделать, так своеобразно, что его стоит расказать. В Туркестане две сравнительно больших реки: Сыр-Дарья и Аму-Дарья. Обе эти реки впадают в Аральское море. Некоторые историки говорят, что Аму-Дарья раньше впадала в Каспийское море, но хивинцы, боясь продвижения русских на восток из Астрахани через Каспийское море и вверх по Аму-Дарье, пустили последнюю по другому руслу в Аральское море и отгородили себя от Каспия непроходимой пустыней. Петр Великий, не довольствуясь своими завоеваниями на западе, задумал расширить владения и на восток и послал отряд под командой Бековича-Черкасского через Астрахань на Хиву, чтобы пустить Аму-Дарью по старому руслу и наказать дерзких хивинцев. Участь этого отряда известна: хивинцы приняли его сначала дружелюбно и развели на квартиры по разным кишлакам, а ночью, по сигналу, разрозненный отряд вырезали во главе с Бековичем-Черкасским, а часть воинов продали в рабство в Персию и своим бекам. Так кончилась первая экспедиция русского отряда, а Аму-Дарья и по сие время продолжает наполнять своими водами Аральское море. «Аму» — слово персидское и значит «мать», а «Дарья» — узбекское, и означает река. Аму-Дарья в верховии своем, выше Термеза, в 90 верстах от впадения в нее реки Вахш, носит название Пяндж, что по таджикски означает пять. Ее составляют пять небольших, но очень быстрых и многоводных горных речек. Река Пяндж всю осень, зиму и по май месяц ничего особенного собою не представляет: обыкновенная горная, быстроходная река и даже во многих местах, где бывает много русл, проходима в брод, но за то в течение четырех месяцев: мая, июня, июля и августа, когда на горах Памира, Афганистана и Индии начинает таять снег, Пяндж становится неузнаваема. В это время она напоминает дикого зверя, вырвавшегося из клетки, который, почуяв свободу, мчится в поле, в лес и уничтожает все живое, мешающее ему. Пяндж из синей превращается в желтую, с шумом и ревом, похожим на рев тигра, мчится с быстротой четырнадцати верст в час и уничтожает на своем пути все, что мешает ей гнать ея желтые воды, подмывает берега, смывает целые кишлаки, осмелившиеся построиться на ее берегу, опрокидывает горы, и горы, с грохотом и гулом, напоминающим орудийные выстрелы, падают к ногам Пянджа. Река, точно зверь, уничтожает их как мелкую добычу, а сама с пеной и кровью, — смотря по цвету горы — мчится дальше, вырывает деревья с корнями, и несколькими бросками, — то к одной, то к другой скале, — превращает их в щепки и все это несет в Аральское море. Но когда чрезмерная тяжесть глины, песку и камней становится реке не под силу, она бросает их, образуя мель, а зачастую и песчаный остров, сама же бросается вправо, или влево, и напором, с подоспевшими новыми волнами, прокладывает себе новый путь. Нет другой реки, которая бы так часто, почти ежедневно, меняла свое русло. Ни один капитан парохода не может ее изучить. Самый старый капитан, Илья Иваныч, двадцать пять лет плавающий здесь, не может ее изучить и часто садится на мель. В это время года ни один контрабандист не рискнет переправляться с товарами из Афганистана или обратно, и как раз в это то время, в половине мая, по служебной надобности, мне с женой пришлось путешествовать вверх по Пянджу от Термеза до Сарая. Помещаемая здесь фотография дает представление о пристани каюков в Термезе и о самих каюках. Как видит читатель, все здесь первобытно просто, незатейливо и лишено всяких удобств.

Пристань каюков в Термезе.
Мы, пассажиры, человек 15, да столько же красноармейцев для прикрытия груза на каюках от нападения басмачей, стали рассаживаться. Мы выбрали самый большой каюк, боясь, что маленький может скорее утонуть. Впоследствии мы очень раскаивались в своем выборе. На нашем каюке было до полуторы тысячи груза. Формой своей каюки похожи на большую лодку, сделанную из толстых, вытесанных топором досок, обитых железными скобами. Кроме топора, никакой другой инструмент каюков не касался. Щели заткнуты ватой. На носу каждого каюка вмазан котел для варки пищи рабочим в пути. На каюке имеется свой кок (повар). В этом казане он и обед варит, и чай кипятит, и лепешки печет. Ровно в тринадцать часов по московскому времени (местное на два часа раньше), все матросы зашевелились, поснимали с себя излишнюю одежду, даже и кальсоны, остались в одних рубахах, прикрепили к плечам небольшие войлочные подушечки для предохранения плеч от грубой веревки, надели на ноги афганские туфли из грубой коровьей кожи с загнутыми кверху носами, и взялись за веревку, прикрепленную к бревну у носовой части каюка, скрепляющему бока последнего. От общей веревки шли в сторону, по числу матросов, концы других веревок, каждый длиной аршина три. На конце каждой веревки была прикреплена палочка, чтобы удобнее держать через плечо. Капитан каюка, «дарга», занял место на носу, вооружившись толстым, окованным на конце железом шестом, около семи аршин длины, для отталкивания от берега каюка, а один из более опытных матросов для управления каюком стал на корме с большим веслом, напоминающим своей величиной, формой и тяжестью деревенскую лопату, которой крестьянки сажают хлебы в печь. Матросы выстроились по берегу вдоль веревки, в затылок друг другу, перекинув концы веревок через плечо. На некоторых каюках матросов было человек по 5–7, а наш каюк, как самый большой, имел одиннадцать человек. Тронулся передний маленький каюк, нагруженный железом, закачался, и медленно поплелся вперед, за ним второй с продовольствием, прозванный нами «Яхта Продмаг», потом каюк — «Яхта Маляр-разведчик», тоже с продовольствием и пассажирами — малярийными разведчиками. Итак, один за другим, потащили матросы десять каюков. Дошла очередь до нашего, самого большого, названного «Яхта Грузовик», с овсом и девятью пассажирами. Дарга уперся палкой в берег и, со словами «об Алла ак бар» (да поможет Аллах), оттолкнул каюк от берега, а матросы, пригнувшись почти до самой земли, налегли на веревку, застонали под левую ногу, раз, другой, третий и, наконец, со скрипом, вторящим стону матросов, покачиваясь, медленно стал подаваться вперед, разрезая грудью напор быстро бегущей волны наш каюк, а за ним и остальные семь каюков. На одном из передних каюков раздалась песня: «Вниз по Волге реке», на другом подхватили и понеслась песня по всей реке, теряясь где-то далеко в горах Афганистана, а с берега вторил стон пригибающихся от напряжения к земле матросов, да скрип каюков.
* * *
В русской литературе много писалось о волжских бурлаках, об их адской работе и былой, до пароходства, безотрадной жизни, но вряд-ли волжский бурлак когда-нибудь так жил, питался и трудился, как бурлак, называемый матросом Аму-Дарьи и Пянджа. Волга многоводнее Пянджа и на великой русской реке баржи свободно проходили, не боясь мели. Течение на Волге гораздо тише, а здесь до 14 верст в час, и берега Волги ровные, покрытые травой, да изредка лесом, Пяндж-же — река непостоянная и часто меняет свое русло. Тащить каюк можно только идя по нашему берегу, другой берег — Афганский, и здешние бурлаки тащут каюк, на глубоких местах идя по берегу, а на мелких — прыгают все в каюк, хватаются за шесты и, упираясь одним концом в дно реки, а другим себе в пуп, — заставляют каюк двигаться вперед, рискуя ежеминутно полететь в воду за завязшим в дне реки шестом. Когда мель пройдена, снова выскакивают на берег и снова тащут за веревку, идя по берегу. А берега Пянджа зачастую поросли диким колючим кустарником и матросы пробираются сквозь него, разрывая иглами не только свою одежду, но и тело — нередко до крови. Ни одного матроса каюка вы не встретите с неповрежденным, здоровым телом: у всех потрескавшиеся от жары, пыли и пота руки и ноги и исцарапанное тело. Когда на пути попадаются скалы, то еще хуже приходится этим несчастным. Как кошки, карабкаются матросы на скалу. Цепляясь и подсаживая друг друга, залезают они на двадцатисаженную высоту над рекой и по такой скале, зачастую почти отвесной, где горные орлы да беркуты вьют гнезда, хватаясь за каждый камешек, плетутся, таща за веревку каюк. А внизу мчится бушующий, как дикий зверь, Пяндж, волнами бьет о скалу и как-будто старается водяными языками достать до вершины ее и слизать оттуда храбрецов.

Цепляясь и подсаживая друг друга, залезают матросы на отвесные скалы, где горные орлы вьют гнезда, и тащут за веревку каюк.
Горе зазевавшемуся в этом месте матросу: сорвется, полетит вниз и никто никогда не найдет его трупа. Все разобьет и изотрет о скалу и унесет Пяндж, а куски мяса, всплывающие наружу, подберут горные птицы. Много, много жизней ежегодно уносит река Пяндж!.. Пищу здешних матросов составляют исключительно пресные лепешки, зеленый чай без всяких сладостей, да раз в сутки — плов. В здешние бурлаки идут исключительно люди, ничего не имеющие и ни с чем не связанные, ни с хозяйством, ни с семьей; одним словом — «пакырь бичера» (люмпен пролетарий).
* * *
Все пассажиры на каюках устроили себе палатки от солнца, хотя жара на воде и не так дает себя чувствовать, как на берегу. Все-таки солнце своими прямыми лучами пропекает насквозь. В 2-х верстах от пристани в Аму-Дарью впадает река Сурхан, через которую нужно проходить на шестах, и наши матросы, попрыгав в каюк, схватились за шесты, по обычаю уперлись пупом в один конец шеста, а другим — в дно реки, и с кряктеньем, исходящим из недр души, толкали каюк вперед. Сурхан пройден и, снова повыскакав на берег, нас потащили за веревку. Пройдя с полверсты, мы попали в водоворот. Рулевой не успел направить каюк носом к берегу и быстрым в этом месте течением нас отбросило, повернуло поперек реки. Матросы, уцепившиеся за веревку, попадали на землю. Одной рукой держась за веревку, другой они хватались за колючий кустарник и… замерли. Замер на мгновение и каюк, но только на мгновенье. Вновь набежавшей с пеной и ревом волной толкнуло каюк так сильно, что не выдержал ни кустарник, ни матросы. Людей свалило в общую кучу, вырвались веревки у них из рук и каюк наш боком понесло назад вниз по течению, как щепку, и далеко пришлось бы нам проплыть, может быть даже до Аральского моря, если бы то же течение само не пришло к нам на помощь. Поиздевавшись над бессилием человека, оно прибило нас к берегу снова у той же пристани, откуда мы начинали путешествие. Матросы, оставшиеся по ту сторону Сурхана, кто вброд, кто вплавь, поспешили к нам на помощь и наш путь начался сначала. Опять через Сурхан пошли на шестах. Тут уж, видя серьезное положение, и все пассажиры взялись за шесты и стали помогать матросам, но в наших неопытных руках дело спорилось плохо. У двух товарищей течением вырвало и унесло шесты, а за шестом и сам пассажир полетел в воду, но успел ухватиться руками за борт каюка и мы его втащили. Сурхан — пройден. Снова матросы повыскакали на берег, схватились за веревку, а за ними вышли и мы все, в том числе и женщины, и все, уцепившись за веревку, стали помогать матросам. Снова подходим к злополучному водовороту и у всех одна мысль: проплывем-ли? Не сорвет-ли снова? А в затоне кто-то невидимый, точно гигантским бревном мешает и крутит воду, размешивая как чайной ложечкой в стакане чая. Получается большое окно, в которое втягивается с поверхности все, не осилившее этой стихии, доходит до дна и выбрасывается снова на поверхность далеко вниз по течению, но уже в другом, неузнаваемом виде и форме. Вот нос каюка почти у самого края окна и в это время раздался зычный голос дарги: — О, бэрекалэ, бэрекалэ, зурма работай! (о молодцы, молодцы, сильно поднажми!). Все матросы, как по команде, пригнулись к земле, выставили вперед левую ногу, уперлись правой и издали какое-то нечеловеческое ритмическое кряктенье… Мы подхватили… — Потом все, один за другим, матросы, а за ними и мы, полетели на землю… Каюк, однако, проскочил водоворот и далеко подался вперед. Тут я вышел из строя: при нажиме на веревку, когда глаза чуть не полезли из орбит наружу, я, ничего не видя под ногами, наступил на кем-то разбитую черепаху и сквозь туфлю изрядно проколол себе ногу. Скоро и остальные пассажиры один за другим стали выходить из строя, кто с исцарапанной колючками ногой, кто — руками, а один даже умудрился разодрать ухо. Но все были довольны, что прошли водоворот. Оставалось теперь догнать остальные каюки, которые, конечно, должны где-нибудь остановиться и ждать нас.
* * *
Солнце начинает садиться за гору, золотя вершины гор и играя на поверхности воды, а передних каюков что-то не видно. Подходим к кишлаку (деревня), упирающемуся своими садами в берег реки и манящему нас спелым, желтым урюком. Дарга заявляет, что здесь нужно остановиться, пополнить число недостающих шестов и нанять еще одного-двух рабочих. Приходится мириться с необходимостью! Останавливаемся, привязываем каюк и дарга с тремя матросами идет в кишлак, а мы терпеливо ждем его возвращения. Солнце совершенно скрылось за горами. Стали надвигаться сумерки и поползли длинные тени гор с Афганистана. Навстречу им потянулись с нашей стороны стройные тени деревьев, сошлись на реке, и тени как бы поглотили друг друга, образовав общую темную массу. Местами ее прорезали огни вспыхивающих звезд и они отражались далеко в водах реки. Вернулся дарга и заявил, что ночью итти рискованно. Пришлось здесь ночевать, хотя район и опасный, насыщенный басмачами, а особенно опасен был со своею шайкой курбаш (командир) Утанбек, о котором нам очень много говорили в Термезе, и который своими налетами беспокоил очень часто не только кишлачное население, но и окраины города Термеза. Как раз накануне нашего приезда в Термез он делал налет на город и угнал несколько голов скота. Высланный наш отряд скот отбил, но шайки не нагнал. Неоднократно нападал Утанбек и на каюки и, при слабой охране, отбивал их. Мы знали, что если жители сообщат ему о нашем одиночном каюке при охране в 6 человек и при 5 винтовках, то он не преминет напасть и на нас. Мы решили зорко охраняться и, в случае нападения, не подпускать басмачей к каюку. Установили очередь дежурств на три смены по два человека, для женщин на каюке устроили броню из тюков одеял и мешков овса, чтобы, в случае обстрела, пули басмачей не могли их поразить. Ночь, однако, прошла благополучно и с рассветом мы двинулись дальше. Верстах в трех от нашего ночлега, за поворотом реки, мы увидели мачты наших передних каюков, которые нас поджидали со вчерашнего дня. Присоединившись к ним и условившись не оставлять одиночных каюков, мы общей колонной двинулись дальше. В 10 час. утра устроили привал для обеда и чтобы переждать самое жаркое время. Хотя горная река и уменьшает жару, но все же в полдень жара невыносима. Мы все повязали на голову полотенца и ежечасно мочили их водой, а доктор, ехавший с нами, вздумал было принимать солнечные ванны, но в течение каких-нибудь пяти-десяти минут обгорел весь и в этот же день у него начала слезать кожа. Ночевать остановились все вместе в густых, мало проходимых камышах. Ночью нашими часовыми здесь же были найдены три лошади с седлами, не то басмачские, не то контрабандистов. Мы сдали находку на ближайший пограничный пост. На третий день пути выступили с ночлега с рассветом, чтобы пораньше пройти одно опасное место с водоворотом. Сначала шли по берегу, потом попалась у берега мель, образуемая из ила и песка, нанесенного водой. На шестах здесь итти нельзя: шест далеко уходит в ил и его не вытащишь. Пришлось матросам лезть в реку и, по пояс в воде, с захваченными в зубы подолами рубах, увязая в иле, тащить каюки на веревке. Несчастные бурлаки спокойно подставляли под немилосердно палящие лучи тропического солнца свое голое, лоснящееся как бронза тело. Здесь все матросы работают без штанов. С одной стороны, они мешают работать, эти широкие мусульманские штаны, а с другой — никаких штанов при такой работе здесь не хватит. Вместо штанов — собственные ноги, вечно мокрые и в грязи. Здесь отмечают разницу между матросами парохода и матросами каюка: первые ходят и работают без рубах, а вторые — без штанов.
* * *
Приближаемся к месту, где река делает резкий поворот, образуя тупой угол. Берег в этом месте крутой и скалистый. Вода, ударяясь о скалу, становится на дыбы, как-бы теряет равновесие, опрокидывается назад и далеко отскакивает на середину реки. В этом месте, при неопытном дарге, многие каюки прекращали свое существование. Здесь вся наша колонна остановилась и каюки стали пропускать по одному через опасное место, помогая друг другу. Первым пошел каюк с железом, и только завернул за поворот, как его подхватило, завертело, веревка не выдержала, лопнула, и каюк, далеко отбросив на середину реки, понесло вниз. Вторым пошел каюк «Маляр-разведчик», но его постигла та же участь, и еще с большей быстротой погнало его вниз догонять первый каюк. Пассажиры на этих каюках заметались, засуетились, и похватались за весла, а с остающихся каюков им машут руками, посылают приветствия и просят телеграфировать из Чарджуя и привести осетрины из Аральского моря. Такая же участь постигла и еще два каюка, а остальные общими усилиями матросов других каюков стали проходить благополучно. Дошла очередь до последнего, самого большого каюка. К нему собралось матросов человек 18. Пассажиры тоже взялись за работу: кто по берегу за веревку тащит, кто на каюке шестом отталкивается от берега, чтобы не дать волне прижать каюк к скале. Так добрались до середины и вот уже скоро-скоро будет пройдено опасное место, уже некоторые стали ликовать, как неожиданно течением вырвало из рук двух дарги и пассажира шесты, а вновь набежавшей волной хлестнуло каюк к берегу. Вряд ли бы ему выдержать борьбу со скалой, если бы, по причудливой случайности, в это самое мгновение сверху, из под ног матросов, не обвалилась глыба земли и не обрушилась в воду. Тяжестью нескольких сот пудов шлепнувшись в воду, глыба заставила волну отскочить назад, и волна, отпрянув от скалы, ударилась о каюк и оттолкнула его от берега. Холодный душ обдал всех сидящих и привел в чувство пассажиров, оцепеневших от страха. Каюк был неожиданно спасен.

Из под ног матросов обвалилась глыба земли в несколько сот пудов и обрушилась в воду. Волна оттолкнула каюк от берега. Мы были спасены.
Пройдя версты три, остановились в ожидании сорвавшихся каюков и стали сушить замоченный груз. Долго пришлось ждать. Мы все пообедали и, устроив шатры от солнца, полегли спать. Наконец, часа через четыре мы услыхали в камышах стон и по нем догадались, что это подходят каюки. К вечеру четвертого дня подул легкий западный ветерок и все матросы с криком «шаман-шаман» (ветер-ветер) пристали к берегу и стали натягивать паруса. На нашем каюке тоже вытащили большое, аршин десять в квадрате, полотнище, почерневшее от сырости и с таким множеством заплаток и дыр, что один из политработников спросил: «больше ли звезд на небе или дыр на нашем парусе»? И, тем не менее, изрешетенный парус все же заставлял каюк двигаться вперед. На пятый день также был ветер, но порывистый и часто менявший направление: то подует сзади, то замрет на несколько секунд и каюк влечется назад, по течению, то резким толчком подтолкнет каюк вперед, то вдруг, как будто играя и издеваясь над человеком, заскочит слева и гонит каюки к Афганскому берегу, по которому идут афганские пограничники и предупреждают, чтобы мы не вздумали пристать. По договору обоих правительств, река Аму-Дарья и Пяндж вся наша, а берег целиком их, и дарга, чтобы не пристать к берегу, шестом отталкивается подальше к середине. Вдруг ветер заскакивает с правой стороны и гонит нас снова к нашему берегу. В один из таких маневров ветра наш большой каюк нагнало на другой, маленький досчаник, выкрашенный в коричневую краску и с конским хвостом на носу, умудрившийся итти прямо вверх, благодаря повертыванию паруса матросами то вправо, то влево. Каюки ударились боками, как два горные барана рогами. Маленький каюк не выдержал, подался ближе, под защиту берега, затрещал и лишился одной доски, расщемленной на две части. Образовалась большая щель, в которую бросилась вода. Пассажиры повыскакали на берег, а матросы своими собственными халатами стали затыкать щель и задержали воду. Пассажиры пострадавшего каюка стали ругать наш каюк, называя его «толстой Марьей», изувечившей их «Нинку». Мы не оставались в долгу и отвечали: «пусть ваша Нинка не накрашивается и наша Марьяна не тронет». За весь этот день мы прошли не более 12 верст. На шестой день мучились несколько иначе. Ветер играл на наших нервах. То рассвирепеет и гонит каюк, как щепку, то ослабевает совершенно, то, наконец, подует с какой-нибудь стороны так, что даже мачта со скрипом накреняется, накреняя на бок и самый каюк до того, что борт чуть не зачерпывает воду, а мы в это время, как жонглеры, перескакиваем на другой бок, чтобы своей тяжестью выправить каюк до нормального положения. Многие женщины даже плакали, проклиная свою судьбу. Один каюк прибило к Афганскому берегу и часа полтора он там крутился, пока отплыл, а афганские пограничники ругались, торопя отъезжать от берега. Наши пассажиры тоже в долгу не оставались и доказывали, что виноват ветер. Как видно, русская ругань возымела силу над афганской, ибо афганцы замолчали. Другой каюк загнало на мель и сорвало парус. Ветер давно уже всем нам надоел и мы предпочитали лучше итти на веревках: хотя и медленнее, за то и безопаснее. Чтобы не повторяться, опускаю следующие дни пути.
* * *
На девятый день стали подходить к Вахшу. Самое трудное для матросов каюков это пройти реку Вахш, и многие каюки по несколько дней ожидают здесь ветра, чтобы Вахш пройти под парусами, но наши каютчики по опыту знали, что ветра не скоро дождутся и решили пробраться другим путем: тащили каюки сперва вверх по Вахшу, а потом, поднявшись версты на две, садились в каюк и гребли к противоположному берегу. Те каюки, которым не удавалось пристать к противоположному берегу, постигала плачевная участь: водами Вахша каюк сперва относило к самому Афганскому берегу. А потом уже несло вниз, и каюки, сорвавшиеся здесь, действительно рисковали вернуться в Термез. Все шедшие вперед нас каюки перебралисьблагополучно, остался наш самый большой и с самым неопытным даргой, с которыми мы всю дорогу бранились за его неуменье. Мы волоком поднялись до того места, куда доходили и передние каюки. Матросы стали грести к противоположному берегу, но не успели причалить и нас понесло прямо в Пяндж. На каюке поднялся крик и упреки по адресу дарги, что с таким большим каюком он не поднялся выше. Плохо нам было-бы, но на наше счастье в этом месте на Пяндже оказался маленький островок или, вернее, большая кочка, возвышавшаяся высоко над водой и разделявшая русло Вахша от Пянджа. К этой-то кочке мы и стали усиленно грести. Когда мы поравнялись с ней, один матрос выскочил на берег, схватил брошенную ему веревку и, обежав вокруг куста, единственного здесь, на островке, веревкой задержал каюк. Но что делать дальше? На кочке ни до чего не досидишься. До берега еще далеко. Матросы начали ощупывать дно реки. Оно оказалось глубоким и мы прошли до самого берега на шестах. От Термеза до Вахша Пяндж бежит прямо, в некоторых местах только делая незначительные загибы, от впадения же Вахша и до самого Сарая, где считается берегом 90 верст, а по воде 120, Пяндж делает на всем своем пути крутые повороты, образует прямые и даже острые углы. Здесь он бежит между больших гор, которые придвинулись к реке вплотную, как будто желая обрушиться и тяжестью похоронить ее в своих недрах. Очень часто в этом месте они, действительно, обрушиваются. Достаточно малейшего сотрясения почвы, которые здесь весьма и весьма нередки.

Дарвазский хребет над Вахшей.
По фотографиям с натуры для «Мира Приключений».
Пяндж не страшится великанов-гор и мчится, огибая каждую гору, словно желая связать ее своей желтой лентой. В этом месте очень скучный и однообразный путь: весь день едешь и все огибаешь одну и ту же гору; обогнул одну, а там — другая такая, и не видно им конца-края. Матросам здесь все время приходится лазать с одной горы на другую с веревкой. Большинство пассажиров, не имеющих вещей, в этом месте вылезает и идет берегом прямо до Сарая и всегда приходит дня на три раньше каюков. Два дня мы ползли после прохода через Вахш и до того нам эта езда надоела, что многие соглашались бросить не только каюки, но и собственные вещи и итти пешком в Сарай. Все исхудали и на солнце так обгорели, что нас никогда никто не принял бы за европейцев.
* * *
На двенадцатый день нашего плавания, когда солнце имело намерение повернуть на запад, мы услыхали сзади себя какой-то гудок, на подобие заводского. Все неудомевали и в первую минуту решили, что это какой-нибудь подземный гул. Но гудок был уж очень отчетливый. Мы стали озираться кругом и — о, радость! — из-за камышей, словно белая лебедь, вынырнуло судно. Мы сразу узнали в нем пароход «Троцкий». Он, наверно, пойдет до Сарая, но как пересесть? Мы идем по берегу, а он — серединой реки. Кричать — не услышит, а если и услышит — не захочет приставать к берегу из-за нас. Но вот он сам как будто поворачивает к берегу. Неужели будет приставать? Нет, это он, наверно, маневрирует между подводными камнями… Да даже если бы и пристал, так нет ни копейки денег на билет ни у кого из нас… Вдруг среди бушующей волны донесся до нас чей-то крик, называющий мою фамилию, а пароход все ближе и ближе подходит к берегу. Наконец, пристал, бросил якорь и спустил сходни. С парохода все раздаются крики и машут руками и фуражками… Значит, там есть кто-нибудь из знакомых! Мы, схватив кое-какие необходимые вещи, остальные поручив прикрытию, бросились бежать на пароход. Нас было человек десять с ближайших каюков. Только мы успели вбежать на пароход, как сняли мостки и пароход отчалил. На «Троцком» оказались два приятеля, которые, узнав еще в Термезе, что мы уехали с каюками, всю дорогу присматривались, чтобы не пропустить нас, а когда увидели, то упросили командира причалить и подобрать нас. Они же взяли нам и билеты. После каюков на пароходе мы почувствовали себя словно где-нибудь в городе. Ведь мы могли и по палубе пройтись, и спуститься вниз! На каюке мы все сидели на одном месте, поджав под себя по восточному ноги и подставляя под лучи солнца все оконечности тела. В Сарай-Комар, или, вернее, к пристани Файзабал-кала (в 16 верстах от Сарая) мы прибыли на тринадцатый день нашего плавания, вызвали лошадей из Сарая и поехали туда, куда стремились скорее добраться и где нас давно уже ждали. Крепость Сары-Чашма Востбухара.

(обратно)
НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!
 Задача № 28.
Наблюдательны-ли вы?
Задача № 28.
Наблюдательны-ли вы?
Наблюдательны-ли вы? Умеете-ли вы быстро схватывать подробности наблюдаемого вами события? Хорошо-ли удерживается виденное и слышанное в вашей памяти?
Это уменье наблюдать и запоминать факты чрезвычайно ценно, и не только для профессиональных наблюдателей, вроде газетного репортера, корреспондента, милиционера и т. д., но и для каждого культурного человека, желающего внимательно относиться к окружающим его явлениям.
Однако эта наблюдательность развита далеко не в каждом: — один способен схватывать на лету мельчайшие детали виденного, другой не может связать и двух-трех отдельных фактов.
Нашим читателям представляется случай проверить свою наблюдательность, взглянув на рисунок, помещенный на стр. 99-100.
Возьмите часы и всмотритесь в рисунок впродолжении 1 минуты, а затем прочитайте пояснение на стр. 115-116
(обратно)
ЧЕТВЕРТЫЙ

РАССКАЗ ДЖОНА РЕССЕЛЯ.
С английского пер. О. Косман.
Можно было принять плот за вал скошенной осоки или кучу спутанных плавучих корней, когда он выскользнул из покрытого тенью устья реки, поднимаясь и ныряя в первой волне прибоя. Но в то время, как небо начало светлеть и задул свежий береговой бриз, он упорно и настойчиво пробивал путь между отмелями и болотистыми островками, и когда солнце поднялось и сбросило со своего яркого глаза утренний туман, он миновал широкий вход в бухту и стоял в открытом море. Это было забавное судно для такого предприятия, — судно, типа, сохранившегося кое-где в захолустных уголках земли. Лодочный мастер взглянул бы на него с презрением. Со своими бревнами и скрепами оно было построено почти так же, как первое пловучее сооружение с веревками из кокосовых волокон. Плетенка из пандановых листьев служила ему парусом и весло из дерева ниаули рулем. Но оно имело одно действительное достоинство для мореплавания. Его двойная настилка, скрепленная, как у катамарана (индейского плота), была привязана жгутами тростника и бамбуковыми ветками поверх тройного ряда кокосовых орехов. Судно само, было легко, как пузырь, эластично, способно выдержать всякую погоду. Этот плот обладал и другим качеством, более ценным для его настоящей команды, чем какой угодно комфорт и безопасность. Он был почти невидим. Спустив только мачту и улегшись во впадину его настилки, они могли остаться незамеченными в расстоянии полумили. Плот занимали четыре человека. Трое из них — белые. Их тело было исцарапано терновником и почернело от засохшей крови. На руках и щиколках сохранился темный и вдавленный отпечаток кандалов. У них были длинные, всклокоченные волосы, одежда состояла из парусиновых лохмотьев синих форменных курток. Но они были белые — представители высшей расы, — представители более чем высшей расы, по мнению тех философов, которые в преступлении видят проявление гения. Четвертым был человек, который построил плот и теперь управлял им. В нем не было ничего высшего. Его кожа казалась покрытой слоем сажи. Его выдающаяся челюсть выступала из личного угла больше, чем низкий лоб. Ни одна черточка красоты не скрашивала его тощих членов и узловатых суставов. Природа наложила на него ясное клеймо низкого происхождения и его единственные попытки затушевать это состояли в повязке из древесной коры на туловище и костяной спицы, воткнутой в носовой хрящ. Словом, это был очень обыкновенный образчик одной из самых низких ветвей человеческой семьи — канака из Новой Каледонии. Трое белых несколько часов молча сидели все вместе на передней части плота. Но на солнечном восходе очарование как будто было разрушено донесшимся с востока звоном большого медного гонга. Они пошевелились, глубоко вдохнули соленый воздух, переглянулись с надеждой, блеснувшей на их угрюмых лицах, и потом взглянули назад, на сушу, которая представлялась теперь только серовато-зеленым пятном позади них… — Друзья, — сказал самый старший, лоб которого был обвязан красным шарфом. — Друзья, дело сделано. Жестом колдуна он вытащил из-за пазухи своей рваной куртки три папиросы, свежие и круглые, и предложил их остальным. — Нипперс, — воскликнул сидевший справа от него. — Настоящий нипперс, клянусь богом. И здесь? Доктор, я всегда говорил, что вы изумительный человек. Посмотрите, оне как будто только что вынуты из ящика. Д-р Дюбоск улыбнулся. Те, которые знали его при совершенно других обстоятельствах на бульварах, в фойе и клубах, не смотря на все перемены, узнали бы его снова по этой улыбке. И здесь, среди подонков земли, она продолжала выделять его в тюрьмах и кобальтовых рудниках; обыкновенные колодники не отличаются веселостью. Многие из толпившихся в аудиториях Монпелье видели его бросавшим какой-нибудь фейерверк мысли с такой же искрой, вспыхивавшей под его щетинистыми бровями, с такой же тонкой складкой его губ. — По случаю торжества, — объяснил он. — Подумайте. Каждые полгода из Нумеи совершается семьдесят пять побегов, из которых удается не больше одного. Я узнал цифры в больнице от д-ра Пьера. Он неважный врач, но честный малый. Разве можно при таком проценте не отпраздновать удачу, спрашиваю вас. — Итак, вы приготовились к этому? — Три недели тому назад я подкупил ночного сторожа, чтоб достать эти папиросы. Собеседник восторженно посмотрел на него. Чувство легко отражалось на этом безбородом лице, темном и нежном, но слишком крупном, с черезчур большими и робкими глазами и черезчур длинным овалом. Это было одно из лиц, достаточно хорошо знакомых полиции, которые могли бы служить моделью для ангела, если бы в них не проглядывало чего-то дьявольского. Фенэйру был осужден «на бессрочную», как неисправимый. — Разве наш доктор не чудо? — спросил он, передавая папиросу третьему белому. — Он думает обо всем. Вам стыдно ворчать. Видите, мы свободны наконец. Свободны! Третий был толстый, рябой человек, с вылезшими ресницами, известный когда то под прозвищами Ниниш, Три Восьмерки, Сучильщик, но среди каторжников главным образом как Попугай — может быть благодаря его крючковатому носу или чему то птичьему в его характере. Он был душитель по профессии, привыкший пользоваться своими кулаками только для обмена любезностями. Дюбоск мог подчиняться своей фантазии, Фенэйру умышленно принимал позу, но Попугай оставался джентельменом самого строгого направления. Пожалуй, надо отдать должное практическому уму тюремной администрации на основании того факта, что, хотя Дюбоск был наиболее опасным из трех и Фенэйру наиболее испорченным, только Попугай имел официальную репутацию человека, побег которого был бы отмечен первым, как «особо важный». Он взял папиросу, потому что был рад получить ее, но ничего не сказал, пока Дюбоск не передал ему жестяной спичечницы, и первый клуб дыма не наполнил его легкие. — Подожди, пока станешь обеими ногами на мостовую, мальчик. Тогда будет время говорить о свободе. Ну, предположим, случится буря. — Теперь не время для бурь, заметил Дюбоск. Но слова Попугая подействовали на них. В их умы, для которых суша была ужасом, мог только медленно проникнуть страх перед морем. Они забыли оставленную за собой тюрьму каторжной колонии.

Трое белых курили и забыли оставленную за собой тюрьму каторжной колонии…
Здесь они снова достигли манящего преддверья широкого мира. Это были восставшие из мертвых, с бешеным аппетитом потерянных лет, чувствующие сильный и сладкий вкус жизни на своих губах. И, однако, они примолкли и торопливо оглянулись, чувствуя то сжимание горла, которое бывает на море у привыкших к суше людей. Кругом было такое обширное и пустынное пространство. В их ушах раздавались такие странные, шепчущие голоса. Была угроза в зловещем колебании каждой поднимающейся из глубины волны. Никто из них не был знаком с морем. Никто не знал его сил, шуток, которые оно может сыграть, ловушек, которые может расставить, — более ужасных, чем джунгли. Плот бежал теперь под сильным порывом, то поднимаясь вверх, то ныряя, пена кипела перед ним и струилась назад между сидящими. — Где это проклятое судно, которое должно нас здесь встретить? — спросил Фенэйру. — Оно встретит нас, когда нужно. Дюбоск говорил беззаботно, хотя в то же время пристально вглядывался в далекий горизонт, усиленно раскуривая свою папиросу. — Это условленный день. Нас подберут в устье реки. — Вы так говорите, — проворчал Попугай. — Но где же тут река? Или устье? Честное слово этот ветер унесет нас в Китай, если так будет продолжаться. — Нам нельзя держаться ближе. В Тюрьене есть казенный баркас. Да и купеческие суда плавают здесь вооруженные ради таких ребят, как мы. Не воображайте, что туземные ищейки отстали от нас. Может быть они гонятся за нами в своих проа (легкое судно). — Так далеко! Фенэйру улыбнулся, потому что Попугай питал болезненный ужас к их диким врагам. — Берегись, Попугай. Они еще съедят тебя. — Это правда? — спросил тот обращаясь к Дюбоску. — Я слыхал, что этим дьяволам даже разрешено — помилуй боже — откармливать всех беглых, которых они поймают. — Пустые сказки, — улыбнулся Дюбоск. — Они предпочитают получить награду. Но был слух между каторжниками, что раз дело вышло плохо. Это было с лесником, который прочищал просеку от Южной Бухты и возвращался без оружия. Разумеется этот народ не потерял привычки к людоедству. — Понемножку, — хихикнул Фенэйру. — Они только попробуют тебя, Попугай. Дай им приготовить рагу из твоих мозгов. Ты ничего не потеряешь. Попугай ответил проклятием. — Честное слово — что это за скоты, — сказал он, напомнив жестом о присутствии четвертого человека, принадлежащего к их партии, но настолько чуждого им, что они почти позабыли о нем. Канак правил плотом. Он сидел скорчившись на корме, его тело, обрызганное пеной, блестело, как полированная слоновая кость. Он держал рулевое весло, неподвижный, как нарисованный, устремив глаза вперед. На его лице не было следа выражения, никакого намека на то, о чем он думает или что чувствует, если вообще он думал и чувствовал. Он кажется даже не заметил их взгляда и каждый из них почувствовал то неприятное ощущение, которое испытывает белый, сталкиваясь со своим цветным братом — этой коричневой, желтой или черной загадкой, которой ему не суждено понять… — Мне пришло в голову, — сказал прерывая молчание Фенэйру, — что этот наш приятель, похожий на вычищенный сапог, способен завезти нас бог знает куда. Может быть, чтобы потребовать награду. — Успокойтесь, — ответил Дюбоск. — Он правит по моему приказанию. Кроме того, это простое создание, ребенок, правдивый, неспособный на самое примитивное рассуждение. — Он неспособен на предательство?.. — Такое, которое могло-бы повредить нам. Он связан своим долгом. Я заключил сделку с его начальником на реке, и этот человек послан, чтобы доставить нас на борт нашего судна. В этом весь интерес, который мы для него представляем. — И он исполнит это? — Да. Такова природа туземцев. — Я рад, что вы так думаете, — обернулся Фенэйру, беспечно устраиваясь на высохшем тростнике и досасывая окурок своей папиросы. — Что касается меня, я и двух су не поверил бы такой образине. Чорт возьми! Что за обезьянье лицо. — Животное, — повторил Попугай; и этот человек, выросший в какой-то грязной прибрежной улице Аржентейля[7], чьим домом были доки, распивочная и тюрьма, даже этот человек смотрел на канаку с неизмеримой высоты, взглядом ненависти и презрения… От дневного жара двое младших каторжников погрузились в дремоту. Но Дюбоск не спал. Его душевная тревога выглянула из под маски, когда он встал, чтобы еще раз осмотреть горизонт, прикрыв глаза рукою. Его рассчет был так точен, действительность так противоречила ему. Он безусловно надеялся встретить судно — какую-нибудь маленькую шкуну, одно из тех полу-пиратских купеческих судов, которые шныряют между торгующими копрой[8] островами и которые можно нанять, как кэб в темной улице, для какого-нибудь сомнительного предприятия. А судна не было до сих пор, и здесь не перекресток, на котором можно сидеть и ждать, катамаран не подходящее судно для этого. Доктор предвидел скверные осложнения, к которым он не приготовился, и тяжесть которых ему предстояло вынести на себе. Идея побега принадлежала ему, и он руководил им с самого начала. Он обдуманно выбрал спутников изо всей партии каторжников: Попугая за его силу и Фенэйру за сговорчивость. Он целиком выполнил план, начиная с того момента, как они скрылись из рудника, во время стычки с военной стражей, блуждания по зарослям, когда собаки и сыщики гнались за ними по следу через все препятствия, и он один был руководителем. Что касается других, они достаточно хорошо поняли, о ком из них заботятся главным образом. Те таинственные друзья за океаном, которые на расстоянии половины земного шара помогали их освобождению, никогда не слыхали о таких людях, как Фенэйру и Попугай. Дюбоск был тем человеком, который дергал проволоку: этот знаменитый врач, обвинение которого в убийстве, такое сенсационное и скандальное, последовало за его академическими и общественными торжествами. Во многих парижских салонах прищелкнули бы языком, в некоторых побледнели бы при известии о его побеге. О, да, конечно, они знали, кто был главной пружиной шайки, и подчинялись — пока он вел их к победе. Они подчинялись, хотя таили в глубине души зависть, неизбежную среди этих подонков клейма и позора. К вечеру доктор принял необходимые меры предосторожности. — Хо! — сонно проговорил Фенэйру. — Взгляните-ка на наш вымпел на мачте. Для чего это, товарищ? Парус был опущен и вместо него развевался красный шарф, служивший Дюбоску тюрбаном. — Чтобы легче было заметить нас, когда придет судно. — Сколько ума, — воскликнул Фенэйру. — Всегда он подумает обо всем, наш доктор, обо всем. Он остановился, не докончив фразу, и его рука протянулась к середине настилки. Здесь, во влажной впадине тростника, лежала оплетеная бутылка зеленого стекла, в которой они держали воду. Она исчезла. — Где же фляжка? — спросил он. — Солнце зажарило меня до костей. — Вам придется поджариться еще больше, — мрачно сказал Дюбоск. — Команда переводится на рационы. Фенэйру вытаращил на него глаза и из под тени опущенной плетенки выглянуло багровое лицо Попугая. — Что вы там поете? Где вода? — У меня, — сказал Дюбоск. Действительно, они увидели, что он держит фляжку между ног вместе с их единственным пакетом пищи, завернутыми в кожуру кокосового ореха. — Я хочу пить, — потребовал Попугай. — Подумайте немного. Мы должны беречь наши припасы, как благоразумные люди. Неизвестно сколько времени нам придется здесь плавать… Между ними наступило тяжелое молчание, среди которого слышался только скрип плетеного тростника, когда плот поднимался на волне. Как ни медленно было их движение, их непрерывно подталкивало вперед и вперед, и последние утесы Новой Каледонии на западе казались уже не пятном, а неясной линией. И все еще они не видели ни одного движущегося предмета на могучей округлой груди океана, сиявшей в своей кирасе из бронзовых пластинок под бронзовым солнцем. — Так-то вы теперь говорите? — начал задыхаясь Попугай. — Вы не знаете сколько времени? Но вы были достаточно уверены, когда мы отправлялись. — Я и теперь еще уверен, — возразил Дюбоск. — Судно придет. Не оно не может стоять на одном место из-за нас. Мы должны ждать. Она должно крейсировать, пока не заметит нас. Мы должны ждать. — Прекрасно, мы должны ждать. А что же пока? Жариться здесь, но этой проклятой жаре, с высунутыми языками, а вы будете оделять нас капля по капле — эге? — Может быть. — Ну, нет, — душитель сжал кулаки. — Клянусь богом, нет такого человека, который стал бы кормить меня с ложки. Послышалось хихиканье Фенэйру, как это было уже не один раз. Дюбоск пожал плечами. — Ты смеешься, — крикнул оборачиваясь взбешенный Попугай. — Ну, а что ты скажешь об этом мошеннике капитане, который оставляет нас в море без провианта? Что? Он обо всем думает, не правда-ли? Он думает обо всем. Проклятый шут — пусть я еще раз услышу твой смех. Повидимому Фенэйру не был расположен к этому. — И теперь он просит нас быть рассудительными, — закончил Попугай. — К чорту в ад с этими разговорами! Да и вас с вашими папиросами. Тьфу — комендант! — Это правда, — пробормотал нахмурясь Фенэйру. — Скверно для капитана беглых каторжников. Но доктор встретил мятеж со своей тонкой улыбкой. — Все это ничего не меняет. Чтобы не умереть очень скоро, мы должны беречь нашу воду. — По чьей вине? — Моей, — соглашался доктор. — Я признаю это. Но что-же из того? Мы не можем вернуться назад. Мы здесь и должны оставаться. Мы можем только сделать все, что от нас зависит, с тем, что у нас есть. — Я хочу пить, — повторил Попугай, горло которого горело с тех пор, как ему отказали дать воды. — Вы, конечно, можете потребовать свою долю. Но заметьте одно: когда она выйдет, не расчитывайте поживиться от нас — Фенэйру и меня. — Такая свинья и на это способна, — воскликнул Фенэйру, к которому относился этот намек. — Я его знаю. Смотри, старина, доктор прав. Что хорошо для одного, хорошо и для всех. — Я хочу пить. Дюбоск вытащил деревянную затычку фляжки. — Отлично, — сказал он спокойно. С ловкостью, напоминающей жесты фокусника, он вытащил маленькую холщевую сумку, грубую замену профессионального черного мешка, из которого достал мензурку. Он осторожно налил ее до краев; Фенэйру издал восклицание при виде отвисшей челюсти ворчащего Попугая, когда тот брал крошечный сосуд своими толстыми пальцами. Прежде чем закупорить бутылку, Дюбоск налил по такой же порции себе и Фенэйру. — Таким образом нам хватит, что-бы протянуть три дня — может быть больше — равными порциями на нас троих… Такими словами он определил положение и на них не последовало никаких замечаний; само собой подразумевалось, что он должен был рассчитать так, как он это сделал, — не принимая во внимание того, кто сидел одиноко на корме плота, черного канаку, четвертого. Попугай был побежден, но он слушал угрюмо то, что Дюбоск в сотый раз рассказывал ему о простом и точном плане их спасения, как это было условлено с его тайными корреспондентами. — Это звучит прекрасно, — заметил, наконец, Попугай. — Но что, если эти шутники только издеваются над вами? Что, если они рассчитывают избавиться от вас, предоставив вам изжариться здесь? А мы? Чорт возьми, это была ловкая шутка — заставить нас ждать судно, а судна то никакого и нет. — Может быть доктор знает лучше нас, насколько надежны те, на кого он рассчитывает, — лукаво заметил Фенэйру. — Это так и есть, — сказал добродушно Дюбоск. — Клянусь честью, для них было бы невыгодно изменить мне. Представьте себе, что в Париже есть полный бумаг несгораемый шкаф, который должны вскрыть в случае моей смерти. Некоторым из моих друзей вряд ли особенно хочется, чтобы были опубликованы кое-какие признания, которые там могут найтись… Вот, например, такая история. И чтобы развлечь их, он рассказал неприличный анекдот из жизни высшего общества, правдивый или выдуманный, это неважно, но который заставил заблестеть глаза Фенэйру, между тем как Попугай рычал от восторга. Его способ влиять на таких людей заключался именно в этом, в уменьи подействовать своим красноречием на воображение. Измученный, истощенный, подавленный опасениями, которые он чувствовал более остро, чем они, он должен был изощряться теперь в грубых выдумках, чтоб развлечь их. Это удалось ему настолько хорошо, что, когда при солнечном закате ветер затих, они почти развеселились, готовые поверить, что утро принесет избавление. Они пообедали сухими сухарями с мензуркой воды на каждого и с общего согласия решили держать вахту. И в течении всей этой длинной, ясной и звездной ночи, когда бы одному из трех, бодрствующему между своими товарищами, не случилось оглянуться назад, он мог видеть смутные очертания другой фигуры — нагого канаки, дремлющего в стороне от них. Утро началось дурно. Фенэйру, дежуривший в утреннюю смену, был разбужен ударом ноги, таким же грубым, как удар копытом, и вскочив увидел перед собой злобное лицо Попугая с доктором за его спиной, серьезно смотревшим на него. — Лентяй! Бездельник! Просыпайся, пока я не поломал тебе ребер. Боже ты мой, вот так стоят здесь на вахте! — Брось, — дико вскрикнул Фенэйру. — Брось, не трогай меня! — Э, а почему бы и нет, дурак? почем ты знаешь, может быть судно пропустило нас? Не могло оно десять раз пройти мимо, пока ты спал? — Осел! — Корова! Они осыпали друг друга тюремной руганью, пока Попугай не занес своего огромного кулака над противником, который пригнулся к земле как кошка, с рычаньем, исказившим его подвижной рот. Дюбоск стоял в стороне, внимательно наблюдая, пока среди окружавшего их багровокрасного рассвета не блеснула красной полосой обнаженная сталь. Тогда он выступил вперед. — Довольно, Фенэйру, уберите ножик. — Этот пес ударил меня. — Вы были неправы, — строго сказал Дюбоск. — Что же, не умирать же всем нам, чтобы он мог выспаться! — горячился Попугай. — Зло уже сделано. Слушайте теперь вы оба. Положение и так достаточно скверно. Нам нужна вся наша энергия. Посмотрите вокруг. Они оглянулись и увидели далекий, круглый горизонт, пустыню океана, свои длинные тени, медленно скользившие вперед по его тихо вздымающейся поверхности, и ничего более. За ночь суша скрылась — одно из случайных течений, которые проходят между островами, увлекло их неизвестно куда и как далеко. Ловушка захлопнулась. — Господи, какая пустыня, — прошептал Фенэйру среди общего молчания. Никто не говорил больше. Они забыли про свою ссору. Молчаливо поделили такие же, как и раньше, порции, кое как проглотили немного пищи с несколькими каплями воды, и сели, прижавшись друг к другу, напрягая свои жизненные силы против того, что пришло — нечто вроде безмолвного испытания выносливости. Наступил штиль, как это бывает в промежутках между ветрами в этом поясе — абсолютный штиль. Тяжело навис воздух, на поверхности океана ни малейшей ряби, только доводящее до безумия, непрерывное колебание вверх и вниз на глянцевитых волнах, на поверхности которых преломляются солнечные лучи, вонзаясь в глаза, как раскаленные осколки. Неумолимое солнце палило их как зажигательное стекло, вытягивало влагу из жалких комков человеческого студня, заставляя их ползти под защиту плетенок и выгоняя потом опять, корчащихся и задыхающихся. Вода, целый мир воды, казалась скользкой и густой, как масло. Они начинали ненавидеть ее и ее запах, и когда доктор заставил их выкупаться, они нашли в этом мало приятного. Вода была теплая и слизистая. Но получилась странная вещь… В то время, как они купались, цепляясь за край плота, все они обернулись лицом к нему, к сидевшему там — черному канаке. Он не присоединился к ним, не взглянул на них. Он сидел, поджав под себя пятки по обычаю туземцев, охватив колени руками. Он оставался на своем месте на корме, неподвижный под жгучим солнцем, и как будто отдыхая. Каждый раз, когда они поднимали глаза, они видели его. Он был единственным видимым предметом. — Вот, кто кажется совершенно довольным, — заметил Дюбоск. — Я сам это подумал, — сказал Фенэйру. — Скотина, — проворчал Попугай. В первый раз они взглянули на него с интересом, с мыслью о нем, как о человеке, и с зарождающейся завистью. — Незаметно, чтобы он страдал. — Что у него делается в голове? Что он обо всем этом думает? Можно, пожалуй, сказать, что он презирает нас. — Животное! — Может быть он ждет нашей смерти, — резко засмеялся Фенэйру. — Может быть он ожидает награды. Он не помер бы с голоду на обратном пути и мог бы представить нас начальству по отдельным кусочкам. Они всматривались в него. — Каково ему приходится, доктор? Разве у него нет чувств? — Удивляюсь, — сказал Дюбоск. — Может быть его нервы выносливее наших. — Однако у нас есть вода, а у него нет. — Но взгляните на его кожу, какая она свежая и влажная. — И его живот, круглый, как мячик. Попугай вылез на плот. — Не говорите мне, что это черное животное страдает от жажды, — воскликнул он возбужденно. — Не мог ли он каким нибудь образом красть наши запасы? — Разумеется нет. — Тогда, клянусь собакой, что, если он прячет где нибудь свои собственные запасы? То же чудовищное предположение мелькнуло у всех, и остальные бросились на помощь. Они оттолкнули в сторону чернокожего и обыскали настилку в том месте, где он сидел, роясь в тростнике, разыскивая какое-нибудь скрытое углубление, другую бутылку или тыкву; но они ничего не нашли. — Мы ошиблись, — сказал Дюбоск. Но Попугай иначе выразил свое разочарование. Он повернулся к канаке, схватил его за торчащие волосы и принялся «давать ему кашу», как это называется в кобальтовых рудниках. Это было маленькой специальностью Попугая. Он остановился только тогда, когда сам устал и запыхался, и отбросил прочь легкое, не сопротивляющееся тело. — Вот тебе, грязная куча. Это тебя проучит. Пожалуй, ты не будешь теперь таким гладким, парень — эге? Не так уж станешь наслаждаться своим счастьем. Свинья! Это даст тебе почувствовать… Это был нелепый, бессмысленный поступок. Но другие ничего не сказали. Ученый Дюбоск не протестовал. Фенэйру не отпускал своих обычных шуток над глупостью душителя. Они смотрели на это, как на удовлетворение общего озлобления. Белый топтал ногами черного, за дело, или нет, и это было вполне естественно. И черный уполз на свое место со своими ранами и обидами, как будто ничего не заметив и не отплатив не одним ударом. И это также было естественно. Солнце опускалось в огненную печь с широко открытыми дверцами, и они умоляли его поспешить, проклиная за то, что оно висело на месте, как заколдованное. Но когда оно скрылось, их покрытые пузырями тела все еще удерживали в себе жар, как накаленные до бела предметы. Ночь сомкнулась над ними, как пурпуровая завеса, блестящая и непроницаемая. Они хотели опять распределить вахты, хотя никто из них не собирался спать, но Фенэйру сделал открытие. — Идиоты, — выругался он. — Для чего нам смотреть и смотреть? Целый флот не может теперь помочь нам. Если нас захватил штиль, то и их также. Попугай был страшно озадачен. — Это правда? — спросил он Дюбоска. — Да, мы должны надеяться на ветер. — Тогда, ради всего святого, почему вы нам этого не сказали? Для чего нужно было разыгрывать комедию? — Он подумал несколько минут. — Смотрите, — сказал он. — Вы умны, да? Вы очень умны. Вы знаете вещи, которых мы не знаем, и держите их про себя. Он нагнулся вперед, чтобы заглянуть в лицо доктору. — Очень хорошо. Но если вы попробуете воспользоваться этой проклятой хитростью, чтобы получше провести нас, я перерву ваше горло, как апельсиновую корку… Вот так. Что? Фенэйру нервно хихикнул; Дюбоск пожал плечами, но может быть с этого времени начал сожалеть о своем вмешательстве в драку с ножем. Ветра не было, не было и судна. На третье утро каждый ушел в себя, сторонясь других. Доктор погрузился в глубокое уныние, Попугай в мрачную подозрительность, а Фенэйру в физические страдания, которые он плохо переносил. Только две нити связывали еще их товарищество. Одной из них была фляжка, которую доктор повесил через плечо на обрывке жгута. За каждым прикосновением его к ней, за каждой наливаемой им каплей следили горящие глаза. Он знал, и это знание не давало ему преимущества над другими, что жажда жизни вырабатывала свою безжалостную формулу среди населения плота. Благодаря его заботливой экономии, у них оставалось еще около половины первоначального запаса. Второй нитью, как ни странна такая перемена, было присутствие черного канаки. Теперь они не забывали о четвертом, не пренебрегали им. Он рисовался в их сознании все грандиознее, таинственнее, все более раздражающим с каждым часом. Их собственные силы убывали, тогда как голый дикарь не выказывал ни малейшего признака недовольства или слабости. Ночью он растягивался, как и прежде, на настилке и через некоторое время засыпал. В часы тьмы и безмолвья, пока каждый из белых боролся с отчаянием, чернокожий спал спокойно, как ребенок, с мирным и равномерным дыханием. Он опять вернулся на свое место на корме и оставался все таким же, как непоколебимый факт и все возрастающее чудо. Зверская выходка Попугая, в которой он дал выход своей ненависти к туземцу, сменилась суеверной боязнью. — Доктор, — сказал он, наконец, хриплым от ужаса голосом, — человек это или нечистый? — Человек. — Это чудо, — вставил Фенэйру. Но доктор поднял палец жестом, памятным его слушателям: — Это человек, — повторил он, — и очень бедный и жалкий представитель человеческого рода. Вы нигде не найдете более низко стоящего типа. Он едва только выше обезьяны. Есть ученые обезьяны, у которых больше ума. — А, но тогда? — У него есть секрет, — сказал доктор. Это слово как будто укололо их. — Секрет! Но мы видим его, каждое движение, которое он делает, каждую минуту. Какой тут возможен секрет? Досада и огорчение заставили доктора почти забыть о своей аудитории. — Какая обида, — размышлял он. — Нас трое здесь — детей нашего века, продуктов цивилизации — нельзя же отвергать этого в конце концов, я надеюсь. И здесь же человек, принадлежащий к эпохе, предшествующей каменному веку. Неужели же он окажется победителем при испытании приспособленности, ума и выдержки? Обидно. — Какого рода секрет? — спросил сердито Попугай. — Не знаю, — признался Дюбоск с недоумевающим жестом. — Может быть какой нибудь способ дыхания, особенная поза, уничтожающая чувствительность тела. Такие вещи были известны первобытным народам. Они знали их и хранили в глубокой тайне — как например свойства некоторых лекарств, применение гипнотизма и сложных законов природы. Это может быть также психологическим приемом — упорно поддерживаемым сосредоточиванием мысли. Кто знает? — Спросить его? Бесполезно. Он не скажет. Зачем ему говорить? Мы презирали его. Мы не приняли его в долю с нами. Мы дурно обходились с ним. Он применит свой обыкновенный способ. Он просто останется непроницаемым — каким он всегда был и будет. Он никогда не выдаст этих тайн. При помощи их он мог выжить, начиная с глубины времен, оне же помогут ему выжить и тогда, когда вся наша мудрость обратится в прах. — Я знаю много прекрасных способов узнавать тайны, — сказал Фенэйру, проводя сухим языком по губам. — Начать? Дюбоск вздрогнул, пришел в себя и взглянул на него. — Бесполезно. Он выдержит всякую пытку, какую бы вы ни придумали. Нет, это неподходящий способ. — Послушайте, — сказал Попугай с внезапным бешенством. — Мне надоела болтовня. Вы говорите, что он человек? Отлично. Если он человек, в его жилах должна быть кровь. Ее во всяком случае можно выпить. — Нет, — возразил Дюбоск. — Она теплая и соленая. Для еды — пожалуй. Но еда нам не нужна. — Тогда убить это животное и выбросить вон. — Мы ничего не выиграем этим. — Чего же вы хотите, чорт возьми? — Побить его! — крикнул странно волнуясь доктор. — Побить его в этой игре, — вот я чего хочу. Ради нас самих, ради нашей расовой гордости. Мы должны, мы должны. Пережить его, доказать свое господство над ним, благодаря лучшему мозгу, лучшей организации и самообладанию. Следите за ним, следите за ним, друзья, чтобы мы могли поймать его, чтобы могли подкараулить и победить его наконец! Но доктор был так далек от них. — Следите? — проворчал Попугай. — Полагаю, что так, старый пустомеля. Мы только и делаем, что следим. Я совсем не сплю и никого не оставил бы наедине с этой бутылкой. Положение окончательно обострилось Такая жажда у подобных людей не могла долго удовлетворяться малыми порциями. Они следили за канакой, следили друг за другом. И они следили за понижающимся уровнем во фляжке — с возростающим напряжением. Другой рассвет при том же мертвом штиле, поднимающийся как пожар в неподвижном воздухе, безоблачный, безнадежный. Предстоит другой день ослепляющей, медленно тянущейся агонии. И Дюбоск объявил, что их порции должны быть убавлены до половины мензурки. Оставалось может быть четверть литра — жалкая отсрочка конца на троих, но хороший глоток для истомленного горла. При виде бутылки, при бульканьи ее прозрачного содержимого такого свежего и серебристого в зеленом стекле, нервы Фенэйру не выдержали… — Еще, — просил он, умоляюще протянув руки. — Я умираю. Еще. Когда доктор отказал ему, он бросился на тростник, потом вдруг приподнялся на колени и с хриплым криком взмахнул руками по направлению к морю: — Судно, судно! Остальные обернулись. Они увидели чистое, непрерывное кольцо своей обширной тюрьмы, еще более ужасной, чем та, которую они на нее променяли; и это все, что они увидели, хотя всматривались и всматривались. Когда они повернулись к Фенэйру, тот опоражнивал бутылку. Ловким ударом своего ножа он отрезал ее от перевязи на боку доктора. Еще и теперь он сосал из нее, разливая драгоценную жидкость. В один миг Попугай схватил весло и нанес ему оглушительный удар. Прыгнув к распростертому человеку, Дюбоск вырвал у него бутылку и отбежал на другой конец плота, подальше от огромного душителя, который стоял, широко расставив ноги, со сверкающими, налитыми кровью глазами и хриплым дыханием. — Судна нет, — сказал Попугай. — И не будет. Мы пропали. Из-за вас и ваших фальшивых обещаний, которые завели нас сюда — доктор, лгун, осел. Дюбоск не терял твердости. — Подойдите на шаг ближе, и я разобью бутылку о вашу голову. Они смотрели друг на друга, и лоб Попугая сморщился от слабого усилия мысли. — Подумайте, — настойчиво произнес Дюбоск со своим легким оттенком педантизма. — Чего ради нам враждовать между собою? Мы разумные люди. Мы можем выйти из трудного положения и победить. Такая погода не может продолжаться вечно. Кроме того, теперь придется делить воду только на двоих. — Это правда, — кивнул Попугай. — Это правда, не так ли? Фенэйру был так мил, что оставил нам свою долю. Наследство — а? Замечательная мысль. Я хочу получить теперь свою часть. Дюбоск пристально взглянул на него. — Сразу всю мою долю, пожалуйста, — упорно настаивал Попугай. — Потом мы посмотрим. Потом. Доктор усмехнулся своей мрачной и бледной улыбкой. — Пусть будет так. Не выпуская бутылки он достал свою холщевую сумку еще раз, сумку, заменяющую профессиональный черный мешок — и быстрым движением своих гибких пальцев вынул из нее мензурку, не отводя глаз от Попугая. — Я отмерею вам. Налив полную мензурку, он быстро подал ее, и когда Попугай опорожнил ее одним глотком, налил еще и еще раз. — Четыре, пять, — считал он. — Теперь довольно. Но в то время, как доктор передавал последнюю порцию, Попугай захватил его руку своей огромной лапой, и, крепко стиснув ее, лишил его возможности сопротивляться. — Нет, не довольно. Теперь я хочу получить остальное. Ха, ученый. Я таки одурачил вас, наконец! Не имея возможности вырваться, Дюбоск не пытался этого сделать; он стоял улыбаясь и ждал. Попугай взял бутылку. — Лучший побеждает, — заметил он. — Э, приятель! Это ваше блестящее замечание. Лучший. Его губы шевелились беззвучно. На его круглом лице выразилось напряженное изумление. Одну минуту он стоял пошатываясь и потом свалился, как большая, подвешенная кукла, у которой подрезали шнурок. Дюбоск сделал шаг и опять схватил бутылку, глядя вниз на своего огромного противника, затихшего после недолгих судорог и лежавшего с синеватой пеной на губах… — Да, лучший побеждает, — повторил доктор и рассмеялся, опрокидывая в свою очередь бутылку, чтобы напиться. — Лучший побеждает, — отозвался голос над его ухом. Фенэйру, пригнувшись и прыгнув, как раненая змея, вонзил ему нож между плеч.

Фенэйру, пригнувшись и прыгнув, вонзил Дюбоску нож между плеч.
Бутылка упала и покатилась к середине настилки, и там, пока каждый из них напрасно старался завладеть ею, ее драгоценное содержимое вытекло тонкой струйкой и пропало. Прошли минуты или часы — нельзя измерить время в пустое — когда на тростниковом плоту раздался первый звук, повисший, как пылинка, между небом и морем. Это была мелодия, неясный и колеблющийся в полутонах напев, не лишенный музыкальности. Черный канака пел. Он пел про себя, без чувства и усилия, спокойно и не заботясь о мотиве. Так он мог петь в своей лесной хижине, услаждая часы досуга. Охватив руками колени и неподвижно глядя в пространство, он пел, — невозмутимый, неподвижный, загадочный до конца. И, наконец, судно пришло. Оно пришло так, как подобает маленькой шкуне, плавающей между Нукагивой и Пельюсом — как часто уверял ее владелец, и против чего возражали только завистники — вполне достойным образом, под управлением такого способного капитана, как Жан Жильберт, самый веселый маленький негодяй, который когда либо обворовывал жемчужные отмели или захватывал груз каторжников с опасного берега. Еще до первого дуновения западного ветра пришла «Маленькая Сусанна», жеманясь и подпрыгивая, блестя белыми оборками, испуганно приподняла их и стала, отряхивая свое платье и грациозно держась к ветру. — Очень вероятно, что они здесь, будь я проклят, — сказал знаток многих языков, капитан Жан, на коммерческом и нечестивомжаргоне. — Этакие пассажиры для нас. Ну? Они все время пробыли здесь, не отходя дальше, чем на десять миль, держу пари, Марто. Разве не правда, как вы думаете, мальчик? Его помощник, высокий и необыкновенно костлявый человек мрачного вида, отдал обратно бинокль. — Не повезло. Я никогда не одобрял эту сделку. А теперь — видите? — мы даром проездили. Какая неудача. — Марто, если когда нибудь святой Петр даст вам золотую арфу, вы и тогда будете жаловаться на неудачу — дурную сделку, — упрекнул капитан Жан. — Что мне, стоять тут и слушать, как вы хнычете о счастьи? Ступайте в шлюпку и поскорее. М-р Марто достаточно приободрился, чтобы командовать шлюпкой, отправляющейся на разведки… — Так и вышло, как я думал, — закричал он с расстояния в четверть мили, возвращаясь с донесением, — Я говорил вам, что так будет, капитан Жан. — Хэ? — крикнул капитан, бросаясь к поручням, — взяли вы пассажиров, потаскушкин сын? — Нет, — сказал Марто тоном мрачного торжества. Ничто на свете не могло доставить ему большего удовольствия, чем этот случай доказать капитану Жану, что он испортил дело. — Мы опоздали. — Не повезло, не повезло с этим штилем. Какое несчастье. Они все умерли.

— Не повезло с этим штилем! Они все умерли.
— Будете вы исполнять ваши обязанности? — крикнул шкипер. — Но раз джентльмены умерли. — Какое мне дело? Тем лучше, их не нужно будет кормить. — Но как? — В бочках, дружок, — отечески объяснял капитан Жан. — Те бочки, в трюме. Налить их хорошенько рассолом и готово. — И он с усмешкой открыл секрет своей шутки, лишая помощника всего возможного удовольствия. — Нам уплатили за проезд джентельменов, Марто. Перед отплытием из Сиднея я условился привезти обратно трех беглых каторжников, я это и сделаю — в рассоле. И теперь, если вы будете добры доставить пассажиров на борт, как я вам сказал, и перестанете проклинать счастье, я буду вам очень обязан. Я не новичек, Марто, как видите, и вы можете проглотить это. Марто едва успел притти в себя во время, чтобы припомнить еще одну мелкую подробность. — На этом плоту есть еще четвертый человек, капитан Жан. Это канака — еще живой. Что нам с ним делать? — Канака? — набросился на него капитан. — Канака! В моем контракте ни слова не говорится о каком нибудь канаке… Оставьте его там… Это только проклятый негр. Ему и там достаточно хорошо. И капитан Жан был прав, совершенно прав, потому что, пока «Маленькая Сусанна» принимала на борт свой страшный груз, с запада задул свежий ветер и, как раз в то время когда она направилась к Австралии, «проклятый негр» поднял свой собственный парус из пандановых листьев, повернул свой собственный руль из дерева ниаули и направил катамаран на восток, назад к Новой Каледонии. Чувствуя, что его горло немного пересохло после работы, он вырвал из настилки первую попавшуюся камышину, полую и остроконечную, и, вытянувшись во всю длину на своем обычном месте, на корме, он всунул камышину вниз в один из кокосовых орехов и выпил наполнявшую его воду… У него в запасе оставалась еще дюжина таких орехов, вставленных на некотором расстоянии между поплавками и выше уровня воды, совершенно достаточно, чтобы он мог благополучно вернуться домой.

 (обратно)
(обратно)
ЛИФТ

Рассказ из жизни русских эмигрантов
А. В. БОБРИЩЕВА-ПУШКИНА.
— Нюра, опомнись! — А вот, как посидишь за решеткою, так сам опомнишься! — Нюра, ведь ты губишь меня самым бессмысленным образом! — И не думаю. Едем со мною — и я буду тебе попрежнему самой верной и преданной женою. Но другой я тебя не уступлю! Не уступлю! Не уступлю! Портреты Линкольна и Вильсона слушали со стены, не понимая, этот резкий диалог, происходивший на чистейшем русском языке в третьем этаже Нью-Иоркского небоскреба, в кабинете его владельца, того самого ротмистра Варецкого, которому судьба улыбнулась так, что это вызвало зависть всей эмиграции и окрылило надеждами не одного грузчика на пристани, или чернорабочего в копях, обладавшего красивым лицом. Ведь Вадим Николаевич Варецкий был еще три месяца тому назад чернорабочим. Но неисповедимы и бесчисленны превратности эмигрантской судьбы. Катастрофа в копях, стоившая жизни сорока его товарищам, привела его в больницу, где лично ухаживала за спасенными дочь хозяина этих копей, миллиардера Виллиамса Броттера. Интеллигентный красивый офицер, превосходно владевший английским языком, воспламенил сердце американской мисс. С его-то стороны брак не был по любви, да и мудрено было-бы увлечься лошадиною физиономиею и костлявыми формами дочери стального короля. Но для изголодавшегося эмигранта это было неожиданным, громадным счастьем. Свадебную мессу служил сам монсиньор Перелли, эмиссар святейшего отца. — Броттеры были правовернейшими и набожными католиками. На бракосочетании был весь Нью-Иорк, т. е. вся та небольшая кучка, которую стальной король считал в Нью-Иорке за людей по их капиталу и влиянию. Был роскошный бал. На другой день для Варецкого началась жизнь далеко не праздная, но привольная: ему было поручено управление несколькими заводами тестя. Получивший утонченное воспитание, русский аристократ мог блистать в любом обществе, а его деловая сметка и трудоспособность быстро завоевали ему уважение его новой среды во главе с самим мистером Броттером. Тот в нем души не чаял. О жене нечего и говорить. Шла идиллия медового месяца. Этой затянувшейся свыше всех календарных сроков идиллии не видно было конца — ничто не смущало безоблачного счастья. Но облачко появилось, черное, таившее в себе не грозу, а целый смерч. Варецкий совсем позабыл про одну незначительную деталь: что у него есть русская жена. Когда он был ранен весною 1920 г. при защите Перекопа, его вынесла из боя поручик его полка, Надежда Туркина. Туркина была его боевым товарищем — их сблизили боевые подвиги; благодарность за спасение жизни довершила остальное и 15 июня 1920 г. в церкви села Никитовки, в Крыму, Варецкий обвенчался с тою, приезд которой теперь поверг его в такое смущение. Совместная жизнь их была недолга, как недолго было Крымское сидение. В Болгарии, после эвакуации, в мирной, томительно скучной и нищенской беженской жизни скоро выяснилось, что они не пара. Дочь крестьянина, Надежда Васильевна не обладала ни образованием, ни какими-либо женскими чарами, могущими удержать избалованного Варецкого — ему скоро наскучила ее простая красота; его раздражали ее большие, грубые, красные руки, те руки, что спасли ему жизнь. Варецкий попросту бросил жену. Он решил попытать счастья в далекой Америке и украдкою от жены устроился в команду отходившего из Варны парохода. Но когда он приехал, то митрополит Платон, на покровительство которого он надеялся и благодаря которому достал визу, оказался смещенным; никакой помощи не оказали Варецкому и другие прежние петербургские знакомые; он тщетно обивал их пороги, страшно нуждался, был и продавцом газет, и грузчиком, и статистом в маленьком театрике — и, наконец, обрадовался даже месту рабочего в копях Броттера, где можно было надеяться на постоянный заработок. Затем — чудесная метаморфоза его судьбы. И вдруг, как снег на голову, первая жена! Как нашла она его? Это было более чем просто: о чудесном счастье Варецкого были сообщения в эмигрантской печати. Прочитав в «Новом Времени» перепечатку из Нью-Иоркского «Утра», Надежда Васильевна живо собралась в Нью-Иорк. Хотя муж ее бросил без всяких средств, за три года, прошедших после его исчезновения, она сколотила себе небольшие деньги; открытая ею в Софии русская столовая-булочная пошла хорошо. Английский язык она знала с грехом пополам, как большинство бывших в белых войсках во время английской интервенции. Труднее всего было, конечно, с визою, но и ее удалось получить через Американский Красный Крест. Любовь превозмогает все препятствия, а Надежда Васильевна по-прежнему крепко любила своего мужа. Она ехала с целью его вернуть, а не погубить. Так, по крайней мере, ей казалось. Так она высказала растерявшемуся Варецкому, появившись перед ним без всяких предупреждений в десять часов вечера 19 августа 1924 года, когда жена его уехала в театр, а сам Варецкий вернулся с делового заседания, совсем не ожидая, какая русская дама ждет его в приемной. Разговор обострился сразу. Надежда Васильевна требовала, чтобы Варецкий также бежал с нею от своей второй жены, как когда то бежал он от нее. Пусть он уходит в одном сюртуке — они прокормятся; ей отсюда ничего не надо. Предложение денег она отвергла с негодованием, хотя Варецкий, постепенно набавляя, дошел до двух миллионов долларов. Он надеялся без труда умилостивить жену и тестя; они-бы дали что угодно, только-бы не было скандала. Но скандал ужасен. Тогда мистрисс Варецкая ведь станет опять мисс Броттер — девушкою, опозоренною русским авантюристом. Все здание только что воздвигнутого благополучия разлетится, как воздушный замок, на миг созданный облаками. Недействительность брака… тюрьма… и нужда окончательная, безъисходная. Варецкий заговорил мягко, как только мог. — Нюра, ну, я виноват перед тобою, я не выдержал нужды… я оставил тебя. Но неужели мстить мне так жестоко — христианское дело? Ведь, ты всегда была такой верующей, Нюра, так молилась. И вдруг теперь… — Да не мстить я к тебе приехала, пойми! Истосковалась я без тебя. Если-б узнала, что ты там, под землею, чернорабочим, также-бы все бросила и приехала в твою шахту, только легче-бы мне было тогда. — Но ты же мне готовишь уголовный суд! — Скроемся, переменим фамилию, уедем в Европу. — Броттер со своими миллиардами всюду достанет. — Достанет еще или нет, а уж тут ты, наверное, завтра-же будешь в тюрьме. Или ты уедешь со мною, или твоей жене все будет известно через час! Варецкий сжал побледневшие тонкие губы. На них появилась ироническая усмешка. — И вам очень нужен, Надежда Васильевна, такой муж из под палки? — Что это за жизнь будет?! — Будь, что будет. Стерпится — слюбится. А другой я тебя не уступлю! не уступлю! не уступлю! Женщина с внезапным, страстным порывом бросилась ему на шею. — Не могу я без тебя, Вадя, голубчик! Ночи ни одной спать спокойно не могу! Вернись, родной мой, ради Бога, вернись! Ведь ты-же клялся мне… ведь это грех! За что ты так измучил меня? Что я тебе сделала? Люблю… люблю, Вадя… Сил моих нет! Люблю! Варецкий высвободился резким движением. — Осторожнее, могут войти. — Жене донесут? — злобно спросила она с потемневшим лицом, — трусишь, голубчик? Не сладко будет? А каково было мне, когда ты меня бросил? И теперь ты тут в золоте купаться будешь, а я, покинутая, молчи. Не на таковскую напал. Я за себя постоять съумею. Документы-то все у меня… Быстрым движением Варецкий схватил ее за горло. Пальцы сжались, но тут-же у его виска оказался браунинг. Он с ругательством выпустил ее. Она усмехнулась.

Варецкий схватил жену за горло, но у его виска оказался браунинг.
— Что ты? Забыл меня, что-ли? Забыл, как в боях сдружились? Нет, голубчик, я знала, на что иду. Голыми руками меня не возьмешь. Ну, я вижу, с тобою разговаривать нечего. Пойду к твоей нареченной жене. Небось вернулась уже на свой девятнадцатый этаж. Видишь, я полную разведку произвела — все знаю. — Постой! Надежда Васильевна остановилась у самой двери. — Ну? — Ну… хорошо. Я согласен на твои условия. Мне больше делать нечего… Я вернусь к тебе. — Вадя! Милый! — Да, вернусь. Это — все-же лучше тюрьмы. Но сейчас уехать невозможно. Дай мне собраться, приготовить деньги… Сейчас нельзя — одиннадцать часов вечера. Я завтра возьму из банка… Теперь ироническая улыбка появилась на толстых губах Надежды Васильевны. — Подлец ты, подлец! Да завтра ты от меня десятью способами отделаешься. У вас тут наемных убийц сколько угодно. Что-ж, ты думаешь, я последний разум потеряла? Попадусь в твою западню? Никогда дурою не была — и насквозь тебя вижу. — Ну, делай что хочешь. Устал… Варецкий безнадежно опустился в кресло. Вдруг зазвонил телефон. — Это вы, дорогая моя? — опросил он по английски, с преувеличенною нежностью. — Да, да, сейчас освобожусь. Кто эта женщина? Так, просительница… одна из этих несчастных русских эмигранток. Ее участь заслуживает большого сострадания. Я вам расскажу. Да, да, я сейчас подымусь к вам. Женщина слушала с потемневшим лицом. — Будет! — вдруг крикнула она, вырывая трубку. — Довольно с меня этого издевательства! Ты мой — пойми! Хочешь не хочешь — мой, только мой! Сейчас ты уедешь со мною, а ей письмо оставишь, что она тебе не жена. Мы уедем из Нью-Иорка с ночным поездом. — Но ведь это безумно, Нюра. Будут телеграфировать, догонят… — Пусть безумие, а ты не будешь ночевать тут! Она вдруг засмеялась. — Да, да, не будешь. Это лучше всего, что ты с женщиною от нее уедешь. Этого она уж не простит. Варецкий все сидел в кресле, стиснув виски руками. Она стояла у двери в ожидании. — Ну, что-же? Решился ты? — Да, решился, — холодно ответил он. Делайте, что вам угодно. Но потом пеняйте на себя. Я предлагал вам вас обеспечить, я сделал все, что мог. Но если вы хотите борьбы, то ждите всего. Предупреждаю вас честно. Тут вся моя жизнь на карту поставлена — я стесняться не буду. — Хорошо. — Нюра, в последний раз, кончим все добром. — Нет. Я иду к ней. Прощай. Она с силою хлопнула дверью и поспешно вышла через приемную на освещенную лестницу. Немедленно за нею раскрылась дверь. Варецкий стоял и смотрел на нее. Надежда Васильевна остановилась. — Что делать? — размышляла она. — Ишь, каким Каином смотрит. Итти наверх? Шестнадцать этажей! Ну, тут внизу народ, а там, на пустой лестнице, сразу уложит одним выстрелом. Он — стрелок меткий. Документы отберет, судей подкупит. Она покачала головою. — Нет, по лестнице мне итти нельзя. Там никого не встретишь — пусто, — все тут на лифте ездят. Да! Лифт! В лифте он со мною ничего не поделает, пока я не доеду. Я там как в бесте[9]. А перед дверями квартиры супруги, пожалуй, встретимся! Надежда Васильевна вновь взглянула на дверь. Варецкого больше не было видно. Сжимая револьвер за спиною в руке, поминутно оглядываясь, она медленно сошла три этажа. Между тем Варецкий телефонировал вниз швейцару из своего кабинета. — Джо, сейчас в лифт сядет дама, бывшая у меня и прикажет поднять ее в девятнадцатый этаж, к моей жене. Это — шантажистка. Вы подымете лифт до самого верха и выключите ток. Теперь пора уже — время ночное. Затем уйдете к себе спать. Ключ от кабинки оставите мне — я сам выпущу эту даму. — Все будет исполнено, сэр, — послышался ответ в телефон. Варецкий усмехнулся. — Так все обойдется в несколько тысяч долларов швейцару за молчание. Ясно, что он подумал: — меня шантажирует дама сердца, направилась к жене, надо остановить. Вещь весьма обыкновенная, вполне в нравах добродетельного Нью-Иорка. А затем и исчезнет совсем эта дама, честный Джон не станет особенно беспокоиться. А она должна исчезнуть. Да, должна! Лифт между тем подымался с Надеждою Васильевною, все еще сжимавшею в руке свой браунинг. Она опасалась выстрела сквозь решетку на котором-нибудь этаже, но так попасть было очень мало шансов. Лифт подымался благополучно… Вот уже пятнадцатый этаж, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый… — Что такое? Лифт не остановился. Двадцатый, двадцать первый, тридцатый! Надежда Васильевна нажала кнопку сигнала. Лифт продолжал подыматься. Она стала кричать. Но вокруг никого не было. Теперь лифт подымался уже среди темноты. В последних этажах тридцатипятиэтажного небоскреба были не жилые помещения, а склады бакалеи фирмы «Томпсон и сын». Там было совсем безлюдно. Лифт миновал последний этаж и уперся в потолок небоскреба. За дверцами была глухая стена. Надежда Васильевна выпрямилась, бледная, с нахмуренными бровями. — Так. Поймал таки в мышеловку. Ну, хорошо. Я не растеряюсь. Как-то возьмешь теперь? Этот самый вопрос мучил теперь Варецкого, убедившегося, что лифт поднят согласно его приказанию. Ночь выгадана. Но на утро лифт необходимо будет спустить. Он обслуживает тысячное население огромного дома. В тридцатиэтажном доме нельзя сказать, что подъемная машина испортилась — тогда починка должна быть сделана моментально. Итак, есть только ночь, Надежда Васильевна бессильна там, в лифте. Со всех сторон ее окружает стена. Но эта стена делает и ее неприступною. Между тем к утру незванная гостья должна перестать существовать, — мало того — и исчезнуть бесследно. — Дорогой мой, скоро вы? — послышалось в телефон. — Сейчас, сердце мое, сейчас. Да, лучше всего раньше пойти к жене. Времени сколько угодно — западня прочна. А потом… В три часа ночи Варецкий мелкими, неслышными шагами направился вниз. — Пилка… напильник… плоскогубцы… полчаса времени — и все готово. Взять документы у трупа среди развалин лифта нетрудно, а причин катастрофы наша юстиция слишком доискиваться не будет. Об этом уж позаботится моя чековая книжка. И больше ничто не сможет омрачить мою дальнейшую жизнь — размышлял он, отпирая французский замок швейцарской. Ключ от комнаты с проводами щелкнул в замке. На стене спокойно дремал ряд кнопок; рубильник был в углу на мраморной доске. Рукоятка его была отклонена назад — Джо исполнил приказ своего хозяина: ток был выключен. Значит пленнице суждено сидеть в клетке там, наверху, до тех пор, пока чья-нибудь сострадательная рука не включит ток и не вернет ее с поднебесья вновь на землю. — Ну нет, этого ты не дождешься! — усмехнулся Варецкий, ставя ящик с инструментами на стол у мраморной доски и откидывая крышку. Это был длинный, продолговатый, как гроб, ящик. Варецкий стал отбирать нужные инструменты. Вдруг он вздрогнул и поспешно выключил свет. — Меня могут увидеть с улицы в окно. Пожалуй этот-же Джо подглядывает откуда-нибудь. Света от уличного фонаря совершенно достаточно. Вот и напильник. Теперь весь арсенал в комплекте. Он вышел из комнаты и тщательно запер за собою обе двери — в нее и швейцарскую, чтобы кто-нибудь не включил тока, пока дело не будет кончено, и стал подыматься по лестнице в тридцать пятый этаж своего небоскреба. Работа предстояла нелегкая, а Вадим Николаевич после своей женитьбы стал уже поотвыкать от физического труда и прежде мозолистые руки были давно выхолены искусством маникюр. Через полчаса он был на самом верху безлюдной лестницы. Над верхнею ее площадкой, поднятый к самому потолку, чернел четырех угольник лифта, зажатый в каменные стены со всех сторон. Если узница была еще там, то не могла даже ничего видеть, кроме освещенной электрическою лампочкою внутренности своей тюрьмы, не то что принять какие-бы то ни было меры к своему спасению.
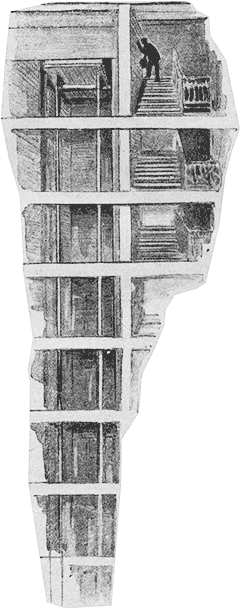
Над площадкой тридцать пятого этажа, поднятый к самому потолку, чернел лифт, зажатый в каменные стены.
Но там ли она еще? Ведь он пробыл у жены больше двух часов. Не случилось ли за это время чего-нибудь непредвиденного? Как когда-то в Крыму, на разведке, Варецкий затих, затаив дыхание. Сначала все было тихо, затем до него донесся из лифта стон… другой… наконец, он явственно расслышал: — Злодей! Предатель! Будь проклят! проклят! проклят! Услышала-ли его бывшая жена своим также изощренным в разведках ухом его присутствие, или бросала в воздух слова бессильного отчаяния? Варецкий было схватился за револьвер, но тут-же опустил руку. — Кричи, голубушка. Ты-же совершенно бессильна. Даже вот что… Эй, Надежда Васильевна! Из лифта глухо донесся не то стон, не то вопрос. Слов Варецкий не разобрал и крикнул как можно громче: — Надежда Васильевна, это — я. В этот последний момент я все еще хочу обойтись без крови. Бросьте мне в пролет из лифта ваши документы — и я спущу лифт. — Нет. — послышался совсем другой, твердый голос. — Берегитесь! Я не злой человек, но мне надо отстоять свою жизнь. Я даю вам на размышление десять минут. Если документы не будут выброшены — вы погибли. Подумайте! — Вадим Николаевич вынул свои золотые часы. В лифте теперь все было безмолвно. Двадцать минут вместо десяти ждал Варецкий, затем резко захлопнул крышку часов. — Ну, пора кончать. Иначе рассветет скоро. Я сделал для нее все, что мог. Прощайте, Надежда Васильевна! — Молчит… не удостаивает ответом… клеймит презрением… Хорошо, посмотрим, что ты теперь запоешь. Бледная струя света карманного электрического фонарика осветила пыльные своды мансарды. По крыше резко шуршал ветер, как будто стремясь сорвать ее скрипучее железо. Варецкий подошел к пыльному ящику, одиноко покоившемуся среди чердачной пустыни. Под этим ящиком помещался мотор, приводивший в движение пассажирский лифт. Невдалеке от него помещался такой-же ящик для грузового. Варецкий смахнул пыль с боков ящика и нащупал два крючка, прикреплявшие его крышку к полу. Легкий скрип. Крючки откинуты и поднятая крышка обнаружила смазанный мотор, резким черным пятном выделяющийся на сером пыльном фоне чердака. Варецкий нагнулся и, при свете фонарика, нашел среди множества зубчатых колес валик, по которому проходил проволочный канат, подымающий лифт. По бокам валика были два отверстия, в которые входил и выходил канат. С одной стороны висел груз, с другой — лифт с Надеждой Васильевной. Попрежнему кругом не было ни души и только по крыше шелестел ветер. Таким образом работе ничто не могло помешать. Варецкий поставил фонарь на пол и вынул инструменты. Послышался скрип перепиливаемого железа… Надежда Васильевна услышала этот скрип. После судорожных попыток спустить лифт, или как-нибудь выбраться оттуда, она давно поняла безвыходность своего положения — и лишь не знала одного: что он предпримет? как доберется до нее? Вдруг прорезавший тишину скрип разрушил эту последнюю надежду. Вся кабинка слегка дрожала. Звук слышался над самой головой. Надежда Васильевна обвела вокруг себя растерянным взглядом, как затравленный зверь. Она не плакала, но была очень бледна. Затем она перекрестилась и направила браунинг в потолок. Убить подпиливающего сквозь крышку лифта было последнею, очень слабою надеждою на спасение. Курок щелкнул, но выстрела не последовало. Капризная пружина браунинга не подала патрона. И вдруг браунинг выскочил из руки пленницы и полетел куда-то в сторону. Толчек. Острая боль в голове — и лифт, сорвавшись с потолка, рухнул в бездну тридцати пяти этажей. Варецкий привел свой план в исполнение. Когда последние проволоки перепиленного каната не выдержали тяжести лифта и лопнули, издавая пронзительный жалкий свист, он замер, ожидая треска разбившейся машины. Бесконечно долгая секунда, другая, третья — и ничего. Внизу все было тихо. Варецкий провел похолодевшей рукой по влажному лбу. — Что это значит? Канат перерезан — она должна упасть. Ток выключен — значит, автоматические зацепы не действуют и ничто не может остановить крушения. Или с этой высоты так ничего не слышно? Но оглушительный треск выстрелов, донесшийся до него, рассеял эту иллюзию. Они трещали на весь дом, отдаваясь многогласным эхо по всем переходам громадной лестницы. — Она жива! — простонал Варецкий: зацепы спасли ее! Но кто-же включил ток, кто мог его включить, когда вот ключи у меня в кармане? Ну да, пусть тебя теперь спасет сам дьявол! Он, побежав к мотору, осветил его тусклым светом фонаря. Три провода одними концами были присоединены к клемам мотора, а другие три сходились вместе и уходили сквозь пол чердака во вделанную туда фарфоровую трубочку. Варецкий быстро отвинтил одну из клем и бросил провод в сторону. Внизу, как бы в ответ на это, раздался еще выстрел. — Не тот провод! Зацепы держат! Она жива! Скорее, скорее! Своей стрельбою она созовет весь дом. Не помня себя, он бросился к мотору и взялся щипцами за следующую клему.

Варецкий взялся щипцами за клему…
Острая дрожь пробежала по его телу. Голова закинулась назад, руки дрогнули и беспомощно опустились. Варецкий, медленно содрагаясь и гримасничая, тихо упал на пыльный пол чердака. Луч фонарика освещал оскал улыбки, исказившей его лицо, и остекляневшие, широко раскрытые глаза. Руки были растопырены. Изредка еще по всему телу пробегала легкая дрожь. В правой руке он судорожно сжимал щипцы, а левая нога лежала на конце отвинченного им провода: он и не заметил, как наступил на него и, прикоснувшись рукою к положительной клеме, пропустил через себя ток. Когда, после долгих усилий полиции и жильцам удалось проникнуть в лифт, висевший между тридцать третьим и тридцать вторым этажами, то, среди изрешетенных пулями его стенок, они нашли женщину в глубоком обмороке. Среди черных волос ее белою полосою пробегали седые пряди. Но кто-же включил ток? Кто мог это сделать, когда две двери были заперты Варецким? Никто никогда не мог этого понять, и набожная Надежда Васильевна даже объясняла свое спасение небесным вмешательством. Ответить на этот неразрешимый вопрос могла-бы лишь крышка ящика с инструментами, которую Варецкий откинул на рукоятку рубильника. Так он сам спас свою жертву. Но ведь крышка не могла говорить.
 (обратно)
(обратно)
НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!

К задаче № 28, (см. стр. 57–58).
 (обратно)
(обратно)
ЖИЛИ-БЫЛИ 3 МАТРОСА

Рассказ АЛАНА ЛЕМЭЙ.
Их было трое… Они сидели в лачуге, покинутой каким-то колонистом, возле Марангао, на бразильском побережье. Их было трое — скрывшихся от людей, исчезнувших изо всех портов мира, где в этот момент их усиленно разыскивали, — и каждый из них ничего не знал друг о друге. Чтобы удобнее было разговаривать, они называли Друг друга «Биль», «Джим» и «Сам». Но это были вымышленные имена, которые они сами придумали. Ни один из них не знал настоящего имени двух остальных, не знал откуда они, из каких портов. И, соблюдая осторожность, какая в обычае под тропиками, остерегался спрашивать. В этот день им повезло с совершенно невероятной находкой: на песчаную отмель, где они с некоторого времени, не имея на то полномочий от бразильских властей, занимались проверкой товаров, море выкинуло в это утро боченок с ромом. Находки — это такая вещь, что им следует неустанно воздавать хвалы. Они и воздавали хвалы — с самого утра, сидя вокруг хромоногой бочки, служившей им столом, и черпая большими чашками прямо из чудесного сосуда, который случай бросил им в руки. Биль был толстый, широкоплечий, с лицом открытым и вместе с тем скотоподобным, чем-то напоминавшим какого-то китайского идола. Джим был верзила с ястребиным носом и толстыми губами, полупират, полудикарь, сухопарый, с крепкими мускулами, весь усеянный шрамами. Сам, меланхоличный и сгорбленный, отличался носом необычайной длины, расширявшимся на конце и весьма смахивавшим на бутылку; у него был вид человека, который привык ожидать всегда самого худшего, и не без должных к тому оснований. Вдали, на голубых волнах Атлантики, сверкавших как расплавленная эмаль, подымались над водою белые паруса четырехмачтового судна. Двое матросов, смотря через лишенный двери просвет лачуги, следили за кораблем. — Говорят, что это «Мэбль Джонс», — произнес Биль, указывая на судно своим толстым пальцем. А ты как думаешь, Сам? Сам, сидевший спиной к морю, не спеша повернулся на своем ящике из под мыла и с глубоким вниманием принялся рассматривать судно. Затем, приняв прежнее положение, он медленно, взвешивая каждое слово, произнес: — Я скажу, что это она, и скажу, что не она. — Говорят, что это она, сказал Джим, проводя рукой по шершавому подбородку, — но возможно, что это и не совсем она. Неизвестно. Наступило молчание и все трое сделали еще по изрядному глотку. — А вот, если говорить насчет тайн моря… — произнес самый толстый… — Тайны моря теперь нас не касаются, — пробурчал Сам. — Если говорить насчет тайн моря, — повторил с несколько большим подчеркиванием Биль, — то с тех пор, как я начал работать у руля, я никогда и нигде не слыхал даже мало-мальски похожего на то, что видел собственными глазами на борту «Мэбль Джонс». Двое других переглянулись и многозначительно подмигнули друг другу. — Ну уж, извините! — запротестовал Биль, выпрямляясь и смотря в упор в обе пары насмешливых глаз. — это сущая правда! — Ну, ясное дело! — сказал Джим. Валяй уж. Выкладывай свою историю… И Биль, не скрывая удовольствия, какое ему дало это разрешение, начал так. — Ну, — сказал он, — началось это таким образом: еще гавань Ла-Гуэйры не успела скрыться из наших глаз, как обнаружилось, что недостает одного человека из экипажа. Нашли его сундучек, белье, сумку, но сам матрос — скрылся! Исчез!.. Как это случилось? Тайна. Помнится мне, его звали… нет, забыл, как его звали… Путь наш лежал на Рио. В первую же ночь, в открытом море, произошла странная вещь. У корабельного повара есть свинья. То есть, лучше сказать, — у него была свинья. Свинья эта была привязана за ногу к кольцу на палубе. Только что пробило вторые полчаса ночной склянки, как вдруг послышался визг. Я, как только услыхал визг, сказал: «Ага, это визг свиньи». И действительно, когда команда пришла на палубу, поварова свинья исчезла. Доказательство, что я был прав. — Поразительно! — оскалился Джим. Биль вызывающе посмотрел на приятеля и продолжал: — Что-же произошло? Искали как есть везде: наверху, внизу, в кухне, в трюме, между палубами, на носу, перевернули всю кладь вверх дном; свиньи — столько же, как на моей ладони. — Съел ее кто-нибудь! — заметил Сам. — Это сырую-то съел? — презрительно отпарировал Биль. Как раз в этот самый момент Джима охватило такое желание захохотать, что он чуть не задохнулся. Он едва мог отдышаться. Сам в это время задумчиво качал головой. — Наконец, продолжал Биль, — настала следующая ночь. Черно, как внутри кармана. Кончика носа перед лицом не видать. Я только что стал на свою вахту у руля, как вдруг — вижу перед собой что-то уму непостижимое. Спрашиваю себя: не сплюли я? Стою на ногах, как окаменелый, ну, прямо таки, застыл весь от страха, как навождение какое… — Что же это ты увидел? — спросил Джим. — Глаза, отвечал Биль. — Два глаза. Зеленые. Так вот и уставились на меня в темноте. Кровь застыла в жилах. Я не шевелюсь. И они тоже, стоят там и не шевелятся…

— Застыл весь от страха… Вижу — глаза… зеленые… Так вот и уставились на меня в темноте…
— Кто это — стоят и не шевелятся? Глаза? — сказал Джим, — снова подмаргивая. — Глаза, — отвечал Биль. — Я не двигаюсь с места, и они не двигаются с места, я гляжу на них, а они на меня глядят. У меня по спине мурашки от страха и от холода. Я считаю, что стояли мы так часа полтора, а то и больше. Ну, и в конце концов, что же я сделал? Я пошел на все: хватаю планку и — швырк! Запускаю ее прямо в оба глаза, изо всех-то сил! И в самый этот момент, как я поднял руку, глаза вдруг потухли, точно якорный буек, в котором вышло все масло, даже еще быстрее. Понятно: я промахнулся, не попал в них планкой. И тут вот и вышла ошибка… — Как это, ошибка? — Ну да, планка-то угодила в акурат в голову капитану. Капитан выходил из каюты. Я и посейчас слышу проклятье, какое он изрыгнул. Так начал чертыхаться, как я никогда за всю мою жизнь не слыхивал, а уж я ли не слыхал, как чертыхаются. И вот он приближается к штурвальной, все еще вроде как оглушенный, ноги слегка шатаются, и тут я начинаю соображать, что, пожалуй, на моем месте лучше всего бы перемахнуть через перила да и ухнуть за борт. Но я никуда не перемахнул, я не шевелюсь. Я жду. — Кто это кидается? — сказал он. Ну уж, ежели я вижу, что это он ко мне обращается, я говорю ему, что я ничего не знаю. Ну и тут я ему рассказываю о двух зеленых глазах, которые я видел рядом друг с другом, в темноте. Он опять давай ругаться, еще чище, и, наконец, сажает меня в карцер, на хлеб и на воду, на двое суток. — Так тебе и надо! — с некоторой важностью произнес Сам. Биль возмущенно окрысился: — Почему это ты говоришь? — Не знаю, — равнодушно и чистосердечно отвечал Сам. — Ну, ладно, — продолжал Биль, — и вот, значит, сижу я в карцере, в грязной черной дыре под палубой, и размышляю о грехах наших. До этого дня я бы готов был не знаю чем поклясться, что видал таки, и много раз, крыс на кораблях; но на сей раз, сидя в этой дыре, я убедился, что никогда в жизни не видал крыс. То, что я видел до этого, это все были самое большее мышата, ребятенки мышиные. На вторую ночь, как я сидел в тюрьме, крыс еще прибавилось. И не подумайте, что они появились, как вы, может быть, воображаете, поодиночке, друг за дружкой, как капли пота, когда потеешь, нет! Их было вокруг меня, пожалуй, штук шестьдесят, вроде как присяжные на суде вокруг стола, да, штук шестьдесят, и несколько штук у меня на коленях. И вдруг — фьют-т! — все исчезли. Как ветром сдунуло. И ни одна не вернулась, что бы взглянуть, что же со мной-то сталось. Сначала мне показалось это сверхестественным. Потом я начинаю размышлять. Не выходит у меня из головы: — почему же это они так моментально провалились. И чем больше я думаю, тем больше говорю себе: нет, кто-нибудь да вошел тихонько сюда. И кажется мне, что моментами я слышу, будто какой-то человек прохаживается вдоль стенок, тихо, стараясь не делать шуму. Но в общем я не был уверен в этом, возможно, что это просто мне почудилось. Думал я, думал, да и заснул. Когда я проснулся, кто-то лежал на моей груди… — Кто это говорит? — сказал Джим, внезапно заинтересовавшись. — Кто это говорит? Я. Я говорю, что кто-то сидел у меня на груди. — Чепуха! — произнес Сам. — Ну, нет, сударь мой, не «чепуха»: сидел на моей груди, и никаких чертей! Я размышляю. Я говорю себе: открывать мне глаза или нет? Слушаю изо всей мочи, как только могу. И ничего не слышу, ничего, кроме дыхания кто лежит на мне. Вы понимаете мое состояние? Наконец, больше я не могу терпеть. Я приоткрываю один глаз, чуть-чуть, самую малость, и гляжу. Черно, как в печке. И я не различаю ничего, кроме двух глаз, опять тех самых двух глаз, которые я уже видел, когда стоял на вахте. Они светились в темноте, как два зеленых маяка, и смотрели на меня совсем близко, прямо в лицо, как будто издеваясь над моим испугом. — Ну, и что же дальше? — спросил Джим. — Дальше? — А дальше, — сказал Биль, — я заревел, как корова. Да, сударь мой, заревел. Держу пари, что корабли за 40 миль должны были услыхать меня и воображать, что это их зовут в рупор. Как только я завопил, он соскользнул с моей груди. Глаза потухли, как искры в воде. И заметьте хорошенько вот что: чтобы слезть с меня, этот тип не встал, не спрыгнул, не скатился вниз с моего тела. Нет. Он просто исчез. И зарубите себе на носу, что ведь это — после истории с исчезнувшей свиньей, пропавшим матросом, зелеными глазами на юте. Я вспомнил все это и продолжал орать, сколько только у меня хватало мочи. Вся команда кубарем скатилась в мой карцер. Но, понятное дело, при первом же крике он исчез. Ясно, что они никого не нашли, кроме меня, и только лаялись в темноте, что не мешало бы мне разможжить башку. Повели они меня к шкиперу и я рассказал ему всю историю с самого начала. Но вы знаете, что это за господа, эти командиры купеческих судов, — ведь беда какие умницы! Разве они верят чему-нибудь? — Да, — сказал Сам. — Тем более, что во всем этом ни слова нет правды! Биль, не удостоив ответом, продолжал: — Шкипер приказал второму помощнику занести в журнал, что я сошел с ума, что я стал полным идиотом, но что натощак я не бываю опасен… — Что-ж, я бы сказал: — шикарный был шкипер, — произнес Джим. Биль еще раз сделал вид, что не слышит. — Сидеть в карцере имеет кое-какие выгоды, — сказал он, — небольшие, но все таки кое-что… Вообразите себе, что в тот самый момент, когда меня выводили из карцера, раздался свисток, призывавший всю команду на мостик, для расследования. — Кто это сделал? — заорал шкипер. — Говорите! И сию же минуту! Правду, чорт вас побери, или никому не поздоровится!.. Я думал, что он хочет разузнать, кто сидел на мне, когда я спал, но я тотчас же сообразил, что он тумашится совсем из-за другой штуки. Вся команда была тут, стояла, разинув рты. Начинало светать, еще не совсем рассвело, но можно было видеть, как люди глядели друг на дружку, ничего не понимая, что тут такое происходит. Наконец, один сказал: — Да что сделал-то? Капитан повернулся и крикнул в лестницу: — Господин Макферсон! Будьте добры подняться! Это было имя одного из помощников. Он выходит. Когда я его увидал, у меня чуть глаза на лоб не вылезли. Он стоял на вытяжку, с самым важным видом, как будто и не знал, что у него брюки были об одной штанине, а другая была на-чисто вырвана. — Сделал вот это!.. — сказал капитан, показывая пальцем на то место, где полагалось быть другой штанине. Понемножку раскусили, наконец, все дело: выяснилось, что помощник прогуливался по палубе и вдруг наступил на чье-то лежащее тело. Спустя момент, штанина из его брюк была вырвана; виновник исчез. Его искали везде, и ни черта не нашли. Ну, люди стоят, пялят глаза то на шкипера, то на брюки об одной штанине, а потом переглядываются между собой. И было ясно, что все знают об этом не больше, чем сам помощник. И тут один долговязый ирландец, Пэдди Мак Клоски, как прыснет вдруг со-смеху. Капитан посадил его в карцер, потому что ведь всетаки кого-нибудь да надо же было наказать. И капитан сказал, что необходимо, чтобы все эти истории прекратились Прошел день. В команде только и разговору, что о происшествии. Судили, рядили, и то предполагали, и это, а в общем никто ничего не знал. Мы в этот день решили вымыть имущество пропавшего матроса и разделить между собой. Выстирали одежду и все его пожитки, а на ночь повесили все на бак сушиться. И вот около второго полчаса ночной склянки прохожу я случайно по палубе, и вижу такую штуку, какую уж наверняка никогда больше не увижу ни на море, ни на суше. Пятясь задом, мимо перил, совершенно одна, над самым полом палубы, шла рубашка пропавшего матроса. Что же я делаю? Я уж стараюсь ничего не говорить. Я ведь помню, как меня опорочили в корабельном-то журнале. Рубашка идет на меня: тихонько, мелкими-мелкими шажками, лицом к ветру, а я пячусь боком и гляжу на эту чертовщину. Как вдруг в углу рубки появляется Макферсон, помощник, тот самый, у которого вырвали штанину из брюк. И он замечает, что рубашка идет. Вижу, что бледный он стал, как новенький парус. И вот он идет на рубашку, — крадется осторожно, наклонившись…

…Совершенно одна, над самым полом палубы, идет на меня рубашка пропавшего матроса, идет мелкими шажками…
Макферсон подходит совсем близко к ней. Он бросается на нее. Но, в самый тот момент, как он на нее навалился, рубашка сплющилась, будто вовсе и не живая, а самая обыкновенная рубашка, и, когда он взял ее в руки, она выпала на пол и в ней ничего не было. Помощник оправился (упал-то он в желоб); вид у него напуганный; оставил он рубашку да и пошел назад. Два-три матроса, как и я, видели эту штуку. Взяли весь багаж покойного матроса и вытрясли все вещи в чан. Так что, если бы он был там, как я это думаю, так он нашел бы свою рубашку! — Ну, и идиоты были в вашем экипаже! — сказал Джим, тот, который был похож на пирата, между тем как Сам печально тряс своим похожим на бутылку носом. — Около половины ночной склянки, — продолжал Биль, — мой сосед по койке встает и говорит мне: Чарли!.. Едва выговорив это слово, Биль переменился в лице. Он внимательно посмотрел на собеседников. Но его смущение длилось недолго. Он выпил глоток рома, как бы ища в своей деревянной чашке желательного успокоения. И, учитывая ту осторожность, какая в обычае под тропиками, двое остальных воздержались спросить его, почему в ту эпоху своей жизни он назывался Чарли вместо Биля. Успокоившись, Биль продолжал: — Чарли, — говорит мой товарищ, — обращаясь к парню, который спал на соседней койке, — кто-то сейчас ходил по палубе, на носу. Я уверен, что слышал шаги. Я боюсь… — Бери пример с меня, говорю я. Я не боюсь ни бога, ни…. Джим снова подмигнул глазом Саму, а Биль продолжал: — Между тем никто не обратил внимания на эти таинственные шаги, которые слышал товарищ. Правда, от всех этих событий команда с некоторых пор чувствовала себя не в своей тарелке. Вечером начались рассказы о разных историях: насчет того, что видели судно, плывшее по воле ветра, совсем брошенное, и никого не было на борту, или о другом, которое погибло с экипажем и грузом на совсем тихом море, и о всяких других вещах в этом роде. Потом настала ночь и на следующий день мы должны были пристать в Байе. И то, что произошло в эту ночь, было достойным венцом всех событий. Плыли мы невероятно медленно: у парусов всегда был такой вид, будто они берут ветер, но судно почти не двигалось. Было около второго полчаса ночной склянки. А может быть и третьего, хорошенько не знаю. Ночь — черным черна. Небо — мрачное, в тучах. Луны — никаких признаков. Море спокойное. И вдруг — ужасный звук наверху разбудил всю команду, звук, какого никто до этого дня не слыхал на земле. Все повскакали с коек… Биль сделал еще паузу. Его лицо казалось бледнее обычного, как будто даже воспоминание об этом ночном крике еще причиняло ему страх. — Какого же сорта звук? — спросил Джим, спустя минуту. — Как вам сказать? Это не был вой, это не был крик о помощи, и не был стон. Это было что-то вроде жалобного, раздирающего крика, но не такого, какой бы испустило горло мужчины или хотя бы женщины, нет. Крик, каким не кричат на земле, крик ужасный, сверхчеловеческий. Крик раздался два раза, пронзительный, протяжный, и такой сильный, что у коек подпорки задрожали. И ко второму крику прибавился голос стонущего человека. Почти в тот же миг паруса упали, судно повернулось и начало плясать, как будто вдруг потеряло буссоль. Мы думали,что пришел конец «Мэбль Джонс». Команда бросилась наверх, а из каюты вышли два помощника с фонарями, которые стукались и качались. Побежали назад, к месту, откуда слышали крик… И там, около покинутого колеса, которое вертелось по воле моря, мы увидели тело Санди Смита. Его вахта у руля была в это время. Он был без чувств, бледный и зеленый; того и гляди, что помрет. У всех, кто стоял рядом с ним, поджилки тряслись от страха, и в темноте позади чудились уставившиеся глаза. Немыслимо было удержаться, чтобы каждую минуту не обернуться поглядеть, нет-ли там позади кого-то невидимого. Взяли два ведра воды и вылили их на Санди. Он еще был жив и начал биться и метаться. Но он был так напуган, что не мог объяснить помощнику, что с ним произошло. Мы поняли, что он больше напуган, чем болен, но он дрожал и кричал иногда так сильно, что не было возможности рассеять эту новую тайну. В конце концов узнали, что Санди Смит был на своем посту, у руля, стараясь держать «Мэбль Джонс» на верном направлении и не думая ни о чем особенном, как вдруг, сделав шаг назад, он наступил ногой на что-то мягкое, на что-то, как он объяснял, вроде человеческой руки. И не успел он отскочить вперед, как этот вот самый ужасный крик и раздался — позади него, почти что у него под ногами. В тот же самый момент кто-то вцепился в него, по-видимому, желая его повалить. Дальше уж он ничего не помнил. Его подняли на ноги, и что же, вы думаете, увидали?… Тут Биль опять выдержал паузу, с очевидным намерением усилить эффект, затем продолжал: — …Зад его штанов был вырван!.. Так же, как штанина у помощниковых брюк! После этих слов Биль взял свою чашку, хлебнул большой глоток, и, наполнив рот ромом, принялся наблюдать своих товарищей. — Ну, и чем же это кончилось? — сказал Джим. — Дорогие друзья, я не знаю. На следующий день, в то время, как я сошел на землю в Байе, одна вещь помешала мне вернуться на борт «Мэбль Джонс». Вы можете мне поверить, если я вам скажу, что я был страшно этим огорчен. Ничто в целом мире не могло бы меня удержать от возвращения на корабль, чтобы посмотреть, что там произойдет. Но случилась одна вещь и… никак невозможно было уехать… Осторожность, которая в обычае под тропиками, удержала собеседников от расспросов Биля о том, что это за исключительная вещь помешала ему вернуться на судно. И Биль мог закончить свою историю: — Тайна «Мэбль Джонс», — сказал он, — самая необычайная, на мой взгляд, из всех морских историй, какие я когда-либо слыхал на суше или на море. Я считаю ее чем-то вроде чуда.
_____
Наступило длительное молчание. И, наконец, слово взял Сам: — Возможно, — сказал он, еще более меланхоличный и более мрачный, чем всегда, — возможно, что и бывают чудеса на море. Но, что касается до этой истории, тут ничего такого нет. Я знаю разгадку этой тайны. В тот момент, на котором обрывается твоя история, я как раз сел на «Мэбль Джонс» — в Байе!.. Лицо Биля стало желтым и злым: — Пожалуйста, — сказал он, — не рассказывай мне, что ты сел на корабль вместо меня, потому что это был Симон Девер, матрос… а не то, что мы… Он был уже на борту раньше, чем судно вышло в море, он и еще один рыжий, которого наняли вместо матроса, пропавшего в Ла-Гуэйре… — А я тебе говорю, что я был в шлюпке при выходе из порта, — настаивал бутылочный нос. — Я окликнул судно, и мне бросили лестницу. Мне пришлось покинуть Байю по причине некоторых чисто личных обстоятельств… С тем поистине замечательным тактом, какой вообще наблюдается под тропиками, от дальнейших расспросов воздержались. И, уже не прерываемый никем, Сам продолжал: — Через два дня после того, как мы отплыли от Байи, нашли на деке молодого тигренка-оцелота, вроде ягуара, только поменьше. Он жил в шлюпках, под брезентом. Это он слопал свинью и показывал свои зеленые глаза в темноте, он лежал на тебе, он ночью ходил по палубе мягкими шагами, он таскал на себе рубашку и рвал брюки. И крик, который вас так напугал, издавал тоже он, и я сам слыхал этот крик, когда нечаянно зацепил его концом багра… Возмущенный тем, что его таинственная история так просто объяснилась, Биль все больше и больше начинал злиться. — Ну, ладно, все это очень хорошо, — сказал он, — но как ты объяснишь пропавшего матроса? Как он исчез? И как тигренок, совершенно один, мог появиться на борту судна? — А это уж я не знаю, — добавил Сам. Тогда наступил черед Джима. Он вытянул свои крючковатые руки. Его худощавое лицо исказилось отвратительной гримасой: — Пропавший матрос? — сказал он. — Это был я!.. — Ты? — Да. При выходе из гавани Ла-Гуэйры я махнул через борт, оставив на судне свой багаж. А оцелот, которого вы нашли, — мой собственный. Впрочем, он был ручной, и мы с ним были большие приятели. Когда я садился на корабль, я его спрятал в шлюпку. Но, после того, как подняли якорь, я вспомнил, что теперь, когда я был зачислен в экипаж, некоторые чисто личные причины принуждают меня вернуться на сушу. И еще раз та замечательная тактичность, какая в обычае под тропиками, помешала собеседникам спросить у Джима, почему это он покинул «Мэбль Джонс», едва вступив на нее. Как раз в этот момент в листьях карликовых пальм, из которых состояла крыша лачуги, завозилась крыса. Биль заметил зверька и долго, не двигаясь и с грустным видом, смотрел на него. — Я бы тебя спросил, — сказал он крысе, — теперь уже успокоившейся, — я бы тебя спросил: стоит ли рассказывать хорошие истории таким вот животным…
 (обратно)
(обратно)
НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ!

К задаче № 28, (см. стр. 57–58 и 99-100).
Вы взглянули на рисунок на стр. 99-100 Постарались запомнить возможно большее количество деталей изображенного на нем несчастного случая (столкновение трамвая с автомобилем)? Теперь, уже не смотря больше на рисунок, ответьте себе письменно по возможности на все следующие вопросы, затратив на это пять минут: 1) Где произошло несчастие? 2) Каково было состояние погоды? 3) Какого района и какой № автомобиля? 4) С какого бока автомобиль поврежден? 5) В котором часу было столкновение? 6) Назовите три причины, из-за которых автомобиль мог быть поврежден? 7) Какой номер трамвая? 8) Какой маршрут трамвая? 9) Кому принадлежит автомобиль? 10) Указывает ли какое нибудь обстоятельство на то, что шофер потерял управление над автомобилем? 11) Какова продолжительность происшествия? 12) Назовите два признака, указывающие на то, что шофер вернее убит, чем ранен. 13) Кто из прохожих мог быть свидетелем происшествия? 14) Как милиционер установил личность шофера? Когда, по истечении пяти минут, все, или часть ответов будут заполнены, взгляните снова на рисунок и проверьте их правильность. Вы убедитесь, что вряд ли вам удастся правильно ответить на десяток вопросов. Отношение числа верных ответов к общему числу вопросов (14) будет служить мерилом вашей наблюдательности. Американский журнал, откуда мы заимствуем этот рисунок, заменив иностранные надписи, дает также другой способ для определения быстроты вашего соображения. С часами в руках заметьте во сколько секунд можете вы определить соответствующий класс приводимых ниже названий: (например: дуб = дерево).дуб
котлетка
копейка
футбол
ячмень
ялик
словарь
револьвер
июль
лимон
картофель
казань
окунь
азия
волга
пудель
касторка
альпы
убийца
роза
Общее время разделите на 20, тогда вы получите некоторую меру быстроты своего соображения. В. Н._____
- (обратно)Ответы на вопросы №№ 16–27.
№ 16. Почему сахар имеет приятный вкус?
Потому, что это один из наиболее полезных для организма продуктов. Уже в доисторические времена, люди, несомненно, должны были убедиться, что вещество, производящее такого рода впечатления на их вкус, очень для них полезно. Удовольствие, которое в течение веков люди испытывают при добывании приятной и полезной пищи, приводит к сознанию того, что мы называем приятным вкусом.№ 17. Почему кислый вкус обыкновенно считается неприятным!
Это, быть может, также один из доисторических навыков. По предположению ученых, доисторические предки человека много миллионов лет тому назад питались главным образом плодами. Незрелые, вредные для здоровья плоды содержат много кислоты. В течение веков кислый вкус вызывал у людей представление о чем то таком, чего не следует есть.№ 18. Чем вызывается эхо?
Если распространяющиеся в воздухе звуковые волны встречают на своем пути какой-нибудь твердый предмет, имеющий гладкую поверхность, например, стену строения или утеса, они отражаются от этой поверхности совершенно так же, как отражаются световые лучи от зеркала.№ 19. Почему при выстреле из ружья слышен громкий звук?
При сгорании пороха образуется большое количество газов, стремящихся занять гораздо больший объем, чем объем заряда пороха. Это и выталкивает пулю из ружья. В момент вылета пули газы, заключающиеся в пространстве позади ее, быстро вырываются наружу, вызывая резкое сотрясение воздуха, дающее звуковую волну. Это и есть звук выстрела.№ 20. Чем вызывается напоминающий прибой морских волн шум в раковине, когда ее прикладывают отверстием к уху?
Тем, что гладко отполированная внутренняя поверхность раковины дает массу слабых отзвуков, напоминающих эхо. При прикладывании отверстия раковины к уху мы слышим отзвуки различных шумов, проникающих в нее с улицы или из комнаты. Отзвуки эти, многократно отражаясь от стенок раковины и сливаясь в один общий слабый гул, напоминают шум отдаленного морского прибоя.№ 21. Почему волосы растут гуще на голове, чем на иных частях тела?
По мнению ученых, животные — предки человека были так же волосаты, как обезьяны. Человек постепенно утрачивал свой волосяной покров, вероятно в результате ношения платья, при котором тело не нуждается в значительной мере в защите этим покровом. Волосы на голове даже и теперь полезны человеку более, чем в какой-либо иной части тела. Одежда была изобретена ранее, чем шляпа.№ 22. Почему борода растет только у мужчин!
Весьма вероятно, что это также является результатом эволюции. Мужчины в доисторические времена занимались главным образом охотою и более, чем женщины, подвергались переменам погоды. Таким образом, самцы удержали более значительную часть первобытного волосяного покрова на лице, так как он им был полезен. Но это предположение может быть допущено только как догадка.№ 23. Почему на вершинах гор холоднее, чем внизу, несмотря на то, что они ближе к Солнцу?
Атмосферный воздух защищает Землю от охлаждения, подобно тому, как стены оранжереи не дают выйти наружу заключающемуся в них теплому воздуху. На вершинах гор воздух гораздо разреженнее, вследствие чего он не может защищать от потери тепла в такой же мере, как это происходит в нижних слоях атмосферы.№ 24. Почему в пустынях бывают очень холодные ночи?
Потому, что тепло скорее излучается через сухой воздух пустыни, чем через более влажный воздух других местностей.№ 25. Какое животное впервые появилось на суше?
Один вид скорпиона, довольно близкий к современным. В Силурийском периоде, 400 или 500 миллионов лет тому назад, в водах океана было огромное количество видов морских скорпионов; один из этих видов постепенно стал вести наземный образ жизни.№ 26. Какое животное было впервые приручено человеком?
По всей вероятности, собака, хотя не исключено предположение, что в некоторых частях земного шара еще до собак или одновременно с ними были отчасти приручены овцы и свиньи.№ 27. Существовали ли на Земле бактерии до появления человека?
Да. За сотни миллионов лет до человека бактерии уже существовали на земном шаре. В некоторых из древнейших горных пород штата Монтаны найдены ископаемые следы бактерий, существовавших около 800 миллионов лет тому назад. (обратно) (обратно)
ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ.
 Откровения науки и чудеса техники.
Откровения науки и чудеса техники.
 Электричество из солнечного света
Электричество из солнечного света

Наверно читатель, темною ночью возвращаясь домой по неосвещенным улицам города, не раз думал о том, как было-бы хорошо, если-бы люди додумались сохранить на ночь хотя бы маленькую частицу тех лучей, которые солнце в таком изобилии шлет нам в горячие полуденные часы!
Если верить американскому журналу «Popular Science» (Июль, 1926) эта смелая мечта — собирания и использования в запас солнечного света, по-видимому, близка к своему осуществлению. Одному американскому ученому, д-ру Виллиаму Кобленц, заведующему радиометрическим бюро Американской Стандартной Палаты, — после нескольких лет упорных поисков удалось найти замечательное вещество, способное каким-то непонятным для нас образом непосредственно превращать свет в электрический ток.
Вещество это встречается в одном минерале — молибдените, где оно изредка вкраплено в виде мелких зернышек, величиной в булавочную головку.
Если такой кусок молибденита положить между двумя маленькими проводами в закрытую коробку и пропустить внутрь ее тонкий луч солнечного света, — то гальванометр, присоединенный к концам проводников, немедленно отметит появление слабого электрического тока…
 На нашем рисунке (внизу) изображен сам Кобленц во время работы в своей лаборатории, а наверху — проект солнечной электрической машины, которая быть может завтра станет реальностью. Эта машина будет тогда иметь вид широкого диска, покрытого многочисленными ячейками с молибденитом, от которых электрические провода будут идти для зарядки электрических аккумуляторов, энергией которых можно будет пользоваться в темное время суток.
Для того, чтобы солнечные лучи все время падали отвесно на диск, последний может поворачиваться подобно телескопу, следуя движению солнца, при помощи сильного часового механизма.
Если действительно удастся построить этот замечательный фото-электро-генератор и если при этом стоимость его не окажется черезчур высока, — то можно будет сказать, что мы стоим на пороге настоящего технического переворота в области добывания электрической энергии.
(обратно)
На нашем рисунке (внизу) изображен сам Кобленц во время работы в своей лаборатории, а наверху — проект солнечной электрической машины, которая быть может завтра станет реальностью. Эта машина будет тогда иметь вид широкого диска, покрытого многочисленными ячейками с молибденитом, от которых электрические провода будут идти для зарядки электрических аккумуляторов, энергией которых можно будет пользоваться в темное время суток.
Для того, чтобы солнечные лучи все время падали отвесно на диск, последний может поворачиваться подобно телескопу, следуя движению солнца, при помощи сильного часового механизма.
Если действительно удастся построить этот замечательный фото-электро-генератор и если при этом стоимость его не окажется черезчур высока, — то можно будет сказать, что мы стоим на пороге настоящего технического переворота в области добывания электрической энергии.
(обратно)
 Борьба с морской качкой
Борьба с морской качкой

Для борьбы с качкой корабля предлагалось в свое время ставить внутри судна массивный вращающийся жироскоп (волчок), обладающий свойством удерживать корпус судна в одном положении. Ряд опытов показал, что такое приспособление, при достаточно крупных размеров жироскопе, может в значительной мере уменьшить колебания судна.
Другое интересное устройство для уменьшения качки было недавно испробовано на одном английском судне.
По бокам парохода, ниже ватерлинии были сделаны отверстия и устроены два ряда воздушных камер, сообщающихся между собой воздушным каналом с закрывающимися кранами.
Во время волнения с одного борта вода с силой входит в эти воздушные камеры, сжимая находящийся там воздух, который тогда давит на воду в камерах, расположенных вдоль другого борта, и тем самым создает силу, противодействующую силе качки. Степень давления воздуха соразмеряется с силой волнения и может быть регулирована при помощи особого затвора.
 Слева мы даем общий вид парохода, снабженного такими воздушно-водяными камерами. Наверху слева — диаграмма колебаний судна. Справа — в разрезе видно простое в сущности устройство воздушных камер и кранов.
(обратно)
Слева мы даем общий вид парохода, снабженного такими воздушно-водяными камерами. Наверху слева — диаграмма колебаний судна. Справа — в разрезе видно простое в сущности устройство воздушных камер и кранов.
(обратно)
 Авто-вело-машина
Авто-вело-машина

Пожирать пространство — сделалось, по-истине, болезнью нашего времени. Быстрее, еще быстрее!
Интересной попыткой сочетать в одно целое быстроту автомобиля и легкость, и дешевизну велосипеда можно считать авто-вело-машину, недавно построенную Кюрри, берлинским студентом-любителем, и изображенную на нашем снимке. Это — легкая, из дюраллюминия, низкая тележка на 4 велосипедных колесах, вращаемых двумя седоками при помощи ручного и ножного привода, как на железнодорожной дрезине.
 Несмотря на простоту своей конструкции, эта машина, приводимая в движение мускульной силой двух человек, могла на хорошей дороге развить скорость около 50 верст в час.
(обратно)
Несмотря на простоту своей конструкции, эта машина, приводимая в движение мускульной силой двух человек, могла на хорошей дороге развить скорость около 50 верст в час.
(обратно)
 Гигантский морской гидроплан
Гигантский морской гидроплан
Водятся на болотах и по рекам особые, похожие на комаров, клопы «Водомерки» с длинными ножками, которыми они чрезвычайно быстро могут скользить по поверхности воды, не умея, однако, при этом летать.
Гидропланы-глиссеры напоминают «Водомерок».
Развивая скорость до 250 клм они требуют меньших моторов, чем обыкновенные аэропланы, но они не взлетают.
В американских технических журналах появилось описание гигантского скользящего гидроплана, предназначенного для океанских рейсов между Америкой и Европой. Гидроплан этот будет представлять собою длинный веретенообразный корпус с помещениями для нескольких десятков пассажиров, команды, служебными отделениями, радио, кладовыми для багажа и припасов, уборными и ванными.
 В верхней части корпуса будут прикреплены 2 небольших крыла с помещенными внутри их 6 моторами. Самая интересная часть этого гидро-глиссера — нижние металлические плоскости, расположенные ввиде лестницы, одна над другой. При достаточно быстром беге, благодаря встречному давлению воды, плоскости эти постепенно выходят наружу и гидроплан скользит по воде, едва касаясь ее своими самыми маленькими подводными плоскостями
На случай неожиданной аварии всех моторов, над корпусом можно установить две небольших мачты и тогда гидроплан превращается в простую парусную яхту.
В верхней части корпуса будут прикреплены 2 небольших крыла с помещенными внутри их 6 моторами. Самая интересная часть этого гидро-глиссера — нижние металлические плоскости, расположенные ввиде лестницы, одна над другой. При достаточно быстром беге, благодаря встречному давлению воды, плоскости эти постепенно выходят наружу и гидроплан скользит по воде, едва касаясь ее своими самыми маленькими подводными плоскостями
На случай неожиданной аварии всех моторов, над корпусом можно установить две небольших мачты и тогда гидроплан превращается в простую парусную яхту.
 (обратно)
(обратно)
 Рыцарское вооружение в XX веке.
Рыцарское вооружение в XX веке.
 При взгляде на этот снимок читатель, наверно, скажет, что на нем изображен какой то средневековый рыцарь в своих тяжелых, стальных доспехах. Иллюзию портит современная фигура слева с револьвером в руке.
Еще более читатель разочаруется, если узнает, что «рыцарь» на снимке очень далек от какой бы то ни было рыцарской романтики, как мы ее себе представляем.
Это — новая «проз-одежда» американских городовых, введенная недавно в употребление с целью охраны защитников «порядка» от шальной пули преступников, а также от посягательств тех, кто не мирится с этим порядком.
(обратно)
При взгляде на этот снимок читатель, наверно, скажет, что на нем изображен какой то средневековый рыцарь в своих тяжелых, стальных доспехах. Иллюзию портит современная фигура слева с револьвером в руке.
Еще более читатель разочаруется, если узнает, что «рыцарь» на снимке очень далек от какой бы то ни было рыцарской романтики, как мы ее себе представляем.
Это — новая «проз-одежда» американских городовых, введенная недавно в употребление с целью охраны защитников «порядка» от шальной пули преступников, а также от посягательств тех, кто не мирится с этим порядком.
(обратно)
 «Паровой дом» нашего времени
«Паровой дом» нашего времени

Кто в детстве не читал увлекательного романа Жюля Верна «Паровой дом», где описывается путешествие по Индии на затейливом и по тому времени фантастическом сооружении, — паровом автомобиле в виде слона…
Пожалуй именно этим произведением своего соотечественника увлекался и Шарль Лувель, французский автомобильный конструктор, построивший дом на колесах.
 Длина этого передвижного жилища около 10 метров, а внутри его имеется, кроме моторной кабинки, еще несколько комнаток с кухней, уборной и ванной.
(обратно)
Длина этого передвижного жилища около 10 метров, а внутри его имеется, кроме моторной кабинки, еще несколько комнаток с кухней, уборной и ванной.
(обратно)
 Вкусовые симфонии
Вкусовые симфонии

О некоторых интересных попытках построить музыкальный инструмент, где сочетались бы в одно целое музыка и свет, мы уже писали в предыдущих №№ журнала.
Еще более любопытная мысль создания «вкусового пианино» — недавно будто-бы осуществлена одним молодым французским изобретателем. Заимствуем рисунок из июльского номера журнала «Science and Jnvention»[10].
 Игра на этом инструменте происходит как на обыкновенном пианино, с той разницей, что, кроме звуков, слушатель ощущает при этом ряд вкусовых впечатлений, для чего он должен взять в рот гибкую трубку, по которой и получает различные комбинации жидких эссенций. Такую же трубочку должен держать в зубах и артист, играющий на этом диковинном инструменте.
Чего доброго, мы скоро услышим об «апельсиновой симфонии» и о «ванильногрушевых аккордах», а слушатель (правильнее говорить — «вкушатель») будет рисковать уйти с неудачного «вкусо-концерта», «набив оскомину».
Теперь дело, повидимому, за изобретением «пианино запахов», которое будет в состоянии разыгрывать для нас «ароматические сонаты»… Нынешние старики в детстве своем читали фантастический роман Курда Ласвица, где на первом плане «ароматопиано» с его дивными симфониями ароматов. Что же, литература давно сказала свое слово. Очередь за техникой!
(обратно)
Игра на этом инструменте происходит как на обыкновенном пианино, с той разницей, что, кроме звуков, слушатель ощущает при этом ряд вкусовых впечатлений, для чего он должен взять в рот гибкую трубку, по которой и получает различные комбинации жидких эссенций. Такую же трубочку должен держать в зубах и артист, играющий на этом диковинном инструменте.
Чего доброго, мы скоро услышим об «апельсиновой симфонии» и о «ванильногрушевых аккордах», а слушатель (правильнее говорить — «вкушатель») будет рисковать уйти с неудачного «вкусо-концерта», «набив оскомину».
Теперь дело, повидимому, за изобретением «пианино запахов», которое будет в состоянии разыгрывать для нас «ароматические сонаты»… Нынешние старики в детстве своем читали фантастический роман Курда Ласвица, где на первом плане «ароматопиано» с его дивными симфониями ароматов. Что же, литература давно сказала свое слово. Очередь за техникой!
(обратно)
 Новый электрический фонограф
Новый электрический фонограф

Возрождение произошло с граммофоном, форма которого, данная Берлинером, почти неизменно сохранилась на протяжении четверти века. Несовершенство в передаче звука (шипение, шумы) искупалось лишь дешевизной этого музыкального аппарата, а простота устройства и обращения обеспечили ему самое широкое мировое распространение, способствуя необыкновенной демократизации музыки. В соединении с некоторыми радиоприборами фонограф или граммофон оказался способным к безукоризненному записыванию и воспроизведению тончайших оттенков звука, могущему удовлетворить даже самого строгого любителя музыки.
Для записывания звука сейчас применяется следующая схема: звуковые волны заставляют дрожать маленькое, в 1/100 дюйма зеркальце, на которое направляют пучек света, отражаемого зеркалом на фото-электрический элемент, меняющий свое направление в зависимости от силы и частоты освещения. Через этот элемент пропускают электрический ток, заставляющий при помощи особого электро-магнита дрожать стальную иглу, колебание которой запечатлевается на вращающейся пластинке. С этой пластинки делают копии, поступающие в продажу. Воспроизведение звука происходит в обратном порядке: по пластинке скользит легкая игла, дрожание которой меняет силу пропускаемого через нее тока, а последний, как в обычных радиоустановках, проходит через ламповый усилитель и заставляет звучать громкоговоритель.
 (обратно)
(обратно)
(обратно)
(обратно)
Как сделать ящичный змей.
Наипростейший метод устройства новейшего типа ящичного змея нижеследующий. Вытесывают 4 сосновых бруска из сухого прямослойного дерева толщиной 1 см в квадрате, длиной 105 см (АА) и 4 бруска толщиной 0,65 см × 1,25 см, длиной 65 см (ВВ). К четырем 105 см брускам прикрепляют гвоздями 2 полотняных обруча величиной, точно по указанному размеру на чертеже. Необходимо, чтобы все четыре стороны обруча были одинаковы, для чего предварительно лучше разметить на полотне карандашом положение брусков.
Концы полотняных обручей должны быть загнуты не менее 1,25 см и дважды прострочены для крепости, края же тщательно подрублены так, чтобы ширина полос получилась ровно 30 см. Наилучший материал для обручей — тонкая, но плотная бумажная ткань.
Диагональные 65 см подборы (ВВ) должны быть отрезаны несколько длиннее, чтобы они пружинили по установке на место, отчего полотно будет держаться туго и прямо натянуто. Бруски должны быть связаны вместе по двое; скрещения и концы с выемкой должны быть обвязаны дратвой (С), чтобы предотвратить расщепление их; маленькие предохранители D, прибитые гвоздями или приклеенные к продольным брускам, предотвращают соскакивание подпор с своих мест. Конечно, концы подпор могут быть прикреплены к продольным брускам намертво, но если сделать, как выше указано, змей может быть разобран и свернут для удобства переноски и также быстро собран.
Узел уздечки E показан в деталях на H и G. H — очень крепкий узел, который может быть легко ослаблен и перемещен на разные места уздечки, определяя этим длину сторон уздечки F и G. Затяжной узел должен быть закреплен как показано на G.
Если змей летает на легком ветру, то закрепляют узел E так, чтобы G уздечки укоротилось, а F удлинилось; при сильном ветре наоборот. При очень сильном ветре лучше совсем не употреблять уздечки, а прикреплять поводовую веревку прямо к бруску у K.
Вытесывают 4 сосновых бруска из сухого прямослойного дерева толщиной 1 см в квадрате, длиной 105 см (АА) и 4 бруска толщиной 0,65 см × 1,25 см, длиной 65 см (ВВ). К четырем 105 см брускам прикрепляют гвоздями 2 полотняных обруча величиной, точно по указанному размеру на чертеже. Необходимо, чтобы все четыре стороны обруча были одинаковы, для чего предварительно лучше разметить на полотне карандашом положение брусков.
Концы полотняных обручей должны быть загнуты не менее 1,25 см и дважды прострочены для крепости, края же тщательно подрублены так, чтобы ширина полос получилась ровно 30 см. Наилучший материал для обручей — тонкая, но плотная бумажная ткань.
Диагональные 65 см подборы (ВВ) должны быть отрезаны несколько длиннее, чтобы они пружинили по установке на место, отчего полотно будет держаться туго и прямо натянуто. Бруски должны быть связаны вместе по двое; скрещения и концы с выемкой должны быть обвязаны дратвой (С), чтобы предотвратить расщепление их; маленькие предохранители D, прибитые гвоздями или приклеенные к продольным брускам, предотвращают соскакивание подпор с своих мест. Конечно, концы подпор могут быть прикреплены к продольным брускам намертво, но если сделать, как выше указано, змей может быть разобран и свернут для удобства переноски и также быстро собран.
Узел уздечки E показан в деталях на H и G. H — очень крепкий узел, который может быть легко ослаблен и перемещен на разные места уздечки, определяя этим длину сторон уздечки F и G. Затяжной узел должен быть закреплен как показано на G.
Если змей летает на легком ветру, то закрепляют узел E так, чтобы G уздечки укоротилось, а F удлинилось; при сильном ветре наоборот. При очень сильном ветре лучше совсем не употреблять уздечки, а прикреплять поводовую веревку прямо к бруску у K.

 (обратно)
(обратно)
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Авторам. — Рукописи, присылаемые в Редакцию, должны быть написаны четко и снабжены полной подписью и адресом автора. Переводчиков просим прилагать оригиналы. Рукописи без обозначения условий оплачиваются по усмотрению Редакции. Переписка по поводу рукописей для Редакции не обязательна. На обратную пересылку рукописей необходимо прилагать марки. Л. Г. (Москва). — «Через Северный Полюс на белых медведях» — неудачная пародия на кино, а «Ради долларов» идеологически не приемлемо по сюжету: деньги и женщины, как цель жизни. «Степанову» (Москва). — «Страх» не годится. Рано Вам еще по возрасту брать такие трудные психологические темы. И не ищите Вы необычайного в сравнениях и описаниях. «Свет, как любопытная собаченка (?), метался, заглядывая в темные углы». — «Из сумрака выступала куча грязного белья и стоявший на ней (?!) примус». Ну, на что это похоже! И. М. (Киев). — Автору рассказа «Дружба» приходится повторить то же, что много раз говорилось другим, не пишите о странах, о которых знаете только по наслышке. З. В. (Киев) — Для Вашего возраста написано хорошо, но, конечно, «Рассказ судового врача» не художественное произведение. A. Я. (Одесса). — «В чем мое несчастье»? В том, что Вы пишите рассказы и считаете их юмористическими. B. В. С. (Новороссийск). — Уж очень… неаппетитно Вы рассказали историю Вашей физиологически мало вероятной ночной болезни желудка. Н. В. В. (Красноярск). — Ну, и сложные же у Вас бывают приключения в «Степной глуши»… А все таки что-то есть у Вас. Попробуйте прислать еще! Е. А. И. (Смоленск). — Хотя Вы и назвали «Красного следопыта» фантастическим рассказом, но уже это не фантазия, а нелепость — полеты над территорией СССР английского шпиона-офицера, в мундире, да и все остальное. В. Г. К. (Абдулино). — Мало-ли какая чепуха снится человеку! Но зачем эту чепуху излагать в виде рассказа? «Элексир прозрачности» ни куда не годится. Н. К. Д. (Нахичевань). — Очень мило передан своими словами иностранный рассказ, но такие упражнения для печати не следует делать. Подписчику № 128 и др. — Подписчикам, недополучившим книжек «Мира Приключений» в 1925 г. и внесшим полную годовую плату за 1926 г., соответственно будет продлена подписка на 1927 год. Излишние деньги находятся на счету подписчиков и в их распоряжении.
_____
Настоящим № 6-м заканчивается высылка журнала «Мир Приключений» тем подписчикам, ноторые подписались на 1926 г., на полгода, с 1 Января по 1 июля и уплатили 3 рубля, а также и тем, которые подписались на 1925 год и уплатили 6 руб., но получили за 1925 г. только шесть нумеров (с № 1-го по № 6-й).

«МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ» ЗА ПРЕЖНИЕ ГОДЫ, ДО 1924 Г., РАСПРОДАН
ИМЕЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ СБОРНИКИ:
№ 1-й за 1924 год. Содержание: ПЫЛАЮЩИЕ БЕЗДНЫ. ВОЙНА ЗЕМЛИ С МАРСОМ В 2423 ГОДУ, фантастический роман Н. Муханова, с рис. худ. Мизернюка. — 25-ТИ ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ШЕРЛОКА ХОЛМСА, юмористический рассказ В. С., с рис. худ. Владимирова. — ТЕНЬ НАД ПАРИЖЕМ, С. А. Тимошенко, с рис. И. С. — ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ О ЗЕМЛЯНИКЕ, БЕТХОВЕНЕ И БОА-КОНСТРИКТОРЕ, рассказ И. Долина, с рис. художника С. Конского. — КОНКУРС МИСТЕРА ГОПКИНСА, рассказ Л. Арабескова. № 2-й за 1924 год. Содержание: ПЫЛАЮЩИЕ БЕЗДНЫ. ПЛЕННИКИ МАРСА, фантастич. роман Н. Муханова, с рис. худ. Мизернюка. — БУДДЫ МА-СЕЙН, рассказ Френсис Ноульс-Фостер, с рис. С. Пишо. — БЕГСТВО АНРИ РОШФОРА, историч. рассказ М. К. Губера, с рис. Мишо. — СЛУЧАЙ В КИНЕМАТОГРАФЕ, рассказ А. П. Горш, с рис. М. Я. Мизернюка. — РУКА МУМИИ, рассказ Петра Аландского, с рис. М. М. № 3-й за 1924 год. Содержание: ПЫЛАЮЩИЕ БЕЗДНЫ. ТОТ, В ЧЬИХ РУКАХ СУДЬБЫ МИРОВ, фантастич. роман Н. Муханова, с рис. Мизернюка. — ЕЖОВАЯ ЛАПКА МАРАБУТА, рассказ П. Хитченса, с иллюстр. П. Василенко. — ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ, рассказ Роберта Леммона, с рис. А. Михайлова. — СУНДУК С ПРУЖИНОЙ, американский рассказ Марка Троекурова, иллюстр. Н. Кочергина. № 1-й за 1925 г. Содержание: ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА, рассказ Д. Коллинза. — БИТТ-БОЙ, ПРИНОСЯЩИЙ СЧАСТЬЕ, рассказ А. С. Грина. — РАМЗЕС XVII, рассказ Отто Рунг. Со шведск. Иллюстр. Мишо. — ОПЫТ, рассказ В. Богословского. — СКВОЗЬ ОГНЕННЫЙ БАРЬЕР, рассказ Джорджа Глендона. — ОСТРОВ СИРЕН, рассказ М. Каргановой, — ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСГЕРА ФИПКИНСА, рассказ Коутс Брисбен. Иллюстр. М. Я. Мизернюка. — ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ, восточная сказка В. Розеншильд-Паулина. — ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ, рассказ Вас. Левашева. — ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧЕСТЬ, рассказ Ф. Б. Бейли. — ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ. № 2-й за 1925 год. Содержание: ТАК ПОГИБЛА КУЛЬТУРА, фантастич. рассказ П. А. Рымкевича. — НА МАЯКЕ, рассказ Б. Г. Островского. — ТАИНСТВЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДОКТОРА ХЭКЕНСОУ: — I. ТАЙНА ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ, рассказ К. Фезандие. — СЫН МИСТЕРА САМУЭЛЯ БРАУНА, рассказ Джекобса. Иллюстр. Мишо. — ЧЕЛОВЕК НА МЕТЕОРЕ, повесть Рэй Кеммингса. С рис. — НЕМНОЖКО ЗДРАВОГО СМЫСЛА, рассказ Э. П. Бетлера. Иллюстр. М. Я. Мизернюка. — БЕЗГРАНИЧНОЕ ВИДЕНИЕ, рассказ Чарльза Уин. — КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ, психологическая юмореска на злобу дня Г. Лазаревского. — НОВООБРАЩЕННЫЙ, юмористический рассказ В. Джекобса. — ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ. № 3-й за 1925 г. Содержание: КРОВАВЫЙ КОРАЛЛ ПРОФ. ОЛЬДЕНА, рассказ П. Аландского. — НА ФРАНЦУЗСКОЙ КАТОРГЕ В ГВИАНЕ, рассказ Луи Мерлиэ: I. — ПРОКАЖЕННЫЙ, II. — КОЛОКОЛЬНЫЙ СИГНАЛ ДЛЯ АКУЛ. — ТАИНСТВЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДОКТОРА ХЭКЕНСОУ. II. МАШИНА СНОВИДЕНИЙ, рассказ К. Фезандие. — КОЛЕСО, фантастич. рассказ А. Ульянского. С иллюстр. — ЗАДАЧА № 1, ЛАБИРИНТ, сост. П. В. Мелентьев. — ПОРТРЕТ, рассказ Н. Ивановича. — НАД БЕЗДНОЙ, рассказ В. Г. Левашева. — ПИАНИНО, рассказ Б. Вильямс. — ЕГО ТАЙНА, рассказ Сигурда, с шведского. — ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ. ИССКУСТВЕННЫЕ КЛЕТКИ, статья акад. проф. В. Л. Омелянекого. № 4-й за 1925 г. Содержание: ГОЛУБЫЕ ЛУЧИ, рассказ Н. Квинтова, иллюстр. А. Порет. — НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ! задачи №№ 3 и 4. — ПРИЛИВ, рассказ Ф. Пирса. — 4, 4, 4, рассказ Н. Москвина и В. Фефера. — НОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА, с иллюстр. — ТАИНСТВЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДОКТОРА ХЭКЕНСОУ. III. ТАЙНА РОСТА, рассказ К. Фезандие. — В ДОМЕ КРИВОГО ФЕРМЕРА, рассказ А. Гербертсон. Иллюстр. М. Михайлова. — ПАТЮРЕН И КОЛЛИНЭ (Эксплоататор солнца), рассказ Б. Никонова. — ПРАВДА, ИЛИ НЕПРАВДА, восточная сказка В. Розеншильд-Паулина. — НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ! задача № 5. — ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ. Откровения науки и чудеса техники: МИР ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ И МИР ВИДИМЫЙ, статья проф. Н. А. Морозова (Шлиссельбуржца). № 5-й за 1925 г. Содержание: ЧОРТОВА ДОЛИНА, рассказ В. Д. Никольского. — НЕ ПОДУМАВ, НЕ ОТВЕЧАЙ! Задача № 6. — НА ДАЛЕКИХ ОКРАИНАХ, рассказы Н. А. Ловцова: — ЗА СОБОЛЕМ. — ЧЕТЫРЕ ГОЛОВЫ. — ТАИНСТВЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДОКТОРА ХЭКЕНСОУ. IV. ТАЙНА СИРЕНЫ. — МАЯК, рассказ М. Комарова. С рис. — ВЛАСТЬ ПРИВЫЧКИ, рассказ Джекобса. — ШУТКА, новелла Гуго Крицковского. — ДРАГОЦЕННОСТИ, очерк О. С. — СЕАНС ЧТЕНИЯ МЫСЛЕЙ. — ВОРОВСКОЙ ОБХОД, рассказ Гаральда Стивенса. — ПОЯС, рассказ Рихарда Кноффа, с шведского. — ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ. Откровения науки и чудеса техники: О РАДИИ И ОБ ЕГО РУДАХ, статья проф. М. В. Новорусского (Шлиссельбуржца).
Последние комментарии
3 часов 44 минут назад
5 часов 31 минут назад
6 часов 45 минут назад
7 часов 50 минут назад
8 часов 59 минут назад
20 часов 57 минут назад