Пионеры — герои [Коллектив авторов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
ПИОНЕРЫ — ГЕРОИ Сборник
БОРЯ ЦАРИКОВ Лиханов Альберт Анатольевич

Метель кружила в городе, метель. Палило с неба солнце, и небо было спокойным и ясным, а над землёй, над зелёной травой, над синей водой, над искристыми ручьями кружила весёлая тополиная метель. И сквозь всё это бежал Борька и гнал колесо, железный ржавый обруч. Колесо журчало… И всё вокруг кружилось: и небо, и тополя, и тополиный снег, и обруч. И было так вокруг хорошо, и всё смеялось, и были лёгкими Борькины ноги… Только всё это было тогда… Не теперь… А теперь. Борька бежит по улице, а ноги у него будто свинцом налиты, и дышать нечем — глотает горячий горький воздух и бежит, будто слепой, — наугад. А на улице — метель, как тогда. И солнце жарит, как раньше. Только в небе — дымы столбами, и заливает уши тяжкими громами, и замирает на миг всё. Даже метель, даже пушистые белые хлопья враз повисают в небе. Что-то дзенькает в воздухе, словно лопается стекло. «Где это обруч-то, — будто сквозь сон думает Борька… — Обруч-то где?..» И всё вокруг расплывается враз, мутнеет, отдаляется как бы. И уж совсем нечем дышать Борьке. — Обруч-то… — шепчет он, а перед лицом его — солдат в гимнастёрке, красной у плеча, простоволосый, с чёрным лицом. Это ему и ещё другим солдатам, что обороняли город, приносил Борька воду, хлеб. И все говорили ему спасибо. И Борька даже подружился с солдатами. А теперь… — Уходите?.. — спрашивает Борька. — Борька, — говорит солдат, — орька Цариков, — и опускает голову, словно в чём виноват перед Борькой. — Прости, Борька, но мы ещё вернёмся!..
 Немцы появились в городе неожиданно.
Сначала, осторожно ворочая пушками из стороны в сторону, будто принюхиваясь, прошли танки, потом прикатили огромные грузовики, и город сразу стал чужим… Немцы были всюду: толкались полуголые у колонок, шастали по домам и выходили оттуда, будто спекулянты рыночные, с узлами всякого барахла, и вслед им тоскливо смотрели белёсыми глазами бабки и крестились на восток.
К Цариковым немцы не зашли. Да и что с того. Мама уехала с братом в Саратов. А он, Борька, уходит с отцом в лес, в партизаны. Только отец раньше. Сначала он, Борька, должен зайти к деду. Так договорились с отцом. Борька пошёл к двери и вышел на улицу.
Он перебегал от дома к дому, прячась за углами, чтобы его не увидели немцы. Но они занимались своими делами, и никто не смотрел на Борьку. Тогда он пошёл прямо по улице, сунув для независимости руки в карманы. А сердце билось тревожно. Он шёл через весь Гомель, и его не останавливал никто.
Он вышел на окраину. Вместо домов торчали печные трубы, как кресты на могилах. За трубами, в поле, начинались траншеи. Борька пошёл к ним, и снова никто не окликнул его.
Чадили головешки на многих пожарах, колыхалась трава, уцелевшая кое-где.
Озираясь по сторонам, Борька прыгнул в траншею. И разом всё в нём застыло, будто остановилось даже сердце. На дне траншеи, неудобно раскинув руки, лежал среди пустых гильз тот солдат с чёрным лицом.
Солдат лежал спокойно, и лицо у него было спокойным.
Рядом, аккуратно прислонённая к стенке, стояла винтовка, и казалось, что солдат спит. Вот полежит немного и встанет, возьмёт свою винтовку и снова станет стрелять.
Борька смотрел на солдата, смотрел пристально, запоминая его, потом повернулся наконец, чтобы идти дальше, и рядом увидел ещё одного убитого. И дальше, и дальше вдоль траншеи лежали люди, недавно, совсем ещё недавно живые.
Вздрагивая всем телом, не разбирая дороги, Борька пошёл обратно.
Всё плыло перед глазами, он глядел лишь себе под ноги, голова гудела, звенело-в ушах, и он не сразу услышал, что кто-то кричит. Тогда он поднял голову и увидел перед собой немца.
Немец улыбался ему. Он был в мундире с закатанными рукавами, и на одной руке у него — от запястья до самого локтя — часы. Часы…
Немец сказал что-то, и Борька не понял ничего. А немец всё лопотал и лопотал. А Борька, не отрываясь, смотрел на его руку, на его волосатую руку, увешанную часами.
Наконец немец повернулся, пропуская Борьку, и Борька, озираясь на него, пошёл дальше, а немец всё смеялся, а потом поднял автомат — и за Борькой, всего в нескольких шагах брызнули пыльные фонтанчики.
Борька побежал, немец захохотал вслед, и тут только, одновременно с автоматными выстрелами, Борька понял, что эти часы немец снял с наших. С убитых.
Странное дело — дрожь перестала бить его, и, хотя он бежал, а немец улюлюкал ему вслед, Борька понял, что он больше не боится.
Будто что-то перевернулось в нём. Он не помнил, как очутился опять в городе, около школы. Вот она — школа, но уже это не школа — немецкая казарма. В Борькином классе, на подоконнике, солдатские подштанники сушатся. Рядом немец сидит, блаженствует — пилотку на нос надвинул, в губную гармошку дует.
Прикрыл глаза Борька. Почудился ему шум многоголосый, смех переливчатый. Знакомый смех. Не Надюшки ли со второй парты?
Почудился звон ему редкий, медный. Будто Ивановна, уборщица, на крылечке стоит, на урок зовёт.
Открыл глаза — снова немец пиликает, немцы по школе расхаживают, будто всю жизнь они в Борькиных классах живут. А ведь где-то вон там, на кирпичной стенке, ножичком имя его процарапано:
«Борька!».
Вот только надпись и осталась от школы.
Поглядел Борька на школу, поглядел, как ходят в ней гады эти проклятые, и сердце сжалось тревожно…
Улицы, как малые речки, вливались одна в другую, становясь всё шире. Борька бежал вместе с ними и вдруг споткнулся будто… Впереди, посреди развалин, стояли оборванные женщины, дети — много-много.
Вокруг хороводом сидели овчарки с прижатыми ушами. Между ними с автоматами наперевес, с загнутыми рукавами, как на жаркой работе, прохаживались солдаты, пожёвывая сигареты.
А женщины, беззащитные женщины, толпились беспорядочно, и оттуда, из толпы, слышались стоны. Потом вдруг что-то затарахтело, из-за развалин выехали грузовики, много грузовиков, и овчарки поднялись, оскалив клыки: зашевелились и немцы, подгоняя женщин и детей прикладами.
Среди этой толпы Борька увидел Надюшку со второй парты, и Надюшкину маму, и уборщицу из школы, Ивановну.
«Что делать? Как им помочь?»
Борька наклонился к мостовой, схватил тяжёлый булыжник и, не отдавая себе отчёта, что он делает, бросился вперёд.
Он не видел, как обернулась в его сторону овчарка и солдат щёлкнул у неё замком на ошейнике.
Собака пошла, не побежала, а пошла на Борьку, уверенная в лёгкой победе, и немец отвернулся тоже без всякого интереса к тому, что произойдёт там, у него за спиной. А Борька бежал и не видел ничего.
Но собаку увидели мама Надюшки и Ивановна. Они закричали:
«Собака! Соба-ка!»
Они закричали так, что на площади даже стало тихо, и Борька повернулся, увидел овчарку. Он побежал. Побежала и собака, раззадоривая себя.
Борька помчался быстрее её, завернул за угол, и в тот момент, когда завернула за ним и овчарка, хозяин её, обернувшись, засмеялся.
Женщины закричали снова. И крик их будто подхлестнул Борьку.
Сжавшись, как пружина, он распрямился и взлетел на груду кирпича и мусора. Сразу обернувшись, он увидел овчарку.
И крик женщин, и собачья морда с оскаленными зубами будто наполнили Борьку страшной силой. Глянув ещё раз отчаянно и глаза собаки, собравшейся прыгнуть, Борька схватил ржавый лом и, коротко размахнувшись, выставил лом навстречу собаке. Овчарка прыгнула. глухо ударилась о кирпичи и замолкла.
Борька спрыгнул вниз и, оборачиваясь на мёртвую овчарку, на первого убитого им врага, побежал снова к окраине, за которой начинался редкий кустарник. Его пересекала дорога в деревню, где жил дед…
Немцы появились в городе неожиданно.
Сначала, осторожно ворочая пушками из стороны в сторону, будто принюхиваясь, прошли танки, потом прикатили огромные грузовики, и город сразу стал чужим… Немцы были всюду: толкались полуголые у колонок, шастали по домам и выходили оттуда, будто спекулянты рыночные, с узлами всякого барахла, и вслед им тоскливо смотрели белёсыми глазами бабки и крестились на восток.
К Цариковым немцы не зашли. Да и что с того. Мама уехала с братом в Саратов. А он, Борька, уходит с отцом в лес, в партизаны. Только отец раньше. Сначала он, Борька, должен зайти к деду. Так договорились с отцом. Борька пошёл к двери и вышел на улицу.
Он перебегал от дома к дому, прячась за углами, чтобы его не увидели немцы. Но они занимались своими делами, и никто не смотрел на Борьку. Тогда он пошёл прямо по улице, сунув для независимости руки в карманы. А сердце билось тревожно. Он шёл через весь Гомель, и его не останавливал никто.
Он вышел на окраину. Вместо домов торчали печные трубы, как кресты на могилах. За трубами, в поле, начинались траншеи. Борька пошёл к ним, и снова никто не окликнул его.
Чадили головешки на многих пожарах, колыхалась трава, уцелевшая кое-где.
Озираясь по сторонам, Борька прыгнул в траншею. И разом всё в нём застыло, будто остановилось даже сердце. На дне траншеи, неудобно раскинув руки, лежал среди пустых гильз тот солдат с чёрным лицом.
Солдат лежал спокойно, и лицо у него было спокойным.
Рядом, аккуратно прислонённая к стенке, стояла винтовка, и казалось, что солдат спит. Вот полежит немного и встанет, возьмёт свою винтовку и снова станет стрелять.
Борька смотрел на солдата, смотрел пристально, запоминая его, потом повернулся наконец, чтобы идти дальше, и рядом увидел ещё одного убитого. И дальше, и дальше вдоль траншеи лежали люди, недавно, совсем ещё недавно живые.
Вздрагивая всем телом, не разбирая дороги, Борька пошёл обратно.
Всё плыло перед глазами, он глядел лишь себе под ноги, голова гудела, звенело-в ушах, и он не сразу услышал, что кто-то кричит. Тогда он поднял голову и увидел перед собой немца.
Немец улыбался ему. Он был в мундире с закатанными рукавами, и на одной руке у него — от запястья до самого локтя — часы. Часы…
Немец сказал что-то, и Борька не понял ничего. А немец всё лопотал и лопотал. А Борька, не отрываясь, смотрел на его руку, на его волосатую руку, увешанную часами.
Наконец немец повернулся, пропуская Борьку, и Борька, озираясь на него, пошёл дальше, а немец всё смеялся, а потом поднял автомат — и за Борькой, всего в нескольких шагах брызнули пыльные фонтанчики.
Борька побежал, немец захохотал вслед, и тут только, одновременно с автоматными выстрелами, Борька понял, что эти часы немец снял с наших. С убитых.
Странное дело — дрожь перестала бить его, и, хотя он бежал, а немец улюлюкал ему вслед, Борька понял, что он больше не боится.
Будто что-то перевернулось в нём. Он не помнил, как очутился опять в городе, около школы. Вот она — школа, но уже это не школа — немецкая казарма. В Борькином классе, на подоконнике, солдатские подштанники сушатся. Рядом немец сидит, блаженствует — пилотку на нос надвинул, в губную гармошку дует.
Прикрыл глаза Борька. Почудился ему шум многоголосый, смех переливчатый. Знакомый смех. Не Надюшки ли со второй парты?
Почудился звон ему редкий, медный. Будто Ивановна, уборщица, на крылечке стоит, на урок зовёт.
Открыл глаза — снова немец пиликает, немцы по школе расхаживают, будто всю жизнь они в Борькиных классах живут. А ведь где-то вон там, на кирпичной стенке, ножичком имя его процарапано:
«Борька!».
Вот только надпись и осталась от школы.
Поглядел Борька на школу, поглядел, как ходят в ней гады эти проклятые, и сердце сжалось тревожно…
Улицы, как малые речки, вливались одна в другую, становясь всё шире. Борька бежал вместе с ними и вдруг споткнулся будто… Впереди, посреди развалин, стояли оборванные женщины, дети — много-много.
Вокруг хороводом сидели овчарки с прижатыми ушами. Между ними с автоматами наперевес, с загнутыми рукавами, как на жаркой работе, прохаживались солдаты, пожёвывая сигареты.
А женщины, беззащитные женщины, толпились беспорядочно, и оттуда, из толпы, слышались стоны. Потом вдруг что-то затарахтело, из-за развалин выехали грузовики, много грузовиков, и овчарки поднялись, оскалив клыки: зашевелились и немцы, подгоняя женщин и детей прикладами.
Среди этой толпы Борька увидел Надюшку со второй парты, и Надюшкину маму, и уборщицу из школы, Ивановну.
«Что делать? Как им помочь?»
Борька наклонился к мостовой, схватил тяжёлый булыжник и, не отдавая себе отчёта, что он делает, бросился вперёд.
Он не видел, как обернулась в его сторону овчарка и солдат щёлкнул у неё замком на ошейнике.
Собака пошла, не побежала, а пошла на Борьку, уверенная в лёгкой победе, и немец отвернулся тоже без всякого интереса к тому, что произойдёт там, у него за спиной. А Борька бежал и не видел ничего.
Но собаку увидели мама Надюшки и Ивановна. Они закричали:
«Собака! Соба-ка!»
Они закричали так, что на площади даже стало тихо, и Борька повернулся, увидел овчарку. Он побежал. Побежала и собака, раззадоривая себя.
Борька помчался быстрее её, завернул за угол, и в тот момент, когда завернула за ним и овчарка, хозяин её, обернувшись, засмеялся.
Женщины закричали снова. И крик их будто подхлестнул Борьку.
Сжавшись, как пружина, он распрямился и взлетел на груду кирпича и мусора. Сразу обернувшись, он увидел овчарку.
И крик женщин, и собачья морда с оскаленными зубами будто наполнили Борьку страшной силой. Глянув ещё раз отчаянно и глаза собаки, собравшейся прыгнуть, Борька схватил ржавый лом и, коротко размахнувшись, выставил лом навстречу собаке. Овчарка прыгнула. глухо ударилась о кирпичи и замолкла.
Борька спрыгнул вниз и, оборачиваясь на мёртвую овчарку, на первого убитого им врага, побежал снова к окраине, за которой начинался редкий кустарник. Его пересекала дорога в деревню, где жил дед…

* * *
Они шли лесной тропой, и ноги их утопали в тумане. Как из-за занавеса, выступила кузня. Дед отомкнул дверь, шагнул вперёд, остановился, словно раздумывая, потом глянул по сторонам: на холодный горн, на чёрные стены. Они развели огонь, и он замельтешил, весело переплетаясь в красные косицы. Железо калилось в нём, становилось белым и гнучим. Дед глядел в огонь задумавшись. Они и раньше ковали, дед и внук. Прошлым летом Борька с Толиком, братаном, всё лето в деревне жил, поднаторел в дедовом ремесле, любил его, и дед радовался тому, хвастал, бывало, соседям, что растёт ему взамен добрый коваль, фамильный мастер. Молоты стучали, железо послушно гнулось. И вдруг дед молот остановил, сказал, кивнув на гаснущий металл: — Вишь… Вишь, она, сила-то, и железо гнёт… Борька стучал молотком в гнущееся железо, думал над дедовыми словами и вспоминал всё, что нельзя, было забыть. Женщин и детей, угоняемых неизвестно куда на машинах с крестами… Волосатого немца с часами до локтя и розовый, со слюной, оскал овчарки… Облокотясь о колено, смотрел дед в горн, в утихающий огонь. — Нет, ты не слухай меня, старого. Потому как сила силе рознь, и не набрать немцам на нас никакой силы… Вдруг они обернулись на ярко вспыхнувший свет неожиданно распахнутой двери и увидели немца с автоматом на груди. Лицо у немца было розовым, и голубые глаза улыбались. Шагнул фриц через порог, сказал что-то деду по-своему. Дед пожал плечами. Снова повторил румяный немец свои слова, на лай похожие. Дед головой мотнул. Посмотрел на деда немец прозрачными глазами… И вдруг автоматом повёл — и брызнуло из ствола пламя. Увидел Борька, как не на немца, нет, на него, Борьку, посмотрел в последний раз дед, медленно оседая, роняя из рук малый молоток — серебряный голос. Осел дед, упал навзничь. Обернулся Борька. Немец стоял в дверном проёме, улыбался приветливо, потом повернулся, сделал шаг… Мгновенья не было. Меньше. Оказался возле немца Борька и услышал сам густой стук молота о каску. Ткнул немца в кузнечный пол румяным лицом, улыбкой. Рванул из побелевших рук автомат. И услышал, как зовут немца:
— Шнель, Ганс!.. Шнель!..
Борька выскочил из кузни, наспех нахлобучив шубейку, глянув в последний раз деду в лицо. Дед лежал спокойный, словно спал…
По тропинке к кузне шёл другой немец.
Борька поднял автомат, навёл на немца, нажал крючок — и ткнулся в снег немец, торопивший Ганса.
Мгновенья не было. Меньше. Оказался возле немца Борька и услышал сам густой стук молота о каску. Ткнул немца в кузнечный пол румяным лицом, улыбкой. Рванул из побелевших рук автомат. И услышал, как зовут немца:
— Шнель, Ганс!.. Шнель!..
Борька выскочил из кузни, наспех нахлобучив шубейку, глянув в последний раз деду в лицо. Дед лежал спокойный, словно спал…
По тропинке к кузне шёл другой немец.
Борька поднял автомат, навёл на немца, нажал крючок — и ткнулся в снег немец, торопивший Ганса.
* * *
Борька шёл целый день, выбиваясь из сил, и ночевал в чёрной холодной бане на задах какой-то тихой деревни. Едва забрезжило, он пошёл снова, всё дальше и дальше уходя в глубину леса, пытаясь найти партизанский отряд «бати». Вторую ночь он провёл в ельнике, трясся от мороза, но всё-таки выдюжил и утром опять пошёл и снова шёл целый день, а когда уже совсем выбился из сил, когда поплыли от голода оранжевые круги перед глазами, сзади скрипнул снег… Борька резко обернулся, перехватывая поудобнее автомат, и тут же сел, слабея, в снег: на него смотрел молодой парень с карабином в руках и с красной полоской на ушанке. Очнулся Борька в землянке. На него удивлённо глядели незнакомые люди…* * *
Командир был строг и громко выспрашивал у Борьки всё придирчиво. Когда Борька рассказал обо всём, «батя» сел на круглую чурбашку, заменявшую стол, и заворошил руками волосы, уставившись в пол. И так сидел молча, будто забыл про Борьку. Борька кашлянул в кулак, переминаясь с ноги на ногу, «батя» взглянул на него пристально и сказал парню, который привёл Борьку: — Поставьте на довольствие. Возьмите к себе, в разведгруппу. Ну, а оружие… — он подошёл к Борьке и ткнул тихонько в бок. — Оружие он, как настоящий солдат, с собой принёс… Серёжа, тот самый парень, который нашёл его в лесу, тащил на спине к партизанам, а потом стоял рядом с ним перед «батей», теперь стал Борькиным командиром, начал учить его военному делу.* * *
Борька шёл в деревню, в незнакомую деревню, к незнакомому человеку, и этот человек должен был по одному лишь паролю проводить Борьку на станцию, к какой-то женщине. Женщина эта приходилась тому человеку не то кумой, не то тёщей. Она ни о чем не должна была знать, она должна была просто кормить его и поить и говорить, если спросят, что Борька — сын того человека, который доводился ей зятем и к которому шёл Борька. Три дня давалось Борьке, но и на четвертый ждал бы его Серёжа, и на пятый, и даже через десять дней — его бы ждали, потому что с первого раза доверили серьёзное задание. Всё шло как по-писаному. Ночь Борька проворочался на палатях у незнакомого человека, который впустил его сразу же, как Борька сказал пароль. А утром они были уже на станции… «Тёща» поначалу косилась на Борьку. Она велела ему приходить в дом незаметно, чтобы соседи не видели. Но жила «теща» на отшибе, от соседей далеко, и всё было нормально.
Три дня Борька крутился на станции, стараясь не попасть на глаза немецкой охране, норовя проникнуть к тупикам.
Но тупики сильно охранялись, даже близко нельзя было подойти, и Борька мучался, волнуясь, что у него ничего не выходит.
Время для выполнения задания истекло, к исходу третьего дня Борька ничего не узнал. «Тёща», чувствуя неладное, волновалась тоже, сухо разговаривая с Борькой.
Чтобы хоть как-нибудь ей угодить, Борька, когда она собралась за водой, пошёл с ней. Колонки на станции перемёрзли, работала лишь одна, и за водой пришлось идти чуть ли не через всю станцию.
Они шли обратно уже не спеша, часто останавливаясь, передыхая, с полными вёдрами, когда их нагнал какой-то старик.
— Ох, Михалыч! — закудахтала «тёща». — Никак работаешь?
— Не говори, соседка! — крикнул старик. — Заставили, ироды!
Кочегар убёг…
Борька насторожился.
— Ну да ладно! — крикнул старик. — Ладно, в ездки не гонят, всё тут, в манёвровых…
— Дядя! — сказал Борька старику. — Я свободный, хочешь, завтра подсоблю.
«Тёща» испуганно глянула на Борьку, но, спохватившись, заговорила бойко и ласково:
— Возьми, возьми, Михалыч! Внучек-то, вишь, какой отмахал, а на паровозе не езживал.
На следующий день рано утром она проводила Борьку к старику, и весь день Борька, скинув пальто, махал лопатой, швыряя уголь в красную глотку топки. Пот полз в глаза, ныла спина, но Борька улыбался. За день паровозик не раз сбегал к тупикам. Все они были забиты вагонами. Тяжёлыми вагонами, потому что, подцепив хотя бы один, старенький паровозик, прежде чем тронуться, долго пыхтел, крутил колёсами на месте, надсаживался, и Борьке приходилось побыстрей шевелить лопатой. А это значило очень много. Это значило, что на станции, в тупике, яагоны с боеприпасами. Склады на колёсах…
«Тёща» поначалу косилась на Борьку. Она велела ему приходить в дом незаметно, чтобы соседи не видели. Но жила «теща» на отшибе, от соседей далеко, и всё было нормально.
Три дня Борька крутился на станции, стараясь не попасть на глаза немецкой охране, норовя проникнуть к тупикам.
Но тупики сильно охранялись, даже близко нельзя было подойти, и Борька мучался, волнуясь, что у него ничего не выходит.
Время для выполнения задания истекло, к исходу третьего дня Борька ничего не узнал. «Тёща», чувствуя неладное, волновалась тоже, сухо разговаривая с Борькой.
Чтобы хоть как-нибудь ей угодить, Борька, когда она собралась за водой, пошёл с ней. Колонки на станции перемёрзли, работала лишь одна, и за водой пришлось идти чуть ли не через всю станцию.
Они шли обратно уже не спеша, часто останавливаясь, передыхая, с полными вёдрами, когда их нагнал какой-то старик.
— Ох, Михалыч! — закудахтала «тёща». — Никак работаешь?
— Не говори, соседка! — крикнул старик. — Заставили, ироды!
Кочегар убёг…
Борька насторожился.
— Ну да ладно! — крикнул старик. — Ладно, в ездки не гонят, всё тут, в манёвровых…
— Дядя! — сказал Борька старику. — Я свободный, хочешь, завтра подсоблю.
«Тёща» испуганно глянула на Борьку, но, спохватившись, заговорила бойко и ласково:
— Возьми, возьми, Михалыч! Внучек-то, вишь, какой отмахал, а на паровозе не езживал.
На следующий день рано утром она проводила Борьку к старику, и весь день Борька, скинув пальто, махал лопатой, швыряя уголь в красную глотку топки. Пот полз в глаза, ныла спина, но Борька улыбался. За день паровозик не раз сбегал к тупикам. Все они были забиты вагонами. Тяжёлыми вагонами, потому что, подцепив хотя бы один, старенький паровозик, прежде чем тронуться, долго пыхтел, крутил колёсами на месте, надсаживался, и Борьке приходилось побыстрей шевелить лопатой. А это значило очень много. Это значило, что на станции, в тупике, яагоны с боеприпасами. Склады на колёсах…
 Борька волновался весь вечер, ждал, что вот-вот хлопнет дверь и войдёт «отец», чтобы отвести его обратно, поближе к лесу.
К вечеру Борька засобирался.
«Тёща» испуганно взглянула на него, захлопнула щеколду и заслонила собой дверь.
— Нет, — сказала она. — Одного не отпущу.
Ночью, когда «тёща» уснула, Борька быстро оделся и исчез, тихо открыв дверь.
Он хотел сперва идти прямо в лес к назначенному месту, но в доме родственника «тёщи» горел свет, и он постучал в окно.
За дверью зашевелились, щёлкнул засов. Борька шагнул вперёд, улыбаясь, — и яркий сноп рассыпался перед глазами.
Он словно провалился куда-то, всё исчезло перед ним.
Борька пришёл в себя от нового удара. Перед ним почти вплотную белели тонкие губы полицая. И снова всё застлал красный туман…
Борька волновался весь вечер, ждал, что вот-вот хлопнет дверь и войдёт «отец», чтобы отвести его обратно, поближе к лесу.
К вечеру Борька засобирался.
«Тёща» испуганно взглянула на него, захлопнула щеколду и заслонила собой дверь.
— Нет, — сказала она. — Одного не отпущу.
Ночью, когда «тёща» уснула, Борька быстро оделся и исчез, тихо открыв дверь.
Он хотел сперва идти прямо в лес к назначенному месту, но в доме родственника «тёщи» горел свет, и он постучал в окно.
За дверью зашевелились, щёлкнул засов. Борька шагнул вперёд, улыбаясь, — и яркий сноп рассыпался перед глазами.
Он словно провалился куда-то, всё исчезло перед ним.
Борька пришёл в себя от нового удара. Перед ним почти вплотную белели тонкие губы полицая. И снова всё застлал красный туман…
* * *
Снег искрился на солнце, слепил белыми брызгами, и небо было синее-синее, как васильковое поле. Вдали что-то грохнуло, и Борька удивлённо посмотрел в небо: фронт ешё далеко, а зимой грозы не бывает. И вдруг всем своим существом ощутил, понял — сразу вдруг понял, что и солнце, и белые эти брызги, и небо синее-синее он видит в последний раз. Мысль эта пронзила его и потрясла. В ту же минуту снова ударил гром, и Борька снова посмотрел в небо. В небе, совсем низко над землёй, на бреющем полёте шли наши штурмовики. Целое звено. И на крыльях у них сверкали звёзды. Он очнулся, когда кто-то сильно толкнул его. Борька обернулся: «Отец»?! — Беги! На дороге они стояли только двое. Немцы и полицаи, отбежав от дороги, сунулись в сугробы, спасаясь от самолётов. — Беги!
Ревели над головой штурмовики, и с этим рёвом слились автоматные очереди.
Не слышал Борька, как свистели пули рядом с ним, как орали немцы и полицаи, как крикнул в последний раз человек, которого он звал «отцом».
— Беги!
Ревели над головой штурмовики, и с этим рёвом слились автоматные очереди.
Не слышал Борька, как свистели пули рядом с ним, как орали немцы и полицаи, как крикнул в последний раз человек, которого он звал «отцом».
* * *
Новое задание было особое. Как сказал им сам «батя», надо перерезать, словно ножницами, важную дорогу, остановить движение поездов. А удастся, заодно и эшелон взорвать. Разведчики долго выбирали место, то приближаясь, то уходя в сторону от дороги. Серёжа был мрачен и гнал отряд без перекуров. По рельсам то и дело сновали дрезины с пулемётными установками и время от времени строчили длинными очередями по лесу. Через каждые полкилометра стояли часовые, их часто меняли, и не было никакой возможности подобраться к дороге. Поэтому Серёжа всё гнал и гнал отряд, злясь на немцев. — Борька, — сказал он неожиданно, — не возвращаться же так… На тебя вся надежда.* * *
Когда стемнело, разведчики подошли поближе к дороге и залегли, чтобы прикрыть Борьку, если что. А Серёжа обнял его и, прежде чем отпустить, долго смотрел в глаза. Борька полз ящерицей, маленький и лёгкий, почти не оставляя за собой следа. Перед насыпью остановился, примеряясь. «Ползком на неё не взобраться — слишком крутая». Он выждал, коченея, сжимая взрывчатку и нож, пока пролетит наверху дрезина, пока пройдёт часовой, и бегом кинулся вперёд к рельсам. Озираясь по сторонам, он мгновенно раскопал снег. Но дальше шла мёрзлая земля, и, хотя нож был Сережкин острый, как шило, мерзлота, словно каменная, поддавалась еле-еле. Тогда Борька положил взрывчатку и стал копать обеими руками. Теперь надо всю землю до крошки спрятать под снег, но и лишнего не насыпать, чтобы не было горки, чтоб не увидел её часовой, посветив фонариком. И утрамбовать как следует. Дрезина была уже далеко, когда Борька осторожно сполз с насыпи, засыпая снегом шнур. Дрезина прошла, когда он был уже внизу, но Борька решил не торопиться, подождать часового. Скоро прошёл и немец, прошёл, ничего не заметив, и Борька пополз к лесу. На опушке его подхватили сильные руки, приняли конец шнура, молча хлопнул по спине Серёжа: мол, молодец. Где-то вдали раздался неясный шум, потом он усилился, и Серёжа положил руку на замыкатель. Потом промчалась дрезина, тарахтя из пулемётов по макушкам елей, стремительно пронеслась, будто удирала от кого-то. А через несколько минут вдали показался прямой столб дыма, превращающийся в чёрную неподвижную полосу, а потом и сам поезд. Он шёл на полной скорости, и ещё издали Борька разглядел на платформах множество танков. Он сжался весь, приготовясь к главному, сжались и все разведчики, и в ту минуту, когда паровоз поравнялся с часовым, Серёжа резко шевельнулся. Борька увидел, как взлетела маленькая фигурка часового, как паровоз вдруг подпрыгнул и залился малиновым светом, как накренился, плавно уходя под насыпь, и за ним послушно пошёл весь эшелон. Платформы складывались гармошкой, грохотало и скрипело железо, расцветая белыми огнями, дико кричали солдаты. — Отходим! — весело крикнул Серёжа, и они побежали в глубь леса, оставив одного разведчика, который должен был считать потери. Они шли шумно, не таясь, немцам было теперь не до них, и все смеялись и говорили что-то возбуждённо, и вдруг Серёжа схватил Борьку под мышки, и остальные помогли ему. И Борька полетел вверх, к вершинам елей, освещаемых красными отблесками. Пулемётную очередь даже никто и не услышал. Дальним молотком протукала она где-то на насыпи, длинная злая пулемётная очередь, и свинцовая злость её, слабея, рассыпалась впустую по лесу. И только одна пуля, нелепая пуля, достигла цели… Борька взлетел вверх ещё раз, и его опустили, сразу отвернувшись. В снегу, глотая синий воздух, лежал Серёжа, чуть побледневший, без единой царапины. Он лежал, как здоровая, яркая сосна, упавшая неизвестно отчего; разведчики, растерявшись, склонились над ним. Борька растолкал их, снял шапку с головы Серёжи. У виска чернело, расплываясь, пятно… Подбежал, запыхавшись, разведчик, оставленный считать немецкие потери. Подбежал весёлый, нетерпеливый: — Семьдесят танков, братцы! Но его никто не услышал. Он молча снял шапку. — Серёжа… — Борька плакал, как маленький, гладя Серёжу по голове, и шептал, будто упрашивал его проснуться: — Серёжа!.. Серёжа!* * *
Борька смотрел, как вздрагивают, пригибаясь, тонкие крылья, рассекающие облака, и было и горько и радостно у него на сердце. Он не хотел лететь в Москву, ни за что не хотел. Но «батя» на прощание сказал: — Ты всё-таки слетай. Война от тебя не уйдёт, не бойся, а орден получи. Получи его и за себя, и за Серёжу…* * *
Москва оказалась совсем не такой, какой её Борька раньше видел на картинках. Народ всё больше военный, торопливый. С аэродрома повезли Борьку в гостиницу.* * *
В Кремле, в зале, Борька сидел и глазел по сторонам. Наконец все сели, успокоились, и тут Борька увидел. Он даже сам себе не поверил сначала… Да, там, впереди, у стола с маленькими коробочками, стоял Михаил Иванович Калинин… Он постоял, глядя сквозь очки на людей, добрый, бородатый, совсем как на картинках, и назвал чью-то фамилию. Борька от волнения фамилию прослушал. Вызывал Михаил Иванович по фамилии, имени и отчеству, и Борька поэтому не сразу понял, что это про него. — Цариков Борис Андреевич, — повторил Калинин, — награждается орденом Красного Знамени. И Борька вскочил и сказал вдруг из зала по-военному: «Я!» Все засмеялись, и Калинин засмеялся, а Борька, покраснев до макушки, стал пробираться по своему ряду к проходу. Михаил Иванович протянул Борьке коробочку, пожал руку, как взрослому, и вдруг обнял и поцеловал трижды, по-русски, как целовал Борьку отец, уходя на войну, как целовал его до войны дед… Борька хотел было идти уже, но Михаил Иванович задержал его за плечо и сказал, обращаясь к залу: — Поглядите, каков партизан! Вот не зря говорят: мал золотник, да дорог. Взорвал наш Боря эшелон, 70 танков уничтожил! И Борьке захлопали второй раз и хлопали так долго, пока он, все такой же, как рак красный, не прошёл сквозь весь зал и не сел на своё место. И был в жизни Борьки Царикова ещё один день. Тяжёлый и радостный день, когда он вспомнил так быстро забытое детство, тополиную метель в тёплом городе на старой улице. Это было уже после того, как партизанский отряд «бати» соединился с наступающими войсками и Борька стал ефрейтором, настоящим военным разведчиком. Это было уже после того, как на своём автомате, новеньком ППШ, сделал он острым ножом, оставшимся в наследство от партизанского друга Серёжи, тридцать зарубок — на память о тридцати «языках», которых он взял вместе с товарищами. Это было в день, когда Борьки на часть подошла к Днепру и остановилась напротив местечка Лоева, готовясь к прыжку через реку. Это было в октябре 1943 года. Опять была ночь, плескалась вода о прибрежные камни. Возле пояса на тесьме Борька привязал Серёжин нож и ступил в воду, стараясь не шуметь. Вода обожгла, и, чтоб согреться, он нырнул, и там, под водой, сделал несколько сильных гребков. Он плыл наискосок, не борясь с течением, а используя его, и приметой ему была берёза на том берегу. Немцы, как всегда, беспорядочно стреляли, и пули шлёпались, будто мелкие камешки, усеивая дно свинцовыми градинами. Ракеты плавили Днепр в синий цвет, и в минуты, когда над рекой выплывала новая ракета, Борька нырял, стараясь подольше задерживать дыхание. В трусах, с ножом на бечевке, дрожа от холода, Борька выполз на берег. Невдалеке слышался немецкий говор — немцы были в траншее. Идти дальше — опасно: ночью в темноте запросто можно столкнуться с немцем носом к носу, да и голый человек в темноте заметнее. Борька оглянулся. Целил он на берёзу и выплыл точно к ней. Мышью шмыгнул он к дереву, влез на него, укрывшись в ветках. Сидеть тут было опасно. Нет, немецкие трассы шли ниже, но в ответ изредка огрызались и наши, и эти выстрелы могли пройтись и по дереву. Эх, знать бы раньше, можно было предупредить. Борька замер там, наверху. Место было отличное. По огонькам сигарет, видным сверху, по голосам угадывались траншеи, пути сообщения, окопы, землянки. Немцы готовились обороняться, и земля вокруг была изрыта траншеями. Громоздились доты, наспех замаскированные. Борька глядел на землю, раскинувшуюся перед ним, и каждую точку, будто картограф опытный, вносил в уголки своей памяти, чтоб, вернувшись, перенести её на настоящую карту, которую он долго изучал, прежде чем поплыть, и теперь она была перед глазами, будто сфотографированная его памятью. Штурмовать Днепр Борькина часть начала утром, сразу после артподготовки, во время которой удалось уничтожить несколько мощных дотов, обнаруженных разведкой. Остальные потери врага можно было увидеть только там, прямо на поле боя, на той стороне Днепра, куда уже переправились первые отделения. Борька поплыл туда вместе с комбатом и был при командном пункте, выполняя приказы. Всякий раз приказ был один: переправиться через Днепр — доставить пакет, привезти пакет. Днепр кипел от взрывов снарядов, от маленьких фонтанчиков пуль и осколков. На Борькиных глазах вдребезги разнесло понтон с ранеными, и люди тонули прямо на глазах, и ничем нельзя им было помочь. Несколько раз Борька бросался в самое месиво на берегу, искал лодку, чтобы скорее доставить пакет; он знал теперь, что это значит — доставить вовремя пакет, пронести его целым и невредимым сквозь этот шквал, сквозь это кипение, где земля сомкнулась с небом и водой. Борька искал лодку и, не найдя, раздевался, как утром, и снова плыл, «удом оставаясь в живых. Найдя же лодку, он загружал её ранеными и грёб что было сил… К концу дня, когда бой стал удаляться и Днепр поутих, Борька, в восьмой раз переправившись через Днепр, шатаясь от усталости, пошёл искать походную кухню. Уже увидев её синий дымок, Борька присел, радуясь, что дошёл, и сидя уснул. Разведчики искали его тело на берегу Днепра, ходили вдоль течения, обошли плацдарм и уже считали его погибшим, как батальонный повар нашёл Борьку спящим под кустом. Его не стали будить, а так спящего и перенесли в землянку. А Борька сладко спал, и снился ему родной город. И тополиная метель в июне. И солнечные зайчики, которые пускают девчонки во дворе. И мама. Во сне Борька улыбался. В землянку входили и выходили люди, громко говорили, а Борька ничего не слышал. А потом у Борьки был день рождения. Комбат велел, чтоб повар даже пироги сделал. С тушёнкой. Пироги получились на славу. И ел их Борька, хоть и стеснялся комбата, а пуще того — командира полка, который вдруг в самый разгар именин приехал на своём «виллисе». Все вокруг пили за Борькино здоровье. Когда чокнулись, встал командир полка. Колыхнулось пламя коптилки. Притихли остальные. Командир полка, человек ещё не старый, но седой, сказал Борьке так, будто знал, точно знал, о чём Борька думает. — Отца бы твоего сюда, Борька, — сказал он. — Да маму. Да деда твоего, кузнеца. Да всех твоих боевых друзей, живых и мёртвых… Эх, хорошо бы было! Командир полка вздохнул. Борька смотрел на огонь задумавшись. — Ну, чего нет, того нет, — сказал командир полка. — Убитых не оживишь… Но за убитых мстить будем. И вот всем нам, — он оглядел бойцов, ездовых, повара, — и вот всем нам, взрослым людям, нужно учиться у этого мальчика, как надо мстить. Он потянулся через стол к Борьке, чокнулся с ним кружкой, обнял Борьку, прижал к себе: — Ну, Борька, слушай! Ты теперь у нас герой. Герой Советского Союза. Все повскакали с мест, даже комбат, все загалдели, выпили свой спирт, заобнимали Борьку. А он всё думал о том, что командир полка сказал. Об отце, о солдате с чёрным от копоти лицом, о маме и брате Толике, и о Надюшке и её маме, и об Ивановне, о деде, об «отце», о Серёже, о всех людях, которых он знал, которых любил… Слёзы поплыли у него из глаз. И все подумали, что плачет Борька от радости. Через две недели, 13 ноября 1943 года, немецкий снайпер поймал на перекрёстке своего оптического прицела русского солдата. Пуля достигла цели, и на дно окопа упал маленького роста солдат. А рядом упала пилотка, обнажив русые волосы. Боря Цариков… Он умер сразу, не страдая, не мучаясь. Пуля попала в сердце. Весть о Бориной смерти мигом облетела батальон, и из наших траншей, неожиданно не только для немцев, но и для нашего командира, вдруг рванулась стена огня. Стреляли все огневые средства батальона. Яростно тряслись, поливая немцев, пулемёты и автоматы. Ухали миномёты. Трещали карабины. Видя ярость людей, комбат первым выскочил из окопа, и батальон пошёл вперёд — мстить за маленького солдата, за Борю Царикова. Постановлением Совета Министров РСФСР одному из кораблей Советского флота присвоено имя Бори Царикова.ВАЛЯ КОТИК Наджафоа Гусейн Дадаш Оглы
 В маленьком украинском селе Хмелёвка жила когда-то семья Котиков. Александр Феодосиевич плотничал, Анна Никитична работала в колхозе. Росли у них два сына — Витя и Валя. Родители с утра уходили на работу, оставляли дом и хозяйство на сыновей. А в ту пору, летом 1936 года, они были ещё мальцами — Вите исполнилось восемь, Валику пошёл седьмой. Ребята пасли на лугу тёлку Мусю, копошились на огороде или бегали в лес по ягоды и грибы. Иногда Валик забирался в комнату дяди Афанасия. Его влекла сюда этажерка с книгами. Валик ложился на пол, листал книги, разглядывал снимки и рисунки по агрономии.
Когда дядя Афанасий узнал об этом, он привёз ему из Шепетовки несколько детских книжек с красочными рисунками:
— Вот тебе. А мои не трогай!
Ох, и обрадовался Валик подарку!
Как-то Анна Никитична работала в поле. Вдруг видит — Валик идёт, узелок в руке несёт.
— Валик, как же ты в такую даль? — встревожилась Анна Никитична. — Почему Витя отпустил тебя?
— Мама, не ругайте Витю. Я Вам покушать принёс…
Оказывается, мальчики заметили, что мать не взяла с собой еды.
Думали, голодная она. Да не знали, что в колхозе открыли полевую столовую.
Осенью Витю проводили в первый класс. Валик тоже запросился в школу.
— Подрасти пока. На будущий год пойдёшь! — ответил отец.
Валик всхлипнул от обиды. Анна Никитична купила ему тетрадки и ручку — пусть, мол, играет в школу. И Валик «играл» всерьёз. Как только Витя садился за уроки, он усаживался рядом. Пишет Витя что-то — Валик заглядывает к нему в тетрадь и выводит то же самое в своей. Заучивает Витя стишок — Валик слушает и запоминает раньше его.
Как-то зимой Валик появился на пороге класса. Он наклонил лобастую голову и исподлобья смотрел на учителя живыми карими глазами.
Его скуластые щёки и большие уши пылали от мороза.
— Ты чей такой будешь? — удивился учитель.
— То мой брат, — ответил Витя. — Чего ты пришёл, Валик?
— Я учиться хочу, — шмыгнул носом Валик.
В маленьком украинском селе Хмелёвка жила когда-то семья Котиков. Александр Феодосиевич плотничал, Анна Никитична работала в колхозе. Росли у них два сына — Витя и Валя. Родители с утра уходили на работу, оставляли дом и хозяйство на сыновей. А в ту пору, летом 1936 года, они были ещё мальцами — Вите исполнилось восемь, Валику пошёл седьмой. Ребята пасли на лугу тёлку Мусю, копошились на огороде или бегали в лес по ягоды и грибы. Иногда Валик забирался в комнату дяди Афанасия. Его влекла сюда этажерка с книгами. Валик ложился на пол, листал книги, разглядывал снимки и рисунки по агрономии.
Когда дядя Афанасий узнал об этом, он привёз ему из Шепетовки несколько детских книжек с красочными рисунками:
— Вот тебе. А мои не трогай!
Ох, и обрадовался Валик подарку!
Как-то Анна Никитична работала в поле. Вдруг видит — Валик идёт, узелок в руке несёт.
— Валик, как же ты в такую даль? — встревожилась Анна Никитична. — Почему Витя отпустил тебя?
— Мама, не ругайте Витю. Я Вам покушать принёс…
Оказывается, мальчики заметили, что мать не взяла с собой еды.
Думали, голодная она. Да не знали, что в колхозе открыли полевую столовую.
Осенью Витю проводили в первый класс. Валик тоже запросился в школу.
— Подрасти пока. На будущий год пойдёшь! — ответил отец.
Валик всхлипнул от обиды. Анна Никитична купила ему тетрадки и ручку — пусть, мол, играет в школу. И Валик «играл» всерьёз. Как только Витя садился за уроки, он усаживался рядом. Пишет Витя что-то — Валик заглядывает к нему в тетрадь и выводит то же самое в своей. Заучивает Витя стишок — Валик слушает и запоминает раньше его.
Как-то зимой Валик появился на пороге класса. Он наклонил лобастую голову и исподлобья смотрел на учителя живыми карими глазами.
Его скуластые щёки и большие уши пылали от мороза.
— Ты чей такой будешь? — удивился учитель.
— То мой брат, — ответил Витя. — Чего ты пришёл, Валик?
— Я учиться хочу, — шмыгнул носом Валик.
 Учитель оглядел его щуплую озябшую фигурку, улыбнулся и разрешил сесть за парту.
Вскоре Валик стал лучшим учеником и окончил первый класс с похвальной грамотой.
Учитель оглядел его щуплую озябшую фигурку, улыбнулся и разрешил сесть за парту.
Вскоре Валик стал лучшим учеником и окончил первый класс с похвальной грамотой.
* * *
Летом Котики переехали в Шепетовку. Здесь у мальчиков сразу появились новые дружки — Коля Трухан и Стёпа Кищук. В школе № 4, куда Анна Никитична привела сыновей, не знали, как быть с Валиком. По возрасту Валик не подходил и для первого класса, а он во второй поступал. И всё-таки директор принял его. А через два года Валику за отличную учёбу подарили книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». Книга захватила Валика. Оказывается, Николай Островский его земляк! События, описанные в книге, происходили здесь, в Шепетовке! Тихая, зелёная Шепетовка стала Валику ещё роднее и дороже. 7 ноября 1939 года на торжественном сборе, посвящённом Октябрьской революции, Валика приняли в пионеры. В тот же день Валик написал об этом отцу. Александр Феодосиевич ещё летом ушёл в Красную Армию, участвовал в освобождении Западной Украины, а потом воевал с белофиннами. Котики очень беспокоились за отца — от него давно не приходило писем. Мало ли что могло случиться? Вот недавно семья одноклассника Валика Лёни Котенко получила похоронную. Валику стало жаль дружка. Он предложил ребятам сложиться и купить ему новые ботинки. Лёню расстрогало внимание и доброта товарищей. Отец вернулся неожиданно, в мае 1940 года. Через год, когда Валик с похвальной грамотой окончил пятый класс, отец подарил ему велосипед. Ух, как завидовали Валику Витя, Коля Трухан и Стёпа Кищук! Но Валик не жадничал, он всем разрешал поездить. Иногда ребята гурьбой уходили в лес или на озёра купаться и порыбачить. …Валик только вышел из дома покататься на велосипеде, как тут же вернулся испуганный и бледный. — Что, или наскочил на кого? — спросил отец. — Война! Немцы напали! — выпалил Валик.
Снова ушёл воевать Александр Феодосиевич.
Радио приносило тяжёлые вести. Как ни бились наши бойцы, железная, огненная лавина фашистских армий продвигалась на восток, занимала один город за другим. Через Шепетовку, крупную железнодорожную станцию, уходили на восток беженцы из захваченных городов и сёл. Вскоре началась эвакуация Шепетовки.
У Валика была пушистая белочка. Он подобрал её в лесу совсем маленькой. Приютил, выкормил. Белочка лривязалась к Валику, забиралась к нему в кровать или за пазуху. Теперь Валик решил выпустить белочку. В лесу он заметил четырёх милиционеров. На них была новая форма. Валик притаился за деревом. До него донеслась немецкая речь.
Валик во весь дух пустился бежать. На окраине города ему встретились красноармейцы.
— Дяденька… там… немцы! Бежимте, я покажу!
В лесу завязалась перестрелка. Один из «милиционеров» был убит.
Остальные связаны. Они оказались немецкими диверсантами.
Утром семья Котиков ушла из Шепетовки. Но далеко уйти не удалось. Немцы прорвались вперёд и отрезали путь на восток. Пришлось вместе с другими беженцами возвращаться обратно.
— Война! Немцы напали! — выпалил Валик.
Снова ушёл воевать Александр Феодосиевич.
Радио приносило тяжёлые вести. Как ни бились наши бойцы, железная, огненная лавина фашистских армий продвигалась на восток, занимала один город за другим. Через Шепетовку, крупную железнодорожную станцию, уходили на восток беженцы из захваченных городов и сёл. Вскоре началась эвакуация Шепетовки.
У Валика была пушистая белочка. Он подобрал её в лесу совсем маленькой. Приютил, выкормил. Белочка лривязалась к Валику, забиралась к нему в кровать или за пазуху. Теперь Валик решил выпустить белочку. В лесу он заметил четырёх милиционеров. На них была новая форма. Валик притаился за деревом. До него донеслась немецкая речь.
Валик во весь дух пустился бежать. На окраине города ему встретились красноармейцы.
— Дяденька… там… немцы! Бежимте, я покажу!
В лесу завязалась перестрелка. Один из «милиционеров» был убит.
Остальные связаны. Они оказались немецкими диверсантами.
Утром семья Котиков ушла из Шепетовки. Но далеко уйти не удалось. Немцы прорвались вперёд и отрезали путь на восток. Пришлось вместе с другими беженцами возвращаться обратно.
* * *
Валик ходил по городу, и слёзы душили его. Немцы сожгли домик-музей Николая Островского, устроили возле леса лагерь для военнопленных, превратили школу в конюшню, согнали евреев в «гетто» — район города, обнесённый проволокой, заставляли их чистить уборные, собирать в шапки навоз. Валик думал о Павлике Корчагине из книги «Как закалялась сталь», хотел быть таким, как он. Но что Валик мог сделать один? А посоветоваться не с кем. Коля и Стёпа сторонились его — маленький ещё. Витя как всегда молчал. Они поступили работать на лесозавод. Но и Валик не терял времени зря. Иногда над городом летали советские самолёты, сбрасывали листовки. Валик собирал их, потом незаметно расклеивал по городу. У Котиков поселился жилец Степан Диденко. Валик ненавидел его. Думал, на немцев работает. Да не знал он того, что Диденко вовсе не Диденко, а Иван Алексеевич Музалёв, бывший военнопленный. Директор лесозавода Остап Андреевич Горбатюк помог ему бежать, достал фальшивый паспорт и устроил на работу на сахарный завод. Горбатюк и Диденко создали в Шепетовке подпольную организацию. Витя, Коля и Стёпа тоже стали подпольщиками. Диденко приглядывался к Валику, хотел, чтобы и он помогал подполью. Да боялся.
Во-первых, Валику только двенадцатый год, во-вторых, он слишком горячий и прямой — не умеет скрывать своей ненависти к фашистам.
Витя, Коля и Стёпа тоже стали подпольщиками. Диденко приглядывался к Валику, хотел, чтобы и он помогал подполью. Да боялся.
Во-первых, Валику только двенадцатый год, во-вторых, он слишком горячий и прямой — не умеет скрывать своей ненависти к фашистам.
* * *
Осенью гитлеровцы открыли школу. Полицай силком согнал учащихся. Ребят заставляли собирать ягоды, шишки, лекарственные травы, пилить дрова и заучивать молитвы за скорейшую победу Германии. Валик наотрез отказался идти в такую школу. Однажды Диденко пришёл поздно, когда Валик спал. Диденко увидел прохудившийся ботинок Валика, решил починить его. В ботинке оказались листовки. Утром Диденко спросил Валика: — Так это ты их по городу расклеиваешь? — Ну, я! — вызывающе ответил Валик. — Мал ещё… Ни за что пропадёшь. — Павка Корчагин тоже маленький был! — буркнул Валик. С того дня Валик начал выполнять поручения подпольной организации. Вместе с другими ребятами он собирал на месте недавних боёв патроны и оружие, сносил их в тайник, уточнял расположение немецких войск, их складов оружия и продовольствия, подсчитывал, сколько у них танков и пушек. На мясокомбинате был зарыт ручной пулемёт. Валик выкопал его, разобрал на части, сложил в корзину и на велосипеде через весь город перевёз в лес. В другой раз Валику поручили проводить в лес шестнадцать польских военнопленных, бежавших из лагеря. Там, в лесу, учитель из соседнего города Стриган Антон Захарович Одуха собирал партизанский отряд.* * *
По Славутскому шоссе беспрерывно проносились легковые и грузовые машины немцев. По совету Диденко ребята минировали шоссе. На их минах подорвалось несколько автомашин с солдатами и продовольствием, цистерна с бензином. Но как-то на мину наехала подвода с крестьянином. Лошадь-разнесло в клочья, а крестьянина выбросило взрывной волной на дорогу. Диденко приказал прекратить минирование. Тогда Валик предложил дружкам устроить засаду.
…Вот уже третий час сидят они в кустарнике у дороги. Но, как назло, ничего подходящего. И вдруг Валик увидел легковую машину.
Она неслась из Шепетовки. За ней следовали два грузовика с солдатами.
— Будем? — спросил Валик.
— Много их… Сцапают! — заколебался Стёпа.
— Ложитесь, хлопцы, заметят нас, — проговорил Коля.
Ребята залегли и из-за кустов наблюдали за дорогой.
Машины всё ближе и ближе. Вот уже различимы лица. В легковой рядом с шофёром… Так ведь это…
— Рыжий! — вскрикнул Валик.
Мальчики растерянно переглянулись. «Как быть? — спрашивали их взгляды. — Ведь это начальник Шепетовской жандармерии, обер-лейтенант Фриц Кёниг!»
Одно его имя наводило ужас. О его жестокости рассказывали невероятные вещи. Упустить такую возможность? Валик юрко подполз к дороге. «Только б не промахнуться, только б не промахнуться!» — твердил он про себя. Сейчас он забыл обо всём на свете: и то, что солдат много, и то, что его могут схватить… Всем существом Валика овладело неодолимое желание: убить Кёнига!
Машина неслась на предельной скорости. Мощёное полотно дороги летело навстречу. Кёниг напряжённо смотрел перед собой.
Он спешил в село, где захватили партизан. Вдруг он заметил, что на дорогу выскочили трое подростков. Они швырнули что-то и быстро скрылись в кустах.
Всё произошло мгновенно: завизжали тормоза, грохнули три ослепительных взрыва. Перед глазами Кёнига поплыли жёлтые круги, и всё погасло…
Не успев затормозить, грузовик наскочил на изуродованную, перевёрнутую набок легковую машину и проволок её несколько метров.
Солдаты высыпали на дорогу и застрочили по кустарникам…
Отчаянная диверсия Вали и его дружков встревожила фашистов.
Они хватали всех подозрительных, арестовали нескольких подпольщиков, но подполье продолжало действовать.
Группа подпольщиков, а с ними и Валик, напала на продовольственный склад, обезоружила охрану, доверху нагрузила машину продуктами, а склад подожгла.
Через неделю Диденко и Валик подожгли нефтебазу. Немного позже запылал лесосклад.
Диденко приказал прекратить минирование. Тогда Валик предложил дружкам устроить засаду.
…Вот уже третий час сидят они в кустарнике у дороги. Но, как назло, ничего подходящего. И вдруг Валик увидел легковую машину.
Она неслась из Шепетовки. За ней следовали два грузовика с солдатами.
— Будем? — спросил Валик.
— Много их… Сцапают! — заколебался Стёпа.
— Ложитесь, хлопцы, заметят нас, — проговорил Коля.
Ребята залегли и из-за кустов наблюдали за дорогой.
Машины всё ближе и ближе. Вот уже различимы лица. В легковой рядом с шофёром… Так ведь это…
— Рыжий! — вскрикнул Валик.
Мальчики растерянно переглянулись. «Как быть? — спрашивали их взгляды. — Ведь это начальник Шепетовской жандармерии, обер-лейтенант Фриц Кёниг!»
Одно его имя наводило ужас. О его жестокости рассказывали невероятные вещи. Упустить такую возможность? Валик юрко подполз к дороге. «Только б не промахнуться, только б не промахнуться!» — твердил он про себя. Сейчас он забыл обо всём на свете: и то, что солдат много, и то, что его могут схватить… Всем существом Валика овладело неодолимое желание: убить Кёнига!
Машина неслась на предельной скорости. Мощёное полотно дороги летело навстречу. Кёниг напряжённо смотрел перед собой.
Он спешил в село, где захватили партизан. Вдруг он заметил, что на дорогу выскочили трое подростков. Они швырнули что-то и быстро скрылись в кустах.
Всё произошло мгновенно: завизжали тормоза, грохнули три ослепительных взрыва. Перед глазами Кёнига поплыли жёлтые круги, и всё погасло…
Не успев затормозить, грузовик наскочил на изуродованную, перевёрнутую набок легковую машину и проволок её несколько метров.
Солдаты высыпали на дорогу и застрочили по кустарникам…
Отчаянная диверсия Вали и его дружков встревожила фашистов.
Они хватали всех подозрительных, арестовали нескольких подпольщиков, но подполье продолжало действовать.
Группа подпольщиков, а с ними и Валик, напала на продовольственный склад, обезоружила охрану, доверху нагрузила машину продуктами, а склад подожгла.
Через неделю Диденко и Валик подожгли нефтебазу. Немного позже запылал лесосклад.
 Но вскоре по доносу предателя гитлеровцы напали на след подпольной организации. Арестовали Горбатюка. Подпольщики хотели устроить ему побег, да не удалось. Горбатюк скончался в камере от пыток.
Оставаться в Шепетовке было опасно. Диденко увёл в лес подпольщиков, их жён и детей. Долгим и трудным был этот многодневный поход до белорусского Полесья, где в селе Дубницком расположился лагерь Одухи. Отсюда, с партизанского аэродрома, всех женщин и детей отправили на Большую землю. Валик отказался ехать. Его вызвали Одуха и секретарь подпольного обкома Олексенко.
— Как тебя зовут? — спросил Олексенко.
— Котик Валентин Александрович!
— А сколько тебе лет?
— Четырнадцать… скоро будет.
— Так… А почему ты, Валентин Александрович, уезжать не хочешь? Поезжай, учись. Тут и без тебя управятся. Война, брат, — дело мужское.
— Мужское! — нахмурился Валик. — Всенародная она!..
Валя шмыгнул носом и провёл рукавом по мокрым глазам. Олексенко прижал Валика к груди, крепко поцеловал его и тихо сказал:
— Ступай, сынок!
Через несколько дней партизанский отряд Ивана Алексеевича Музалёва отправился в далёкий рейд на Шепетовщину. Самым юным в отряде был Валя Котик.
Добрый, внимательный, заботливый Валик стал жестоким, безжалостным мстителем. Он брал в плен «языков», минировал железные дороги, взрывал мосты.
Как-то, возвращаясь из разведки, Валик заметил возле станции Цветоха телефонный кабель, торчащий из земли. Валик перерезал его и замаскировал. А это был прямой провод, соединявший рейхминистра восточных земель фон Розенберга со ставкой Гитлера в Варшаве.
Не удалось гадам поговорить!
Однажды партизаны наткнулись на отряд карателей. Валик залёг рядом с Музалёвым и строчил из автомата. Вдруг он заметил солдата, который крался из-за деревьев к Музалёву.
— Дядя Ваня! Сзади!.. — крикнул Валя и заслонил собой Музалёва.
Тот быстро обернулся. Выстрелы раздались одновременно. Валя схватился за грудь и упал. Рухнул и немец. Валя застонал, открыл глаза, тихо спросил:
— Иван Алексеевич… Живой?.. — И потерял сознание.
Но вскоре по доносу предателя гитлеровцы напали на след подпольной организации. Арестовали Горбатюка. Подпольщики хотели устроить ему побег, да не удалось. Горбатюк скончался в камере от пыток.
Оставаться в Шепетовке было опасно. Диденко увёл в лес подпольщиков, их жён и детей. Долгим и трудным был этот многодневный поход до белорусского Полесья, где в селе Дубницком расположился лагерь Одухи. Отсюда, с партизанского аэродрома, всех женщин и детей отправили на Большую землю. Валик отказался ехать. Его вызвали Одуха и секретарь подпольного обкома Олексенко.
— Как тебя зовут? — спросил Олексенко.
— Котик Валентин Александрович!
— А сколько тебе лет?
— Четырнадцать… скоро будет.
— Так… А почему ты, Валентин Александрович, уезжать не хочешь? Поезжай, учись. Тут и без тебя управятся. Война, брат, — дело мужское.
— Мужское! — нахмурился Валик. — Всенародная она!..
Валя шмыгнул носом и провёл рукавом по мокрым глазам. Олексенко прижал Валика к груди, крепко поцеловал его и тихо сказал:
— Ступай, сынок!
Через несколько дней партизанский отряд Ивана Алексеевича Музалёва отправился в далёкий рейд на Шепетовщину. Самым юным в отряде был Валя Котик.
Добрый, внимательный, заботливый Валик стал жестоким, безжалостным мстителем. Он брал в плен «языков», минировал железные дороги, взрывал мосты.
Как-то, возвращаясь из разведки, Валик заметил возле станции Цветоха телефонный кабель, торчащий из земли. Валик перерезал его и замаскировал. А это был прямой провод, соединявший рейхминистра восточных земель фон Розенберга со ставкой Гитлера в Варшаве.
Не удалось гадам поговорить!
Однажды партизаны наткнулись на отряд карателей. Валик залёг рядом с Музалёвым и строчил из автомата. Вдруг он заметил солдата, который крался из-за деревьев к Музалёву.
— Дядя Ваня! Сзади!.. — крикнул Валя и заслонил собой Музалёва.
Тот быстро обернулся. Выстрелы раздались одновременно. Валя схватился за грудь и упал. Рухнул и немец. Валя застонал, открыл глаза, тихо спросил:
— Иван Алексеевич… Живой?.. — И потерял сознание.
 Несколько месяцев Валик лежал в сторожке лесничего, а когда поправился, снова вернулся в отряд. За смелость и храбрость Валика наградили медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.
Несколько месяцев Валик лежал в сторожке лесничего, а когда поправился, снова вернулся в отряд. За смелость и храбрость Валика наградили медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.
* * *
11 февраля 1944 года Валику исполнилось 14 лет. В этот день его ждала большая радость: Советская Армия освободила Шепетовку! Музалёв предложил Валику вернуться домой, но Валик отказался — отряду предстояло помочь Советской Армии освободить соседний город Изяслав. — Вот возьмём Изяслав, тогда поеду, — сказал Валик. Но случилось иначе.* * *
На рассвете 17 февраля партизаны бесшумно подошли к Изяславу и залегли. Ждали начала атаки. Валик лежал наснегу, смотрел на смутные очертания города и думал о ШеКетовке. Сегодня после боя он поедет домой. Может быть, мама уже вернулась? Эх, скорей бы наступил день, такой долгожданный, такой счастливый день в его жизни! Грохот разорвал тишину: атака! Партизаны ворвались в город, преследовали отступающих фашистов. Валик бежал, останавливался, стрелял. Ему стало жарко, он сбросил ушанку.
Захватили оружейный склад. Музалёв приказал Вале и ещё нескольким партизанам охранять трофеи.
Валик стоял на посту, прислушивался к шуму боя. Всё вокруг было наполнено свистом пуль, воем мин, стрекотом пулемётов и автоматов.
Где-то совсем рядом просвистело несколько пуль, и Валик почувствовал тупой удар в живот. Ноги сразу ослабели. На белом маскировочном халате выступила кровь. Валик прислонился к стене и стал медленно сползать.
Санитары бережно уложили его на подводу. Валик слабеющим голосом попросил:
— Поднимите меня… Я хочу видеть… я хочу стоять… Вот так… хорошо… как хорошо… Танки!.. Наши!..
Мёртвое тело мальчика повисло на руках санитара…
…Валя Котик похоронен в садике перед школой, в которой учился.
Он посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени, и ему Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил звание Героя Советского Союза.
В Шепетовском парке и в Москве, на ВДНХ, Вале Котику воздвигнуты памятники.
Валя Котик всегда останется жить в памяти людей отважным и смелым мальчиком в солдатской шинели — таким, каким он был в те далёкие годы войны.
Известный поэт, лауреат Ленинской премии Михаил Светлов посвятил юному партизану стихи:
Грохот разорвал тишину: атака! Партизаны ворвались в город, преследовали отступающих фашистов. Валик бежал, останавливался, стрелял. Ему стало жарко, он сбросил ушанку.
Захватили оружейный склад. Музалёв приказал Вале и ещё нескольким партизанам охранять трофеи.
Валик стоял на посту, прислушивался к шуму боя. Всё вокруг было наполнено свистом пуль, воем мин, стрекотом пулемётов и автоматов.
Где-то совсем рядом просвистело несколько пуль, и Валик почувствовал тупой удар в живот. Ноги сразу ослабели. На белом маскировочном халате выступила кровь. Валик прислонился к стене и стал медленно сползать.
Санитары бережно уложили его на подводу. Валик слабеющим голосом попросил:
— Поднимите меня… Я хочу видеть… я хочу стоять… Вот так… хорошо… как хорошо… Танки!.. Наши!..
Мёртвое тело мальчика повисло на руках санитара…
…Валя Котик похоронен в садике перед школой, в которой учился.
Он посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени, и ему Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил звание Героя Советского Союза.
В Шепетовском парке и в Москве, на ВДНХ, Вале Котику воздвигнуты памятники.
Валя Котик всегда останется жить в памяти людей отважным и смелым мальчиком в солдатской шинели — таким, каким он был в те далёкие годы войны.
Известный поэт, лауреат Ленинской премии Михаил Светлов посвятил юному партизану стихи:


ВАСЯ КОРОБКО Беляев Александр Павлович
 Это было летом сурового 1941 года. Красная Армия с боями отходила на Восток под натиском вероломно напавших на нашу Родину гитлеровских полчищ. В один из дней фронт вплотную подошёл к селу Погорельцы, раскинувшемуся среди пышных полей Черниговщины.
Жители села ещё утром, как только началась перестрелка, попрятались в подвалы. Село казалось вымершим.
На самой окраине села держали оборону бойцы советской роты.
Они прикрывали отходящие на новые рубежи наши части.
У окопа, из которого по гитлеровцам бил «максим», то появлялся, то исчезал худощавый паренёк. Он проворно подносил пулемётчикам патроны. Усатый наводчик, увидев его, каждый раз одобрительно подмигивал. А смуглый, голубоглазый второй номер, принимая коробки с лентами, непременно говорил:
— Молодец, браток. В самый раз успел…
И каждый раз, выслушав псзхвалу, паренёк, умоляюще глядя на голубоглазого, спрашивал:
— Дядь, а вы меня с собой возьмёте?
— Обязательно, — улыбался в ответ второй номер. — Только подрасти малость. А то из окопа ничего не увидишь.
Но ближе к полудню, когда была отбита очередная атака гитлеровцев, голубоглазый неожиданно взял паренька за руку.
— Тебя как звать-то? — спросил он.
— Вася. Вася Коробко, — ответил паренёк.
— Ты бы водички принёс, Вася, ведёрочко. Видишь, техника перегрелась. Да и нам остудиться надо, — попросил голубоглазый и посмотрел на наводчика.
— Точно, — басом подтвердил тот и вытер рукавом гимнастёрки мокрое от пота лицо.
Вася бросился за ведром. А когда вернулся с водой, расчёта уже не было на месте.
По приказу командира пулемётчики снялись со своей позиции и отошли за мост к лесу.
Это было летом сурового 1941 года. Красная Армия с боями отходила на Восток под натиском вероломно напавших на нашу Родину гитлеровских полчищ. В один из дней фронт вплотную подошёл к селу Погорельцы, раскинувшемуся среди пышных полей Черниговщины.
Жители села ещё утром, как только началась перестрелка, попрятались в подвалы. Село казалось вымершим.
На самой окраине села держали оборону бойцы советской роты.
Они прикрывали отходящие на новые рубежи наши части.
У окопа, из которого по гитлеровцам бил «максим», то появлялся, то исчезал худощавый паренёк. Он проворно подносил пулемётчикам патроны. Усатый наводчик, увидев его, каждый раз одобрительно подмигивал. А смуглый, голубоглазый второй номер, принимая коробки с лентами, непременно говорил:
— Молодец, браток. В самый раз успел…
И каждый раз, выслушав псзхвалу, паренёк, умоляюще глядя на голубоглазого, спрашивал:
— Дядь, а вы меня с собой возьмёте?
— Обязательно, — улыбался в ответ второй номер. — Только подрасти малость. А то из окопа ничего не увидишь.
Но ближе к полудню, когда была отбита очередная атака гитлеровцев, голубоглазый неожиданно взял паренька за руку.
— Тебя как звать-то? — спросил он.
— Вася. Вася Коробко, — ответил паренёк.
— Ты бы водички принёс, Вася, ведёрочко. Видишь, техника перегрелась. Да и нам остудиться надо, — попросил голубоглазый и посмотрел на наводчика.
— Точно, — басом подтвердил тот и вытер рукавом гимнастёрки мокрое от пота лицо.
Вася бросился за ведром. А когда вернулся с водой, расчёта уже не было на месте.
По приказу командира пулемётчики снялись со своей позиции и отошли за мост к лесу.
 «Нарочно за водой посылали, — догадался Вася. — Побоялись, что увяжусь. Да разве бы я помешал?»
Он проводил бойцов долгим, тоскующим взглядом, переворошил оставшуюся на краю окопа кучу стреляных гильз, надеясь найти хоть один целый патрон, и, пригибаясь к земле, побежал домой. Потом он видел, как в село вошли фашисты. Как они обыскивали дома колхозников, выгоняли из хлевов скотину, как устраивались на ночлег в школе, его родной школе, в которой он всего лишь два месяца тому назад закончил шестой класс.
«Теперь на сбор не соберёшься и песню любимую не споёшь, — с горечью подумал Вася. — Чудно всё это! Как во сне». И верно, вся эта война и эти фашистские солдаты, которые гонялись с громкими криками за курами, и большие, покрытые пылью бронетранспортёры, замаскированные в саду под яблонями, были настолько чужими, что и впрямь были похожи на страшный, тяжёлый сон. Уж очень казалось нелепым, что так вот неожиданно оборвались весёлые летние каникулы, не стало колхоза. И Васе нестерпимо захотелось ущипнуть себя или ударить кулаком, чтобы «проснуться» и разогнать кошмарные видения. Но это был не сон.
«Прощай, школа. Прощай, отряд», — снова подумал Вася и вдруг вспомнил, что там, в пионерской комнате, где сейчас располагались фашисты, осталось знамя отряда.
У Васи от волнения забилось сердце.
«Всё забрали гады: и село, и район! И ещё знамя им отдавай! Ну так нет! Я у вас его вытащу! Назло вам вытащу!» — решил он.
Однако сделать это было не так-то просто. Вася знал: если фашисты поймают, они за такое по головке не погладят. И всё-таки мысль о спасении знамени не оставляла его. И он стал думать, как выполнить эту первую в его жизни настоящую боевую операцию.
Огни в селе в ту ночь не зажигали, хотя люди не спали. Только изредка то там, то тут злобно лаяли собаки. Но постепенно и их голоса стали слышаться всё реже и реже. Наконец угомонились и они. Вася вышел из дому и садами пробрался к школе. Здесь тоже всё было тихо.
Вася остановился возле забора и начал наблюдать. В школе было темно. Окна в классах были закрыты, возле крыльца взад и вперёд, словно маятник, мерно расхаживал часовой. Вася дождался, когда он скроется за углом, и, словно тень, метнулся к окну пионерской комнаты. Там, прижавшись к стене, он долго вслушивался в тишину.
Вася на ощупь отыскал пирамиду. Но знамени в ней уже не было.
«Нарочно за водой посылали, — догадался Вася. — Побоялись, что увяжусь. Да разве бы я помешал?»
Он проводил бойцов долгим, тоскующим взглядом, переворошил оставшуюся на краю окопа кучу стреляных гильз, надеясь найти хоть один целый патрон, и, пригибаясь к земле, побежал домой. Потом он видел, как в село вошли фашисты. Как они обыскивали дома колхозников, выгоняли из хлевов скотину, как устраивались на ночлег в школе, его родной школе, в которой он всего лишь два месяца тому назад закончил шестой класс.
«Теперь на сбор не соберёшься и песню любимую не споёшь, — с горечью подумал Вася. — Чудно всё это! Как во сне». И верно, вся эта война и эти фашистские солдаты, которые гонялись с громкими криками за курами, и большие, покрытые пылью бронетранспортёры, замаскированные в саду под яблонями, были настолько чужими, что и впрямь были похожи на страшный, тяжёлый сон. Уж очень казалось нелепым, что так вот неожиданно оборвались весёлые летние каникулы, не стало колхоза. И Васе нестерпимо захотелось ущипнуть себя или ударить кулаком, чтобы «проснуться» и разогнать кошмарные видения. Но это был не сон.
«Прощай, школа. Прощай, отряд», — снова подумал Вася и вдруг вспомнил, что там, в пионерской комнате, где сейчас располагались фашисты, осталось знамя отряда.
У Васи от волнения забилось сердце.
«Всё забрали гады: и село, и район! И ещё знамя им отдавай! Ну так нет! Я у вас его вытащу! Назло вам вытащу!» — решил он.
Однако сделать это было не так-то просто. Вася знал: если фашисты поймают, они за такое по головке не погладят. И всё-таки мысль о спасении знамени не оставляла его. И он стал думать, как выполнить эту первую в его жизни настоящую боевую операцию.
Огни в селе в ту ночь не зажигали, хотя люди не спали. Только изредка то там, то тут злобно лаяли собаки. Но постепенно и их голоса стали слышаться всё реже и реже. Наконец угомонились и они. Вася вышел из дому и садами пробрался к школе. Здесь тоже всё было тихо.
Вася остановился возле забора и начал наблюдать. В школе было темно. Окна в классах были закрыты, возле крыльца взад и вперёд, словно маятник, мерно расхаживал часовой. Вася дождался, когда он скроется за углом, и, словно тень, метнулся к окну пионерской комнаты. Там, прижавшись к стене, он долго вслушивался в тишину.
Вася на ощупь отыскал пирамиду. Но знамени в ней уже не было.
 Вася стал шарить по полу. Руки его нащупали знакомое шёлковое полотнище. Знамя, которое он как знаменосец всегда с ГОРДОСТЬЮ носил впереди своего отряда, снова у него в руках.
Теперь надо было незаметно выйти из школы. Это оказалось труднее. Фашистский часовой облюбовал ступеньки крыльца, уселся на них и, словно нарочно, ни за что не хотел уходить. Васе пришлось ждать почти час, прежде чем он смог выпрыгнуть из окна и незамеченным скрыться в темноте. Только теперь он понял, какой подвергнул себя опасности. Но радость удачи была настолько велика, что перед ней отступило всё.
«Вот тебе и подрасти надо! — вспомнил он шутливую отговорку голубоглазого пулемётчика. — Может, был бы побольше, так и в окно бы не залез. А всё же жаль, что не взяли они меня с собой. Бил бы с ними фашистов».
Он надёжно спрятал знамя и вернулся домой. Но спать не хотелось.
Первая удача окрыляла. Захотелось сделать что-нибудь ещё, да такое, чтобы фашисты почувствовали, что их здесь ненавидят. «Может, поджечь школу? А что толку? Фашисты выбегут, а школа сгорит.
Такую не сразу потом построят. Или, может, прихлопнуть часового? Но чем? Из рогатки в него стрелять не будешь».
Вася долго ломал голову, как ещё насолить фашистам, и ничего не мог придумать. Врагов было много. Они были хорошо вооружены.
А он был один и совсем безоружным.
«Ничего-то я им голыми руками не сделаю, — решил в конце концов он, — а они утром сядут на свои бронированные машины и попрут дальше, за мост, догонять нашу роту».
На душе от этой мысли у него стало очень тошно. Он мысленно представил себе, как колонна гитлеровцев вытянется вдоль дороги и, подняв к небу пыль, устремится в погоню за ротой.
«Наши, наверно, ещё и окопы вырыть не успели. А гитлеровцы утром уже будут там. Долго ли им на машинах-то. Только мост проскочить, и лес рядом».
И вдруг Васю обожгла догадка. «Мост! А если его того! Много ли ему надо? Старый ведь он. Недаром его осенью хотели заново переделывать!»
Он разыскал в чулане пилу, раздобыл лом и незаметно, через огороды, выбрался за околицу села. Потом он осторожно спустился в низину и подобрался к мосту. Охраны видно не было. Вася воспользовался этим. Он ощупью отыскал железные скобы, скрепляющие опоры, и, ловко орудуя ломом, вытащил их одну за другой. Затем он взял пилу и подпилил несколько свай.
Вася стал шарить по полу. Руки его нащупали знакомое шёлковое полотнище. Знамя, которое он как знаменосец всегда с ГОРДОСТЬЮ носил впереди своего отряда, снова у него в руках.
Теперь надо было незаметно выйти из школы. Это оказалось труднее. Фашистский часовой облюбовал ступеньки крыльца, уселся на них и, словно нарочно, ни за что не хотел уходить. Васе пришлось ждать почти час, прежде чем он смог выпрыгнуть из окна и незамеченным скрыться в темноте. Только теперь он понял, какой подвергнул себя опасности. Но радость удачи была настолько велика, что перед ней отступило всё.
«Вот тебе и подрасти надо! — вспомнил он шутливую отговорку голубоглазого пулемётчика. — Может, был бы побольше, так и в окно бы не залез. А всё же жаль, что не взяли они меня с собой. Бил бы с ними фашистов».
Он надёжно спрятал знамя и вернулся домой. Но спать не хотелось.
Первая удача окрыляла. Захотелось сделать что-нибудь ещё, да такое, чтобы фашисты почувствовали, что их здесь ненавидят. «Может, поджечь школу? А что толку? Фашисты выбегут, а школа сгорит.
Такую не сразу потом построят. Или, может, прихлопнуть часового? Но чем? Из рогатки в него стрелять не будешь».
Вася долго ломал голову, как ещё насолить фашистам, и ничего не мог придумать. Врагов было много. Они были хорошо вооружены.
А он был один и совсем безоружным.
«Ничего-то я им голыми руками не сделаю, — решил в конце концов он, — а они утром сядут на свои бронированные машины и попрут дальше, за мост, догонять нашу роту».
На душе от этой мысли у него стало очень тошно. Он мысленно представил себе, как колонна гитлеровцев вытянется вдоль дороги и, подняв к небу пыль, устремится в погоню за ротой.
«Наши, наверно, ещё и окопы вырыть не успели. А гитлеровцы утром уже будут там. Долго ли им на машинах-то. Только мост проскочить, и лес рядом».
И вдруг Васю обожгла догадка. «Мост! А если его того! Много ли ему надо? Старый ведь он. Недаром его осенью хотели заново переделывать!»
Он разыскал в чулане пилу, раздобыл лом и незаметно, через огороды, выбрался за околицу села. Потом он осторожно спустился в низину и подобрался к мосту. Охраны видно не было. Вася воспользовался этим. Он ощупью отыскал железные скобы, скрепляющие опоры, и, ловко орудуя ломом, вытащил их одну за другой. Затем он взял пилу и подпилил несколько свай.
 Он так увлёкся этой работой, что не заметил, как побелел горизонт и мутная полоса рассвета медленно расплылась над лесом. Возвращаться в село было уже поздно.
Вася затоптал в грязь опилки и кустами отошёл подальше от моста.
Тут он замаскировался и лёг. Скоро со стороны села послышался тяжёлый гул моторов. Взошло солнце. И на дороге показалась колонна гитлеровских бронетранспортёров, и грузовиков, и мотоциклов. Колонна быстро приближалась к мосту. Несколько мотоциклов, обогнав машины, въехали на мост и, не задерживаясь, проскочили по нему, словно на крыльях. Вася видел это, и сердце у него мучительно сжалось от волнения.
«Неужели неправильно рассчитал? — думал он. — Ну мостик, миленький! Не стой! Падай! Падай!»
Но мост стоял как ни в чём не бывало. Вот уже и машина с солдатами прогромыхала по его перекрытию. Следом за ней на мост въехал бронетранспортёр. За ним второй, третий. И тут центральная опора, возле которой Вася трудился особенно долго, вдруг подогнулась, как колено. Мост, ещё секунду тому назад висевший, как натянутая струна, в мгновение лопнул и вместе с теми, кто на нём был, стремительно полетел вниз. В колонне начался невообразимый шум. Завизжали моторы. Послышались удары железа о железо. В обрыв свалились сразу несколько машин. Раздались вопли. У какой-то машины взорвался бензобак. Над обломками моста взметнулось коптящее бензиновое пламя.
Это была победа! От восторга Васе захотелось вскочить на ноги и что есть силы закричать «ура!» Но он сдержал себя и только сердито проговорил вполголоса:
— Вот так везде вас, гадов, куда бы вы ни сунулись, будут встречать!
Он погрозил фашистам кулаком и, спрятав в кустах свой инструмент, пополз в сторону от пылающей переправы.
Уже позже, вернувшись окольными путями в село, Вася узнал, что гитлеровцы целый день провозились над восстановлением моста и только утром на следующий день смогли продолжать своё наступление.
Фашисты установили в селе свой порядок. Они закрыли школу.
В ней разместился батальон карателей. Распустили колхоз. Всеми делами в селе стал заправлять староста, которому помогали полицаи.
Он так увлёкся этой работой, что не заметил, как побелел горизонт и мутная полоса рассвета медленно расплылась над лесом. Возвращаться в село было уже поздно.
Вася затоптал в грязь опилки и кустами отошёл подальше от моста.
Тут он замаскировался и лёг. Скоро со стороны села послышался тяжёлый гул моторов. Взошло солнце. И на дороге показалась колонна гитлеровских бронетранспортёров, и грузовиков, и мотоциклов. Колонна быстро приближалась к мосту. Несколько мотоциклов, обогнав машины, въехали на мост и, не задерживаясь, проскочили по нему, словно на крыльях. Вася видел это, и сердце у него мучительно сжалось от волнения.
«Неужели неправильно рассчитал? — думал он. — Ну мостик, миленький! Не стой! Падай! Падай!»
Но мост стоял как ни в чём не бывало. Вот уже и машина с солдатами прогромыхала по его перекрытию. Следом за ней на мост въехал бронетранспортёр. За ним второй, третий. И тут центральная опора, возле которой Вася трудился особенно долго, вдруг подогнулась, как колено. Мост, ещё секунду тому назад висевший, как натянутая струна, в мгновение лопнул и вместе с теми, кто на нём был, стремительно полетел вниз. В колонне начался невообразимый шум. Завизжали моторы. Послышались удары железа о железо. В обрыв свалились сразу несколько машин. Раздались вопли. У какой-то машины взорвался бензобак. Над обломками моста взметнулось коптящее бензиновое пламя.
Это была победа! От восторга Васе захотелось вскочить на ноги и что есть силы закричать «ура!» Но он сдержал себя и только сердито проговорил вполголоса:
— Вот так везде вас, гадов, куда бы вы ни сунулись, будут встречать!
Он погрозил фашистам кулаком и, спрятав в кустах свой инструмент, пополз в сторону от пылающей переправы.
Уже позже, вернувшись окольными путями в село, Вася узнал, что гитлеровцы целый день провозились над восстановлением моста и только утром на следующий день смогли продолжать своё наступление.
Фашисты установили в селе свой порядок. Они закрыли школу.
В ней разместился батальон карателей. Распустили колхоз. Всеми делами в селе стал заправлять староста, которому помогали полицаи.
 Каждое утро они обходили село, выгоняли из хат старых и малых и под конвоем отправляли на работу. Даже больных не оставляли полицаи в покое. И тех поднимали на ноги и заставляли работать.
Колхозники люто возненавидели захватчиков. И мстили им. Многие из жителей села ушли в те дни партизанить.
Вася Коробко тоже не мог сидеть сложа руки. Первые боевые вылазки показали ему, что врага вполне можно бить. И теперь он думал только о том, как бы ещё посильнее отомстить фашистам.
Но он понимал, что бить врага без оружия нельзя. И потому первым делом решил достать себе автомат или хотя бы пистолет.
Ему помог случай. Как-то раз кто-то из друзей рассказал Васе о том, что видел в лесу со снарядами и много всякого другого военного имущества. Вася сделал вид, что всё это его мало интересует. Но на следующий же день пробрался в лес и обшарил всю поляну. Там, в кустах, он нашёл вполне исправную боевую винтовку и целую банку патронов.
Наконец-то у него появилось оружие.
С этого дня в окрестностях села загремели выстрелы. Едва стоило на дороге появиться машине с фашистами или группе фашистских солдат, в них из леса летели пули. И хотя, как правило, урона врагу они не наносили, покоя у гитлеровцев стало ещё меньше. Теперь им казалось, что за каждым деревом их поджидает партизанская засада.
Но гитлеровцы ошибались. Их обстреливали не партизаны, а Вася Коробко. Так прошло недели две или три. И неизвестно, чем бы это всё кончилось, если бы однажды не произошёл такой случай.
Как-то, обстреляв очередную группу фашистов, Вася собирался уходить в глубь леса. Вдруг кто-то крепко схватил его за руки. Вася рванулся. Но было поздно. У него отобрали винтовку, повалили на землю, и кто-то очень сердито проговорил:
— А мы голову ломаем, что тут за Аника-воин объявился!
Вася оглянулся и увидел людей в штатском. Двое из них показались ему знакомыми.
— Была бы моя власть, всыпал бы я тебе, чертяке, ремня! — продолжал всё тот же голос.
— Отпустите его. Это же наш хлопец из села Погорельцы.
Васю отпустили. Он вскочил на ноги и сразу опознал обезоруживших его людей — колхозники из соседнего села. В Погорельцах давно уже говорили, что они ушли партизанить. Узнал Вася и мужчину с сердитым голосом. Это был уполномоченный райкома партии.
До войны он часто выступал в колхозе с докладами.
По дороге в штаб партизаны объяснили Васе, что своей стрельбой он только пугал фашистов и тем самым не давал партизанам захватить их врасплох.
Каждое утро они обходили село, выгоняли из хат старых и малых и под конвоем отправляли на работу. Даже больных не оставляли полицаи в покое. И тех поднимали на ноги и заставляли работать.
Колхозники люто возненавидели захватчиков. И мстили им. Многие из жителей села ушли в те дни партизанить.
Вася Коробко тоже не мог сидеть сложа руки. Первые боевые вылазки показали ему, что врага вполне можно бить. И теперь он думал только о том, как бы ещё посильнее отомстить фашистам.
Но он понимал, что бить врага без оружия нельзя. И потому первым делом решил достать себе автомат или хотя бы пистолет.
Ему помог случай. Как-то раз кто-то из друзей рассказал Васе о том, что видел в лесу со снарядами и много всякого другого военного имущества. Вася сделал вид, что всё это его мало интересует. Но на следующий же день пробрался в лес и обшарил всю поляну. Там, в кустах, он нашёл вполне исправную боевую винтовку и целую банку патронов.
Наконец-то у него появилось оружие.
С этого дня в окрестностях села загремели выстрелы. Едва стоило на дороге появиться машине с фашистами или группе фашистских солдат, в них из леса летели пули. И хотя, как правило, урона врагу они не наносили, покоя у гитлеровцев стало ещё меньше. Теперь им казалось, что за каждым деревом их поджидает партизанская засада.
Но гитлеровцы ошибались. Их обстреливали не партизаны, а Вася Коробко. Так прошло недели две или три. И неизвестно, чем бы это всё кончилось, если бы однажды не произошёл такой случай.
Как-то, обстреляв очередную группу фашистов, Вася собирался уходить в глубь леса. Вдруг кто-то крепко схватил его за руки. Вася рванулся. Но было поздно. У него отобрали винтовку, повалили на землю, и кто-то очень сердито проговорил:
— А мы голову ломаем, что тут за Аника-воин объявился!
Вася оглянулся и увидел людей в штатском. Двое из них показались ему знакомыми.
— Была бы моя власть, всыпал бы я тебе, чертяке, ремня! — продолжал всё тот же голос.
— Отпустите его. Это же наш хлопец из села Погорельцы.
Васю отпустили. Он вскочил на ноги и сразу опознал обезоруживших его людей — колхозники из соседнего села. В Погорельцах давно уже говорили, что они ушли партизанить. Узнал Вася и мужчину с сердитым голосом. Это был уполномоченный райкома партии.
До войны он часто выступал в колхозе с докладами.
По дороге в штаб партизаны объяснили Васе, что своей стрельбой он только пугал фашистов и тем самым не давал партизанам захватить их врасплох.
 Но в общем-то уполномоченный не очень сильно ругал Васю. А когда узнал, как над ним подшутили пулемётчики и что это именно он, Вася, подпилил сваи у моста, то совсем перестал сердиться.
Даже рассмеялся и сказал:
— Геройский ты хлопец, Василь. Только и партизанить надо организованно. Ну да теперь тебе дадут настоящее задание.
Так оно и получилось. Спустя несколько дней Вася вернулся в родное село, а ещё немного позднее явился в школу к фашистскому коменданту и попросил, чтобы ему дали какую-нибудь работу. Комендант разрешил Васе колоть дрова и топить в школе печь. Вася очень старательно взялся за дело. Работа так и кипела в его руках. Все задания он выполнял быстро и аккуратно. Гитлеровцы скоро привыкли к смышлёному пареньку и разрешили ему заняться уборкой помещений, в которых жили. Вася и с этим делом справился успешно. Гитлеровцы стали доверять ему ещё больше. И однажды гитлеровский офицер вызвал Васю к себе.
— Скажи мне, русский паренёк, хорошо ли ты знаешь лес за мостом? — спросил он его.
— Бывал я там, господин офицер. Не раз ходил туда за грибами, — ответил Вася.
— А смог ли ты провести на ту сторону болота нашу роту? — допытывался гитлеровец.
— Дело нехитрое, можно и провести, — согласился Вася.
— Зер гут! — обрадовался гитлеровец и показал Васе карту. — Вот сюда ты должен привести нас. Понял?
Вася кивнул головой. На карте были видны зелёные, коричневые синие пятна и ещё были нарисованы красные стрелы. Что они обозначают, Вася не знал. Но он отлично понял, что гитлеровцы задумали окружить и уничтожить партизан.
Сердце у Васи тревожно забилось. «Такое допустить нельзя!
Лучше я сам погибну, чем приведу этих фашистских бандитов к партизанам!» — взволнованно подумал он. Но волнения своего не показал и спокойно ответил гитлеровцу:
— Всё понял, господин офицер.
— Зер гут! Зер гут! Ты очень хороший паренёк! — ещё больше обрадовался гитлеровец.
Как только стемнело, рота карателей, вооружившись пулемётами, выступила из леса.
Но в общем-то уполномоченный не очень сильно ругал Васю. А когда узнал, как над ним подшутили пулемётчики и что это именно он, Вася, подпилил сваи у моста, то совсем перестал сердиться.
Даже рассмеялся и сказал:
— Геройский ты хлопец, Василь. Только и партизанить надо организованно. Ну да теперь тебе дадут настоящее задание.
Так оно и получилось. Спустя несколько дней Вася вернулся в родное село, а ещё немного позднее явился в школу к фашистскому коменданту и попросил, чтобы ему дали какую-нибудь работу. Комендант разрешил Васе колоть дрова и топить в школе печь. Вася очень старательно взялся за дело. Работа так и кипела в его руках. Все задания он выполнял быстро и аккуратно. Гитлеровцы скоро привыкли к смышлёному пареньку и разрешили ему заняться уборкой помещений, в которых жили. Вася и с этим делом справился успешно. Гитлеровцы стали доверять ему ещё больше. И однажды гитлеровский офицер вызвал Васю к себе.
— Скажи мне, русский паренёк, хорошо ли ты знаешь лес за мостом? — спросил он его.
— Бывал я там, господин офицер. Не раз ходил туда за грибами, — ответил Вася.
— А смог ли ты провести на ту сторону болота нашу роту? — допытывался гитлеровец.
— Дело нехитрое, можно и провести, — согласился Вася.
— Зер гут! — обрадовался гитлеровец и показал Васе карту. — Вот сюда ты должен привести нас. Понял?
Вася кивнул головой. На карте были видны зелёные, коричневые синие пятна и ещё были нарисованы красные стрелы. Что они обозначают, Вася не знал. Но он отлично понял, что гитлеровцы задумали окружить и уничтожить партизан.
Сердце у Васи тревожно забилось. «Такое допустить нельзя!
Лучше я сам погибну, чем приведу этих фашистских бандитов к партизанам!» — взволнованно подумал он. Но волнения своего не показал и спокойно ответил гитлеровцу:
— Всё понял, господин офицер.
— Зер гут! Зер гут! Ты очень хороший паренёк! — ещё больше обрадовался гитлеровец.
Как только стемнело, рота карателей, вооружившись пулемётами, выступила из леса.
 Вася самым коротким путём привёл фашистов к болоту. Но здесь он неожиданно изменил маршрут. В лесу было темно. Гитлеровцы двигались почти на ощупь и не заметили поворота. А Вася воспользовался этим и повёл их совсем в другую сторону, туда, где притаились в засаде полицаи.
Всё дальнейшее произошло именно так, как он и предполагал.
Наткнувшись на полицаев, гитлеровцы в темноте приняли их за партизан и открыли по ним бешеный огонь, из всех пулемётов и автоматов.
Полицаи подняли крик. Но фашисты ничего не хотели слушать. Они были уверены, что стреляют в партизан, и стреляли до тех пор, пока не перебили всех полицаев.
Партизаны же, услыхав начавшуюся перестрелку, спокойно ушли из лагеря в глубь леса.
Вместе с ними ушёл и Вася. Возвращаться в село ему было уже нельзя, и он навсегда остался в отряде.
Много замечательных подвигов совершил во имя любимой Родины юный герой. Вместе со своими боевыми товарищами он пустил под откос девять вражеских эшелонов, уничтожил не одну сотню гитлеровских вояк.
За эти подвиги он был награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени и партизанской медалью.
Но однажды Вася не вернулся с боевого задания.
В ту ночь партизаны решили взорвать мост, по которому к фронту двигались эшелоны с гитлеровскими войсками. В составе подрывников был и Вася. Мост усиленно охранялся гитлеровскими патрулями.
Ловко, без всякого шума, дозорные сняли охрану. Путь подрывникам был открыт.
Партизаны успешно выполнили задуманную операцию. Фашисты спохватились, открыли стрельбу, но было поздно. Партизаны отходили в лес. В группе прикрытия был Вася. Очередь фашистского пулемёта сразила юного партизана. Вася погиб как герой, как настоящий солдат.
Вася Коробко родился в селе Погорельцы Черниговской области УССР.
Пионеры погорельцевской школы свято чтят память своего земляка, пионера-героя Васи Коробко, зачислив его навечно почётным знаменосцем дружинного знамени, которое он спас.
За мужество и героизм, лично проявленные в борьбе с фашистами, Вася Коробко был награждён орденом Ленина, орденом Красного знамени, орденом Отечественной войны I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
Вася самым коротким путём привёл фашистов к болоту. Но здесь он неожиданно изменил маршрут. В лесу было темно. Гитлеровцы двигались почти на ощупь и не заметили поворота. А Вася воспользовался этим и повёл их совсем в другую сторону, туда, где притаились в засаде полицаи.
Всё дальнейшее произошло именно так, как он и предполагал.
Наткнувшись на полицаев, гитлеровцы в темноте приняли их за партизан и открыли по ним бешеный огонь, из всех пулемётов и автоматов.
Полицаи подняли крик. Но фашисты ничего не хотели слушать. Они были уверены, что стреляют в партизан, и стреляли до тех пор, пока не перебили всех полицаев.
Партизаны же, услыхав начавшуюся перестрелку, спокойно ушли из лагеря в глубь леса.
Вместе с ними ушёл и Вася. Возвращаться в село ему было уже нельзя, и он навсегда остался в отряде.
Много замечательных подвигов совершил во имя любимой Родины юный герой. Вместе со своими боевыми товарищами он пустил под откос девять вражеских эшелонов, уничтожил не одну сотню гитлеровских вояк.
За эти подвиги он был награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени и партизанской медалью.
Но однажды Вася не вернулся с боевого задания.
В ту ночь партизаны решили взорвать мост, по которому к фронту двигались эшелоны с гитлеровскими войсками. В составе подрывников был и Вася. Мост усиленно охранялся гитлеровскими патрулями.
Ловко, без всякого шума, дозорные сняли охрану. Путь подрывникам был открыт.
Партизаны успешно выполнили задуманную операцию. Фашисты спохватились, открыли стрельбу, но было поздно. Партизаны отходили в лес. В группе прикрытия был Вася. Очередь фашистского пулемёта сразила юного партизана. Вася погиб как герой, как настоящий солдат.
Вася Коробко родился в селе Погорельцы Черниговской области УССР.
Пионеры погорельцевской школы свято чтят память своего земляка, пионера-героя Васи Коробко, зачислив его навечно почётным знаменосцем дружинного знамени, которое он спас.
За мужество и героизм, лично проявленные в борьбе с фашистами, Вася Коробко был награждён орденом Ленина, орденом Красного знамени, орденом Отечественной войны I степени, медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.

ВИТЯ КОРОБКОВ Суворина Екатерина Иосифовна




Шумит и грохочет море. На песчаный берег накатываются зелёные волны с белыми гребешками пены. Накатываются и быстро убегают в море. Витя стоит на набережной и следит за волнами. Вот какая огромная набежала, чуть до его ног не докатилась. А за ней ещё одна. Он отскочил назад, достал из сумки карандаш, тетрадку. «Эх, беда, вся тетрадка исписана. Да ничего! Можно рисовать и на обложке». Витя сел на груду гальки, намытую морем, сумку — на колени, на неё тетрадь и стал зарисовывать волны. «Если выйдет, покажу Николаю Степановичу»… Нет, не успел зарисовать. Не сумел. Теперь хотелось рисовать совсем другое. Горы, а в горах партизаны. Когда со школой были на экскурсии, ехали через Шепетовку на Кизилташ до самого Судака. Здесь в гражданскую войну все дороги были исхожены партизанами… Сидеть на гальке холодно… Витя вскочил, бросил тетрадь в сумку и побежал домой.
* * *
В воскресенье он долго рассматривал в галерее картины Айвазовского. Николай Степанович Барсамов, художник, заведующий галереей, подошёл к нему, рассказал о картине «Девятый вал». Он уже раньше смотрел Витины рисунки. Они понравились — велел приносить новые, показывать ему. «Как хочется быть настоящим художником!..» По дороге домой Витя забежал к товарищу. — Эге! Юра! Ты дома? — Дома! — раздалось в ответ. — Будем сегодня записывать! Они решили вести дневник, записывать в нём всё интересное, что с ними случалось. А ещё условились писать историю двух приятелей-сорванцов, о всех их проделках, приключениях. — Это мы про себя будем писать, да? — спросил Юра. — Про себя и не про себя, — засмеялся Витя. — Одного назовём… Том. Это вроде буду я. Ладно? А ты — ты будешь Бен. Хорошо? — Ладно, — согласился Юра, — Бен и Том. — Да, — сказал Витя, — Том и Бен. И они стали распевать: Том и Бен, Том и Бен! БеныТом, БеныТом! Стало очень весело. Они ещё несколько раз пропели, потом Витя вскочил: — Совсем забыл! Уголь из погреба надо принести.* * *
На другой день после уроков Витя сказал: — Слушай, Бен, я зову тебя в горы. Будем там искать землянки партизан. Юра засмеялся: — Понимаешь, Том, я с удовольствием, но если мы уйдём надолго, бабушка моя будет горевать, честное слово… То есть, не моя бабушка, а Бена. — Что?! — закричал Том. — У Бена никогда не было бабушки!.. Оба прыснули. — Знаешь что, — уже серьёзно сказал Витя, — говори начистоту. Согласен ты путешествовать или нет? — Я? Путешествовать? — переспросил Юра. — Сию минуту? Погоди. Я или Бен?.. Вите предстояло настоящее путешествие. В этом году он хорошо учился, и от школы его послали в Артек. Он ехал и радовался всему, что ждёт его. Один раз он уже был в Артеке. Там катера и шлюпки, на них катали всех ребят далеко в море; там качели, ходули, даже велосипеды… Вите нравилось, когда по утрам запевали горны, когда поднимали артековский флаг, и он вился на ветру… Днём устраивали разные игры, ходили в походы… А вечером собирались у костра, и вожатая Зоя рассказывала о героях гражданской войны, о партизанах. Потом все пели любимую песню Вити.* * *
Неожиданно пришла беда. По радио объявили, что началась война с фашистами. Ребята притихли, прислушивались к разговорам старших. На другой день над Артеком появились фашистские бомбардировщики. Детей из Артека стали спешно отправлять по домам. Уезжал и Витя. Он беспокоился об отце, который в последнее время болел, и о матери: «Наверное, волнуется за меня». В порту ревели сирены. Вражеские самолёты сбрасывали бомбы. Виктория Карповна не находила себе места. — Надо уезжать в деревню. Скорей бы вернулся Витя… От остановки автобуса Витя не шёл, а бежал. То там, то здесь слышались взрывы, тучи дыма и пыли взвивались кверху. «Вот она какая, война, страшная…» — думал Витя. Он уже был у калитки, когда услышал противный воющий свист летящей бомбы. В окне второго этажа мельком увидел мать. С грохотом взвилось облако щебня, пыли, кирпичей. Стена дома вместе с окном рассыпалась и упала. «Мама!» — закричал Витя.
Отец был во дворе, бросился к разрушенному дому.
Вместе с Витей и проходящими красноармейцами откопали мать. «Скорая помощь» увезла её в больницу.
Он уже был у калитки, когда услышал противный воющий свист летящей бомбы. В окне второго этажа мельком увидел мать. С грохотом взвилось облако щебня, пыли, кирпичей. Стена дома вместе с окном рассыпалась и упала. «Мама!» — закричал Витя.
Отец был во дворе, бросился к разрушенному дому.
Вместе с Витей и проходящими красноармейцами откопали мать. «Скорая помощь» увезла её в больницу.
* * *
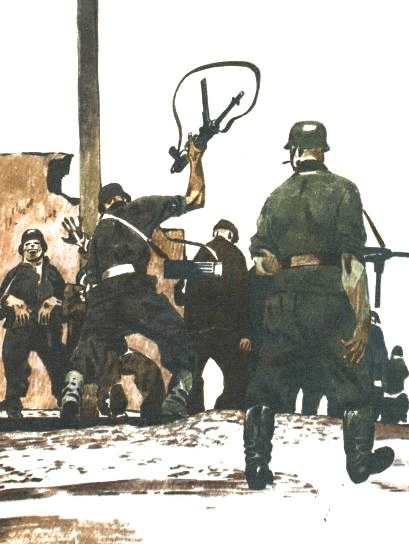 В город ворвались фашисты. Многие люди, не успевшие уехать, уходили в горы.
Фашисты при первом подозрении хватали, вешали на набережной — там поставили виселицы — или увозили в грузовиках за город и расстреливали во рву.
В городе стало мрачно, страшно. Люди с опаской пробегали по улицам.
Отец сидел дома, укутавшись в одеяло, его знобило.
Трудно приходилось Вите: надо доставать продукты, хлеб, варить похлёбку, топить печь…
А ведь Вите всего двенадцать лет.
Фашисты прислали за отцом, потребовали, чтобы работал в типографии. Михаил Иванович не хотел идти. Ему пригрозили гестапо.
Расстроенный, он оделся и ушёл посоветоваться с друзьями.
На другой день отец собирался на работу в типографию. Витя укорительно посмотрел на него.
— Не смотри косо, — отец ласково взглянул на сына. — Так надо. Если мы не будем бороться, нас всех превратят в рабов…
В город ворвались фашисты. Многие люди, не успевшие уехать, уходили в горы.
Фашисты при первом подозрении хватали, вешали на набережной — там поставили виселицы — или увозили в грузовиках за город и расстреливали во рву.
В городе стало мрачно, страшно. Люди с опаской пробегали по улицам.
Отец сидел дома, укутавшись в одеяло, его знобило.
Трудно приходилось Вите: надо доставать продукты, хлеб, варить похлёбку, топить печь…
А ведь Вите всего двенадцать лет.
Фашисты прислали за отцом, потребовали, чтобы работал в типографии. Михаил Иванович не хотел идти. Ему пригрозили гестапо.
Расстроенный, он оделся и ушёл посоветоваться с друзьями.
На другой день отец собирался на работу в типографию. Витя укорительно посмотрел на него.
— Не смотри косо, — отец ласково взглянул на сына. — Так надо. Если мы не будем бороться, нас всех превратят в рабов…
* * *
Витя часто ходил по улицам города, как и все мальчишки. Немцы на него не обращали внимания, он выглядел младше своих лет. Витя видел: фашисты угоняли в Германию женщин, детей. Тех, кто оставался, заставляли идти на работу: очищать порт от щебня и железа после бомбёжек, огораживать берег колючей проволокой…
Витя жалел, что он ещё маленький, а то бы он давно уже дрался на фронте с винтовкой в руках или, может быть, строчил из пулемёта… А сейчас что он мог сделать?
Скоро среди жителей прошёл слух: в горах появились партизаны. Они нападали на фашистов, подкладывали мины — взрывались и летели в пропасть машины.
Витя решил: «Пойду к партизанам!»
Витя видел: фашисты угоняли в Германию женщин, детей. Тех, кто оставался, заставляли идти на работу: очищать порт от щебня и железа после бомбёжек, огораживать берег колючей проволокой…
Витя жалел, что он ещё маленький, а то бы он давно уже дрался на фронте с винтовкой в руках или, может быть, строчил из пулемёта… А сейчас что он мог сделать?
Скоро среди жителей прошёл слух: в горах появились партизаны. Они нападали на фашистов, подкладывали мины — взрывались и летели в пропасть машины.
Витя решил: «Пойду к партизанам!»
* * *
В эти дни Витя как-то особенно подружился со своим двоюродным братом Сашей, тоже школьником, вместе носились по городу. Как-то они зашли в дом, где жил Юра, узнать, что с ним. Во дворе немец-денщик ставил самовар. Улучив момент, они вошли в комнату. Там никого не было. На этажерке, рядом с офицерской фуражкой, лежал браунинг. Витя схватил его, кивнул Саше, и они убежали. Револьвер зарыли в ложбинке в горах. Через несколько дней Витя и Саша напросились помочь солдату разгрузить машину. Солдат даже обещал дать хлеба и сахару. Витя, таская ящики, нащупал в них патроны и набил карманы. Прошло недели три. Никто с обыском не приходил. Значит, обошлось. Поздно вечером Витя вырыл браунинг, принёс домой, хотел было спрятать в сенях, чтобы при первой возможности уйти в город к партизанам. Постучал в дверь. Открыла соседка, врач Нина Сергеевна. Пришлось с браунингом и патронами в кармане идти в комнату. У печурки сидели отец и незнакомый человек. — Вот мой сын, — сказал отец. — Парень ловкий. Умный. Витя улыбнулся. Никогда отец его так не хвалил. Человек стал спрашивать Витю, не заметил ли он, где стоят немцы, их машины, орудия. Не может ли Витя узнать, где расположился штаб. — А я и так знаю, — сказал Витя. — В Качмарском переулке стоит штаб. Там много фашистов.
— Вот что… — сказал незнакомец, — нужны точные данные. Понял? Точные.
— Понял, — тихо ответил Витя и встал.
Сердце его прыгало. Витя не знал, что это был разведчик фронта Николай Александрович Козлов, но чувствовал, что это свой человек и ему надо помогать.
— И вот что ещё… Ты меня не видел и не знаешь. — И обратился к Михаилу Ивановичу: — Нужны пропуска.
— Отпечатаем, — ответил отец, — лишь бы образец достать.
— Зови меня дядя Коля, — сказал незнакомец и стукнул по оттопыренному карману Вити: — Оружие отдай. Твоё дело другое.
— Понял, — волнуясь, ответил Витя. — Я к партизанам хотел уходить.
— Ты здесь нужен. Комсомолец?
— Не успел ещё. Пионер только.
— Это тоже хорошо. Значит, мы договорились. И ещё — записывать нельзя. Запоминай. Меня не ищи — сам тебя найду. Действуй, брат, служи Советскому Союзу.
— Служу Советскому Союзу! — с гордостью повторил Витя. Глаза его сияли.
— А я и так знаю, — сказал Витя. — В Качмарском переулке стоит штаб. Там много фашистов.
— Вот что… — сказал незнакомец, — нужны точные данные. Понял? Точные.
— Понял, — тихо ответил Витя и встал.
Сердце его прыгало. Витя не знал, что это был разведчик фронта Николай Александрович Козлов, но чувствовал, что это свой человек и ему надо помогать.
— И вот что ещё… Ты меня не видел и не знаешь. — И обратился к Михаилу Ивановичу: — Нужны пропуска.
— Отпечатаем, — ответил отец, — лишь бы образец достать.
— Зови меня дядя Коля, — сказал незнакомец и стукнул по оттопыренному карману Вити: — Оружие отдай. Твоё дело другое.
— Понял, — волнуясь, ответил Витя. — Я к партизанам хотел уходить.
— Ты здесь нужен. Комсомолец?
— Не успел ещё. Пионер только.
— Это тоже хорошо. Значит, мы договорились. И ещё — записывать нельзя. Запоминай. Меня не ищи — сам тебя найду. Действуй, брат, служи Советскому Союзу.
— Служу Советскому Союзу! — с гордостью повторил Витя. Глаза его сияли.
* * *
Целыми днями теперь Витя разгуливал по улицам сначала с Сашей, потом один. Смотрел, где размещаются войска, где живут генералы, офицеры. Подходил к солдатам, здоровался по-немецки, дурачился, выспрашивал новые слова, прислушивался к разговорам… А сам хорошо запоминал, какие орудия разгружают в порту с кораблей, сколько танков, зениток. Несколько дней Витя крутился возле дальнего поста, где часовой отбирал пропуска у выходящих из города. Нужно было достать образец. Случай помог ему. Ветер вырвал из рук часового пропуск. Витя незаметно наступил на него ногой. Выбрал момент, поднял и убежал.* * *
Уже два года в Феодосии фашисты. На улицах облавы. В домах обыски, аресты. Совхоз «Красный» за городом превратился в лагерь смерти. Враги лютовали. За отцом Вити начали следить. Его вызывали на допрос, требовали, чтоб сказал, кто печатает листовки. Коробковы решили: надо уходить из города. Виктория Карловна уйдёт в деревню Субаш, а Витя с отцом — к партизанам. Витя достал свой пионерский галстук, спрятал его под рубашкой. Перед уходом ещё раз прошёл по городу. Над разрушенной стеной свесились широкие ветви разросшегося орехового дерева. Витя постоял, посмотрел. Никого вокруг не было. Отважная мысль пришла ему в голову. Он взбежал по развалинам стены, добрался до дерева, по ветвям залез на самую вершину и привязал там пионерский галстук. Витя спрыгнул, отошёл далеко, до самого конца улицы, и обернулся. В лучах заходящего солнца бился на ветру красный галстук. «Люди порадуются», — подумал он с гордостью. Через два дня Витя с отцом были у партизан. — Коробков Михаил Иванович и Коробков Виктор зачисляются разведчиками штаба третьей бригады Восточного соединения партизан Крыма, — объявил комбриг Куликовский. И добавил: — Вольно! Наступила осень с дождями, ветром. Печурка быстро выстывала.
Люди мерзли. Спали все вместе, чтобы согреться. Иногда под горой зажигали костёр, сушили одежду.
Партизаны выходили на дорогу, уничтожали вражеских солдат, орудия, машины.
Витя просил Куликовского посылать его с партизанами в дозор, на посты.
— Тебя ждёт другое дело, — говорил Куликовский. — Ты пока изучай местность, все дороги, все тропки, откуда идут и куда. Местность у нас пречудесная — горы, овраги, обрывы.
Вот и задание. Витя идёт в деревню Бараколь. Медленно, будто гуляет.
Наступила осень с дождями, ветром. Печурка быстро выстывала.
Люди мерзли. Спали все вместе, чтобы согреться. Иногда под горой зажигали костёр, сушили одежду.
Партизаны выходили на дорогу, уничтожали вражеских солдат, орудия, машины.
Витя просил Куликовского посылать его с партизанами в дозор, на посты.
— Тебя ждёт другое дело, — говорил Куликовский. — Ты пока изучай местность, все дороги, все тропки, откуда идут и куда. Местность у нас пречудесная — горы, овраги, обрывы.
Вот и задание. Витя идёт в деревню Бараколь. Медленно, будто гуляет.
 Вот часовой. А там еще один. Надо запомнить.
Витя спокойно входит в деревню, идёт по улице. Машина стоит. А во дворе солдаты. Витя вбегает в соседний двор, там валяется обруч, хватает его и гонит по улице. Пусть смотрят солдаты. Он просто играет.
Тётя Поля в Бараколе
Пирожки печёт, пирожки печёт… — напевает Витя и весело бежит за обручем.
Солдатская кухня. Деревенские ребята стоят поодаль. Голодные. А здесь так вкусно пахнет!
Вот часовой. А там еще один. Надо запомнить.
Витя спокойно входит в деревню, идёт по улице. Машина стоит. А во дворе солдаты. Витя вбегает в соседний двор, там валяется обруч, хватает его и гонит по улице. Пусть смотрят солдаты. Он просто играет.
Тётя Поля в Бараколе
Пирожки печёт, пирожки печёт… — напевает Витя и весело бежит за обручем.
Солдатская кухня. Деревенские ребята стоят поодаль. Голодные. А здесь так вкусно пахнет!
 Витя заглядывает во двор. Тут много солдат. Он стоит и считает. Солдаты прогоняют детей. За воротами — танки. Сколько их? Он снова заглядывает во двор. Перед ним немец.
— Их вилль эссен… Я хочу кушать, — говорит ему Витя.
— Но! — кричит тот и смотрит на Витю светлыми глазами с белыми ресницами.
Витя катит обруч дальше по улице.
Тётя Поля в Бараколе
Весело живёт…
Пулемётное гнездо. Орудие. Одно, два. А вот ещё одно. Не сбиться бы.
Белобрысый идёт за ним.
Надо бежать.
Не раздумывая, Витя бросается в ближайшую хату.
Бледная женщина удивлённо смотрит на Витю.
— Тётя! Тётя! — спешит сказать Витя, пока не вошёл белобрысый. — Бабушка моя не пришла ещё? Скажите, не пришла моя бабушка?
Немец уже вошёл. Не обращая на него внимания, женщина подходит к Вите и больно бьёт его по спине.
— «Бабушка!» Я тебе дам «бабушка»! Куда обруч дел? Не знаешь, что ли, мне обруч на бочку нужен.
— Да что вы? — говорит мальчик, а женщина колотит его по спине.
Потом подымает глаза на немца:
— Видите, пан, какой озорной. Схватил обруч и побежал. А мне его на бочку надо. А теперь «бабушка, бабушка»…
И, неожиданно рассмеявшись, говорит Вите:
— Кашу будешь есть, шалопут? — и обращается к немцу: — Садитесь, пан.
Немец берёт под козырёк и уходит.
— Ешь, глупый, ешь! — шепчет женщина. — Откуда ты взялся? Каждого чужого хватают, не знаешь, что ли?
Витя молча глотает холодную кашу.
— Вот и мой такой, только постарше. Где он теперь, кто его знает… Ну, иди скорей. Кто спросит, скажи: приходил к тётке из города…
Витя заглядывает во двор. Тут много солдат. Он стоит и считает. Солдаты прогоняют детей. За воротами — танки. Сколько их? Он снова заглядывает во двор. Перед ним немец.
— Их вилль эссен… Я хочу кушать, — говорит ему Витя.
— Но! — кричит тот и смотрит на Витю светлыми глазами с белыми ресницами.
Витя катит обруч дальше по улице.
Тётя Поля в Бараколе
Весело живёт…
Пулемётное гнездо. Орудие. Одно, два. А вот ещё одно. Не сбиться бы.
Белобрысый идёт за ним.
Надо бежать.
Не раздумывая, Витя бросается в ближайшую хату.
Бледная женщина удивлённо смотрит на Витю.
— Тётя! Тётя! — спешит сказать Витя, пока не вошёл белобрысый. — Бабушка моя не пришла ещё? Скажите, не пришла моя бабушка?
Немец уже вошёл. Не обращая на него внимания, женщина подходит к Вите и больно бьёт его по спине.
— «Бабушка!» Я тебе дам «бабушка»! Куда обруч дел? Не знаешь, что ли, мне обруч на бочку нужен.
— Да что вы? — говорит мальчик, а женщина колотит его по спине.
Потом подымает глаза на немца:
— Видите, пан, какой озорной. Схватил обруч и побежал. А мне его на бочку надо. А теперь «бабушка, бабушка»…
И, неожиданно рассмеявшись, говорит Вите:
— Кашу будешь есть, шалопут? — и обращается к немцу: — Садитесь, пан.
Немец берёт под козырёк и уходит.
— Ешь, глупый, ешь! — шепчет женщина. — Откуда ты взялся? Каждого чужого хватают, не знаешь, что ли?
Витя молча глотает холодную кашу.
— Вот и мой такой, только постарше. Где он теперь, кто его знает… Ну, иди скорей. Кто спросит, скажи: приходил к тётке из города…
 На следующий день партизаны двинулись к селу Бараколь. Впереди, рядом с комбригом, шёл Витя.
Партизаны уничтожили орудия, танки. Фашисты в Бараколе были разгромлены.
На следующий день партизаны двинулись к селу Бараколь. Впереди, рядом с комбригом, шёл Витя.
Партизаны уничтожили орудия, танки. Фашисты в Бараколе были разгромлены.

* * *
Новое задание. Разведка в деревне Эйсерес. Витя был вместе с больным отцом. Им удалось всё разузнать: и о количестве войск, и об их орудиях. Теперь надо скорей уходить. Как нарочно, в тот вечер на улицах было много солдат. Витя, может быть, и сумел бы незамеченным ускользнуть из деревни, но Михаил Иванович едва шёл, его шатало. Вряд ли он смог бы, не обратив на себя внимания, выйти в поле. И Витя придумал, как быть. Он вынул гармошку и, подойдя к группе солдат, стал наигрывать немецкую песенку. Он фальшивил, немецкий солдат начал подпевать, поправляя его, к нему присоединились и другие. Витю окружили. Он заиграл «Катюшу». Витя тянул время, чтобы дать уйти отцу. Он переходил от одной песенки к другой. Из хат выходили крестьяне, стояли, слушали. И вдруг Витя заиграл:По военной дороге Шёл в борьбе и тревоге Боевой восемнадцатый год…Он видел, как стали приближаться женщины, подростки: из дома вышел старик и смотрел на Витю влюбленными глазами. Какая-то девушка, надвинув на глаза платок, беззвучно плакала. Немцы переглядывались. Витя встревожился. Он резко перешёл на плясовую, сначала немножко притоптывал, потом махнул рукой, вроде ему надоело играть, и, посвистывая, побрёл по улице. Становилось темно. Он легко вышел из деревни, догнал отца. Михаил Иванович не смог повести партизан на Эйсерес. Он был совсем болен. Это сделал Витя. Почти вся группа фашистов в Эйсересе была уничтожена.
* * *
Партизанам предстояло менять стоянку. Коробкову надо было отлежаться в тепле. Вите пришлось вместе с отцом вернуться в Феодосию. Город казался мёртвым. Так мало осталось там людей. Возле базара стояло несколько человек, они что-то обменивали на продукты. Коробкову показалось, что на него глянули чьи-то недобрые глаза, он не заметил чьи, человек отвернулся.
На другой день Коробковых арестовали.
Город казался мёртвым. Так мало осталось там людей. Возле базара стояло несколько человек, они что-то обменивали на продукты. Коробкову показалось, что на него глянули чьи-то недобрые глаза, он не заметил чьи, человек отвернулся.
На другой день Коробковых арестовали.
* * *
Сквозь маленькое запылённое окошечко едва пробивается свет. Недавно здесь было несколько человек. Их увели.
 Теперь осталось двое — Витя Коробков и Валя Ковтун. Он немного старше Вити, ему очень страшно: попал в облаву, его схватили. Он успел расклеить листовки, у него ничего не нашли, но всё равно страшно…
Что с отцом, Витя не знает.
Вчера допрашивали. Немецкий лейтенант, сидя за столом, что-то сказал типу с хлыстом. Тот двинулся к Вите, крикнул:
— Партизан? Признавайся! Из леса пришёл! Хочешь жив остаться, говори.
— Не был в лесу.
— Отец твой сказал, что были.
— Не мог сказать. Мы в деревне были.
— Врёшь! — он взмахнул рукой раз, другой, его хлыст выжег рубцы на шее и плечах…
Лицо Вити побелело. Он вытянулся во весь рост.
— Ничего не знаю, ничего не скажу! — с хрипом крикнул Витя и до боли закусил губы.
Его бросили снова в камеру. Витя прикладывает свои замёрзшие руки к шее, где горят рубцы.
«Они думают, что нас покорят, что мы будем кланяться им, как рабы. Не выйдет!..»
Уткнувшись подбородком в колени, он тяжело вздыхает… Четвёртое марта 1944 года — день рождения Вити, ему пятнадцать лет.
Мать принесла два узелка — отцу и сыну: всё, что могла достать — сухари и селёдку. Берут только один узелок.
— Михаила Ивановича Коробкова здесь нет. Его отправили в Симферополь.
Молчание наступает у тюрьмы. Все знают: так говорят, когда человека больше нет.
Партизаны выведали, кто предал Коробковых, кто был тот враг, что встретил их у базара. Предателя приговорили к смерти.
Теперь осталось двое — Витя Коробков и Валя Ковтун. Он немного старше Вити, ему очень страшно: попал в облаву, его схватили. Он успел расклеить листовки, у него ничего не нашли, но всё равно страшно…
Что с отцом, Витя не знает.
Вчера допрашивали. Немецкий лейтенант, сидя за столом, что-то сказал типу с хлыстом. Тот двинулся к Вите, крикнул:
— Партизан? Признавайся! Из леса пришёл! Хочешь жив остаться, говори.
— Не был в лесу.
— Отец твой сказал, что были.
— Не мог сказать. Мы в деревне были.
— Врёшь! — он взмахнул рукой раз, другой, его хлыст выжег рубцы на шее и плечах…
Лицо Вити побелело. Он вытянулся во весь рост.
— Ничего не знаю, ничего не скажу! — с хрипом крикнул Витя и до боли закусил губы.
Его бросили снова в камеру. Витя прикладывает свои замёрзшие руки к шее, где горят рубцы.
«Они думают, что нас покорят, что мы будем кланяться им, как рабы. Не выйдет!..»
Уткнувшись подбородком в колени, он тяжело вздыхает… Четвёртое марта 1944 года — день рождения Вити, ему пятнадцать лет.
Мать принесла два узелка — отцу и сыну: всё, что могла достать — сухари и селёдку. Берут только один узелок.
— Михаила Ивановича Коробкова здесь нет. Его отправили в Симферополь.
Молчание наступает у тюрьмы. Все знают: так говорят, когда человека больше нет.
Партизаны выведали, кто предал Коробковых, кто был тот враг, что встретил их у базара. Предателя приговорили к смерти.
* * *
— …Когда кончится война и прогонят фашистов, я тогда напишу картину, как мы с тобой, Валька, сидели тут в тюрьме. Всё как есть напишу. Сидишь ты тут белый, как стена, и глаза у тебя такие, что смотреть в них больно. А тут я стою и говорю тебе: не печалься, Валя, наша жизнь впереди. Вот увидишь, я вправду такую картину напишу. И море буду писать, и горы буду писать, наши горы, и небо… За стеной слышна беготня, чьи-то стоны. — Виктор Коробков!!! — Опять, — тоскливо шепчет Витя, встаёт и сразу твёрдым шагом идёт за часовым. Вале тяжело и страшно. Что они делают с Витей! За что его так мучают? Валя долго ждёт. Потом засыпает и плачет во сне.
Когда он просыпается, Витя сидит на холодном полу, вытянув ноги.
— Что ты? — спрашивает Валя. — Били?
Витя молчит. Валя поднимает его с пола, сажает на нары.
— Что с тобой делали?
Витя глубоко вздыхает:
— Стреляли.
— В тебя?
— Вроде в меня… В стенку над головой. На меня аж штукатурка сыпалась… Ты не думай, я не боялся. Фашист спросил: «Покажешь, где партизаны?» Я говорю: «Хоть стреляйте, не скажу ничего». Фашист закричал: «Встань к стенке!» Встал. Я стоял хорошо. Не моргал. Думал, всё равно, пусть стреляют. Лучше умру.
Витя как будто куда-то проваливается, долго молчит…
— Дай глотнуть воды.
— Гады! Гады! — волнуется Валя, подносит кружку.
— Ничего. Ты спи. Разве они люди? Говорят: отца твоего расстреляли, и тебя расстреляем. Эх, выйти бы! Я им ещё не так… Пусть не думают, что нас можно покорить. Я им всё равно не дамся…
Девятого марта в камеру вошёл офицер. Было шесть часов вечера. В это время на допросы не водили. В камере было много народу, накануне привезли новых арестованных. Все молча поднимались, тяжело смотрели на офицера.
— Не выходи! — закричал Валя. Витя встал, улыбнулся ему.
— Когда выйдешь, — сказал Витя, — найди маму, передай: я умер за Родину!
Он медленно распахивал и запахивал полы своей курточки, раздумывая, что ещё надо сказать, но больше ничего не мог придумать.
Вале тяжело и страшно. Что они делают с Витей! За что его так мучают? Валя долго ждёт. Потом засыпает и плачет во сне.
Когда он просыпается, Витя сидит на холодном полу, вытянув ноги.
— Что ты? — спрашивает Валя. — Били?
Витя молчит. Валя поднимает его с пола, сажает на нары.
— Что с тобой делали?
Витя глубоко вздыхает:
— Стреляли.
— В тебя?
— Вроде в меня… В стенку над головой. На меня аж штукатурка сыпалась… Ты не думай, я не боялся. Фашист спросил: «Покажешь, где партизаны?» Я говорю: «Хоть стреляйте, не скажу ничего». Фашист закричал: «Встань к стенке!» Встал. Я стоял хорошо. Не моргал. Думал, всё равно, пусть стреляют. Лучше умру.
Витя как будто куда-то проваливается, долго молчит…
— Дай глотнуть воды.
— Гады! Гады! — волнуется Валя, подносит кружку.
— Ничего. Ты спи. Разве они люди? Говорят: отца твоего расстреляли, и тебя расстреляем. Эх, выйти бы! Я им ещё не так… Пусть не думают, что нас можно покорить. Я им всё равно не дамся…
Девятого марта в камеру вошёл офицер. Было шесть часов вечера. В это время на допросы не водили. В камере было много народу, накануне привезли новых арестованных. Все молча поднимались, тяжело смотрели на офицера.
— Не выходи! — закричал Валя. Витя встал, улыбнулся ему.
— Когда выйдешь, — сказал Витя, — найди маму, передай: я умер за Родину!
Он медленно распахивал и запахивал полы своей курточки, раздумывая, что ещё надо сказать, но больше ничего не мог придумать.
* * *
Быстроглазый мальчик Витя, выдумщик и мечтатель! Ты хотел быть художником, изображать необыкновенных людей, неведомые места, славные дела героев. Ты хотел написать книгу о весёлых и смешных приключениях двух сорванцов, чтобы смеялись те мальчишки, которые будут читать, узнавая себя, своих товарищей. Ты мечтал о дальних путешествиях, о необычных подвигах. Ты сам совершил подвиг. Рискуя попасть под пули врага, ты ходил по горам и долинам, лазил по каменистым склонам, продирался сквозь колючие кустарники. Знал дорогу на Айвалык и Суук-Су. Ты мужественно помогал Родине бороться с фашистами.
Ты сделал всё, что мог, Витя. Ты сделал больше, чем мог — ты отдал свою жизнь. Пионеры навсегда запомнят твоё славное имя, Виктор Коробков! Родина не забудет своего сына!
Рискуя попасть под пули врага, ты ходил по горам и долинам, лазил по каменистым склонам, продирался сквозь колючие кустарники. Знал дорогу на Айвалык и Суук-Су. Ты мужественно помогал Родине бороться с фашистами.
Ты сделал всё, что мог, Витя. Ты сделал больше, чем мог — ты отдал свою жизнь. Пионеры навсегда запомнят твоё славное имя, Виктор Коробков! Родина не забудет своего сына!
* * *
Имя пионера-героя Виктора Коробкова занесено в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Постановлением Совета Министров РСФСР одному из кораблей Советского флота присвоено имя Вити Коробкова.

ВОЛОДЯ ДУБИНИН Кассиль Лев Абрамович Поляновсний Макс Леонидович
 Как только началась война с фашистами, отец Володи, Никифор Степанович Дубинин, коммунист, участник гражданской войны, капитан парохода, ушёл на военный флот.
Напрасно упрашивал он отца взять его с собой. Отец строго отвечал, что в такие трудные дни и дома дел хватит.
Но Володя на этом не успокоился. Несколько дней подряд керчане встречали у подъездов разных городских учреждений собачонку, которая терпеливо дожидалась кого-то, беспокойно посматривая на входную дверь. Дверь открывалась, появлялся огорчённый мальчуган лет четырнадцати и, слегка присвистнув собаке, печально докладывал ей:
— И тут не взяли… Не берут.
Отец оказался прав. Дело нашлось и дома, в Керчи.
Володя стал вожаком тимуровцев; во многих семьях фронтовиков скоро стали считать своим человеком большеглазого круглолобого мальчугана с красным галстуком. Впрочем, иногда Володя всё-таки снимал галстук. Это он делал тогда, когда бывал недоволен собой и не заканчивал начатое дело.
А фронт всё приближался. Всё тревожнее звучали сводки. В конце лета фашисты начали бешеное наступление на Крымский полуостров.
Гитлеровская авиация безжалостно кромсала город бомбами. От фашистской бомбы сгорела школа, где учился Володя.
Семья Дубининых переселилась к Володиному дяде, старому боевому Другу — Ивану Захаровичу Гриценко, который жил в посёлке Старый Карантин возле каменоломен.
Володе были хорошо знакомы эти места. Не раз он во время летних каникул вместе со своим двоюродным братом Ваней Гриценко играл тут в войну красных партизан с белогвардейцами. И как-то Володя случайно провалился в одну из заброшенных каменоломен. Он крикнул Ваню. Как он был поражён, когда глубоко под землёй, в сумраке каменной галереи, он вдруг разглядел выбитую на камне полустёршуюся надпись: «Здесь в 1919 году жили и воевали за Советскую власть красные партизаны Никифор Дубинин и Иван Гриценко».
Так ребята обнаружили под землёй памятку о боевой славе их отцов.
Как только началась война с фашистами, отец Володи, Никифор Степанович Дубинин, коммунист, участник гражданской войны, капитан парохода, ушёл на военный флот.
Напрасно упрашивал он отца взять его с собой. Отец строго отвечал, что в такие трудные дни и дома дел хватит.
Но Володя на этом не успокоился. Несколько дней подряд керчане встречали у подъездов разных городских учреждений собачонку, которая терпеливо дожидалась кого-то, беспокойно посматривая на входную дверь. Дверь открывалась, появлялся огорчённый мальчуган лет четырнадцати и, слегка присвистнув собаке, печально докладывал ей:
— И тут не взяли… Не берут.
Отец оказался прав. Дело нашлось и дома, в Керчи.
Володя стал вожаком тимуровцев; во многих семьях фронтовиков скоро стали считать своим человеком большеглазого круглолобого мальчугана с красным галстуком. Впрочем, иногда Володя всё-таки снимал галстук. Это он делал тогда, когда бывал недоволен собой и не заканчивал начатое дело.
А фронт всё приближался. Всё тревожнее звучали сводки. В конце лета фашисты начали бешеное наступление на Крымский полуостров.
Гитлеровская авиация безжалостно кромсала город бомбами. От фашистской бомбы сгорела школа, где учился Володя.
Семья Дубининых переселилась к Володиному дяде, старому боевому Другу — Ивану Захаровичу Гриценко, который жил в посёлке Старый Карантин возле каменоломен.
Володе были хорошо знакомы эти места. Не раз он во время летних каникул вместе со своим двоюродным братом Ваней Гриценко играл тут в войну красных партизан с белогвардейцами. И как-то Володя случайно провалился в одну из заброшенных каменоломен. Он крикнул Ваню. Как он был поражён, когда глубоко под землёй, в сумраке каменной галереи, он вдруг разглядел выбитую на камне полустёршуюся надпись: «Здесь в 1919 году жили и воевали за Советскую власть красные партизаны Никифор Дубинин и Иван Гриценко».
Так ребята обнаружили под землёй памятку о боевой славе их отцов.
 Оказавшись теперь снова в Старом Карантине, Володя Дубинин заметил, что к входу в каменоломни то и дело подъезжают машины и телеги, нагруженные тяжёлыми плоскими ящиками, которые потом уносят под землю. Ваня Гриценко был уже посвящён в тайну каменоломен, но долго не раскрывал её Володе. Всё же Володе удалось, наконец, выпытать у друга, что глубоко под землёй коммунисты города создают тайную крепость, организуют партизанский отряд на случай, если фашисты захватят Керчь. Володя обиделся, что от него скрывают такое важное дело, и бросился к Ивану Захаровичу Гриценко. Долго упрашивал дядю взять его в партизанский отряд.
Командир отряда, бывший моряк Александр Фёдорович Зябрев, хорошо понимал, какие испытания предстоят людям в каменоломнях, если фашисты захватят Керчь. Поэтому Зябрев брал в отряд только тех людей, в силе и мужестве которых он был уверен. Но Володя, видно, приглянулся ему, да и дядя Гриценко, должно быть, рассказал командиру много хорошего о своём племяннике. Зябрев поверил старому партизану и зачислил мальчика в отряд.
А бои приближались. Море близ Керчи уже отражало их зарево.
Фашисты подошли к городу. И тогда партизаны спустились в непроглядную темень каменоломен. Там, при свете факелов, начала свою жизнь легендарная подземная партизанская крепость.
Пятьдесят дней и пятьдесят ночей провёл отряд под землёй. Пятьдесят дней и пятьдесят ночей пробыл с партизанами пионер Володя Дубинин.
В первой же смелой вылазке партизаны, застигнув врага врасплох, разгромили штаб и военные склады гитлеровцев.
Фашисты чувствовали себя как на вулкане, который каждую минуту готов извергнуть из своего жерла гибельный огонь. Гитлеровское командование отдало приказ немедленно уничтожить подземный партизанский отряд. Одну за другой отбивали партизаны все попытки фашистов проникнуть в глубь подземелий. Гитлеровцы бросали в каменоломни бомбы, мины, пытались отравить партизан удушливыми газами. Но подземная крепость оставалась неприступной. Тогда гитлеровцы решили замуровать каменоломни и похоронить смельчаков заживо. Всевыходы, все щели были снаружи залиты бетоном и заминированы. Но подземная крепость не сдавалась. Отряд партизан ушёл в глубину в шестьдесят метров.
Фашистам пришлось отозвать с фронта целый полк, вооружённый артиллерией, прожекторами и звукоуловителями, чтобы днём и ночью охранять все выходы из каменоломен. Не раз немецкое командование предлагало партизанам сдаться. Но защитники подземной крепости, отделённые от всего живого непробиваемой толщей камня, теряя в полумраке счёт дням и ночам, жили по точному трудовому и боевому расписанию. Они не сдавались. И из недр подземной крепости в любую минуту оккупантам грозила справедливая народная месть.
В одном из первых боёв на поверхности погиб командир отряда Зябрев. Во главе отряда стал бывший начальник партизанского штаба коммунист Лазарев.
А гитлеровцы оцепили всю местность, обнесли её колючей проволокой, заминировали все подступы к каменоломням. По приказу фашистского командования ни одна душа не смела появляться в этом районе.
Оказавшись теперь снова в Старом Карантине, Володя Дубинин заметил, что к входу в каменоломни то и дело подъезжают машины и телеги, нагруженные тяжёлыми плоскими ящиками, которые потом уносят под землю. Ваня Гриценко был уже посвящён в тайну каменоломен, но долго не раскрывал её Володе. Всё же Володе удалось, наконец, выпытать у друга, что глубоко под землёй коммунисты города создают тайную крепость, организуют партизанский отряд на случай, если фашисты захватят Керчь. Володя обиделся, что от него скрывают такое важное дело, и бросился к Ивану Захаровичу Гриценко. Долго упрашивал дядю взять его в партизанский отряд.
Командир отряда, бывший моряк Александр Фёдорович Зябрев, хорошо понимал, какие испытания предстоят людям в каменоломнях, если фашисты захватят Керчь. Поэтому Зябрев брал в отряд только тех людей, в силе и мужестве которых он был уверен. Но Володя, видно, приглянулся ему, да и дядя Гриценко, должно быть, рассказал командиру много хорошего о своём племяннике. Зябрев поверил старому партизану и зачислил мальчика в отряд.
А бои приближались. Море близ Керчи уже отражало их зарево.
Фашисты подошли к городу. И тогда партизаны спустились в непроглядную темень каменоломен. Там, при свете факелов, начала свою жизнь легендарная подземная партизанская крепость.
Пятьдесят дней и пятьдесят ночей провёл отряд под землёй. Пятьдесят дней и пятьдесят ночей пробыл с партизанами пионер Володя Дубинин.
В первой же смелой вылазке партизаны, застигнув врага врасплох, разгромили штаб и военные склады гитлеровцев.
Фашисты чувствовали себя как на вулкане, который каждую минуту готов извергнуть из своего жерла гибельный огонь. Гитлеровское командование отдало приказ немедленно уничтожить подземный партизанский отряд. Одну за другой отбивали партизаны все попытки фашистов проникнуть в глубь подземелий. Гитлеровцы бросали в каменоломни бомбы, мины, пытались отравить партизан удушливыми газами. Но подземная крепость оставалась неприступной. Тогда гитлеровцы решили замуровать каменоломни и похоронить смельчаков заживо. Всевыходы, все щели были снаружи залиты бетоном и заминированы. Но подземная крепость не сдавалась. Отряд партизан ушёл в глубину в шестьдесят метров.
Фашистам пришлось отозвать с фронта целый полк, вооружённый артиллерией, прожекторами и звукоуловителями, чтобы днём и ночью охранять все выходы из каменоломен. Не раз немецкое командование предлагало партизанам сдаться. Но защитники подземной крепости, отделённые от всего живого непробиваемой толщей камня, теряя в полумраке счёт дням и ночам, жили по точному трудовому и боевому расписанию. Они не сдавались. И из недр подземной крепости в любую минуту оккупантам грозила справедливая народная месть.
В одном из первых боёв на поверхности погиб командир отряда Зябрев. Во главе отряда стал бывший начальник партизанского штаба коммунист Лазарев.
А гитлеровцы оцепили всю местность, обнесли её колючей проволокой, заминировали все подступы к каменоломням. По приказу фашистского командования ни одна душа не смела появляться в этом районе.
 Но партизанам необходимо было установить связь с поверхностью, чтобы точно знать, что происходит над подземной крепостью. Вот тогда-то и пришлось уступить Володе и его друзьям, которые уже давно просились, чтобы их отправили наверх, — в разведку.
Володю Дубинина назначили командиром маленькой группы юных разведчиков. И Лазарев, скрепя сердце, заглушая в себе тревогу за ребят, вынужден был разрешить им выйти на поверхность. Через узкие потайные щели, которые были известны только ребятам, выбирались наверх пионеры Володя Дубинин, Ваня Гриценко и Толя Ковалёв.
Они вызнали и высмотрели всё, что нужно было узнать партизанскому командованию, а затем, никем не замеченные, снова вернулись под землю.
Но скоро фашисты обнаружили и эти узенькие лазы, замуровали их, завалили камнями, залили бетоном. Осталась одна, должно быть, последняя щель, совсем узенькая… Через эту норку мог выбраться наверх только гибкий, изворотливый, словно ящерка, Володя. И теперь он ходил на разведку в одиночку. И всякий раз возвращался к партизанам с очень важными для них сведениями.
Однажды, выйдя в разведку, он не мог сдержаться и подкрался к окнам домика дяди Гриценко… Володя очень соскучился по матери.
Он увидел через окно её усталое, измученное лицо. Ему хотелось позвать её, сказать ей хоть одно словечко. Но он помнил о правилах разведчиков и понимал, какое важное дело ему доверили оставшиеся под землёй партизаны. И, глотая слёзы, Володя тихо отполз от ограды.
В другой раз, когда Володя возвращался из разведки в свой отряд, оказалось, что гитлеровцы каким-то образом обнаружили лазейку, через которую он выбрался несколько часов назад. Долго ползал мальчуган по заминированным камням, иногда проскальзывал в нескольких шагах от вражеских часовых. Но в конце концов отыскал ещё одну тайную лазейку, которую держал в памяти про запас, на всякий случай.
Случилось как-то, что, выбравшись на поверхность, Володя сумел разведать страшный план гитлеровцев… Они тянули от моря шланги — толстые трубы, налаживали мощные насосы и, видно, готовились залить водой каменоломни, чтобы утопить партизан под землёй.
Володе строго-настрого было запрещено командиром возвращаться в каменоломни до наступления темноты. Но тут, рискуя жизнью, маленький разведчик нарушил этот запрет. Чудом ухитрился он проползти среди бела дня под самым носом фашистских часовых обратно к своему лазу. Он бросился вниз по крутым подземным галереям и успел предупредить партизан о грозящей им опасности. Партизаны начали немедленно же возводить плотины в подземных ходах. Все свободные от дежурства и караулов сейчас же отправились в верхние ярусы каменоломен. Гитлеровцы орудовали уже над самой головой партизан, закрепляли трубы, подтягивали шланги. В полной тишине, чтобы не привлечь внимания врага, партизаны возводили стены из камня-ракушечника, перегораживая ими подземные коридоры.
И вовремя! Каменная перегородка ещё не была закончена, когда сверху, через один из стволов, размурованных гитлеровцами, оглушительно бурля, хлынула вода. Она затопила верхнюю галерею, ударила струйками сквозь щели ещё не зацементированной стены. Высоко держа над головой шахтёрские лампочки и факелы, по колено, а кое где и по грудь в клокотавшей воде партизаны заделывали отверстия в подземных плотинах. Работа под землёй шла до утра. Вода уже не проникала в нижние галереи, но так как фашисты могли каждую минуту пустить воду через другие шурфы, партизаны продолжали возводить водонепроницаемые каменные преграды на всех опасных участках верхних галерей.
Но партизанам необходимо было установить связь с поверхностью, чтобы точно знать, что происходит над подземной крепостью. Вот тогда-то и пришлось уступить Володе и его друзьям, которые уже давно просились, чтобы их отправили наверх, — в разведку.
Володю Дубинина назначили командиром маленькой группы юных разведчиков. И Лазарев, скрепя сердце, заглушая в себе тревогу за ребят, вынужден был разрешить им выйти на поверхность. Через узкие потайные щели, которые были известны только ребятам, выбирались наверх пионеры Володя Дубинин, Ваня Гриценко и Толя Ковалёв.
Они вызнали и высмотрели всё, что нужно было узнать партизанскому командованию, а затем, никем не замеченные, снова вернулись под землю.
Но скоро фашисты обнаружили и эти узенькие лазы, замуровали их, завалили камнями, залили бетоном. Осталась одна, должно быть, последняя щель, совсем узенькая… Через эту норку мог выбраться наверх только гибкий, изворотливый, словно ящерка, Володя. И теперь он ходил на разведку в одиночку. И всякий раз возвращался к партизанам с очень важными для них сведениями.
Однажды, выйдя в разведку, он не мог сдержаться и подкрался к окнам домика дяди Гриценко… Володя очень соскучился по матери.
Он увидел через окно её усталое, измученное лицо. Ему хотелось позвать её, сказать ей хоть одно словечко. Но он помнил о правилах разведчиков и понимал, какое важное дело ему доверили оставшиеся под землёй партизаны. И, глотая слёзы, Володя тихо отполз от ограды.
В другой раз, когда Володя возвращался из разведки в свой отряд, оказалось, что гитлеровцы каким-то образом обнаружили лазейку, через которую он выбрался несколько часов назад. Долго ползал мальчуган по заминированным камням, иногда проскальзывал в нескольких шагах от вражеских часовых. Но в конце концов отыскал ещё одну тайную лазейку, которую держал в памяти про запас, на всякий случай.
Случилось как-то, что, выбравшись на поверхность, Володя сумел разведать страшный план гитлеровцев… Они тянули от моря шланги — толстые трубы, налаживали мощные насосы и, видно, готовились залить водой каменоломни, чтобы утопить партизан под землёй.
Володе строго-настрого было запрещено командиром возвращаться в каменоломни до наступления темноты. Но тут, рискуя жизнью, маленький разведчик нарушил этот запрет. Чудом ухитрился он проползти среди бела дня под самым носом фашистских часовых обратно к своему лазу. Он бросился вниз по крутым подземным галереям и успел предупредить партизан о грозящей им опасности. Партизаны начали немедленно же возводить плотины в подземных ходах. Все свободные от дежурства и караулов сейчас же отправились в верхние ярусы каменоломен. Гитлеровцы орудовали уже над самой головой партизан, закрепляли трубы, подтягивали шланги. В полной тишине, чтобы не привлечь внимания врага, партизаны возводили стены из камня-ракушечника, перегораживая ими подземные коридоры.
И вовремя! Каменная перегородка ещё не была закончена, когда сверху, через один из стволов, размурованных гитлеровцами, оглушительно бурля, хлынула вода. Она затопила верхнюю галерею, ударила струйками сквозь щели ещё не зацементированной стены. Высоко держа над головой шахтёрские лампочки и факелы, по колено, а кое где и по грудь в клокотавшей воде партизаны заделывали отверстия в подземных плотинах. Работа под землёй шла до утра. Вода уже не проникала в нижние галереи, но так как фашисты могли каждую минуту пустить воду через другие шурфы, партизаны продолжали возводить водонепроницаемые каменные преграды на всех опасных участках верхних галерей.
 В конце концов все эти коридоры были наглухо заделаны камнем и замазаны цементом. Отряд был спасён. И все партизаны понимали, что спасением своим они обязаны сметливости и бесстрашию маленького разведчика.
Но оставаться под землёй дальше было уже очень опасно. Фашисты, конечно, не успокоились после неудачной попытки утопить партизан.
Они попробовали было взять подземную крепость штурмом, но партизанам удалось отбить все атаки. И теперь партизаны решили пробить выход в отдалённых районах каменоломен, чтобы вырваться на поверхность.
Тем временем гитлеровцам удалось взорвать отсек, где под землёй в ваннах находилась питьевая вода. Партизанам грозила уже гибель от жажды… Решили пропилить в одной из галерей, расположенных далеко от бывшего главного входа в каменоломне, ход через толщу ракушечника, выбраться на поверхность и уйти к партизанам в леса Старого Крыма. Но для этого надо было прежде всего хорошенько разведать, нет ли фашистов и в том районе, где предполагалось пробить спасательный выход.
Володе Дубинину доверили важное задание: надо было выбраться наверх, хорошо осмотреть район предполагаемого выхода партизан, а потом связаться с партизанами Аджимушкайских каменоломен, расположенных по другую сторону Керчи.
В канун нового, 1942, года Володя осторожно выбрался через свою тайную лазейку на поверхность. Он не мог поверить своим глазам, когда неожиданно увидел двигавшихся к нему навстречу желанных избавителей — моряков Советского Флота.
Всё забыл он в это мгновение: и правила передвижения разведчиков, и все наставления командира, и необходимый порядок в обращении к начальству. Он с разбегу кинулся прямо на грудь шедшего впереди с автоматом на плече высокого моряка.
— Дяденька, дядечка! Товарищ командир, ой, ура!.. Разрешите обратиться? — бормотал он, крепко ухватившись за отвороты командирского бушлата.
Старшина немного оторопело глядел на него, стараясь отодрать Володины руки от своего бушлата. Полные сумасшедшей радости огромные глаза смотрели с невероятно чумазого, закопчённого лица мальчишки.
— Стой! Ты что?.. Погоди… Ну? Ты откуда, такой дух чёрный, выскочил? — смущённо спрашивал старшина. — А ну отцепись, что ты в самом деле!.. А ну, кому говорю?
Володя отпустил командира, справился с волнением и восторгом, которые бушевали в нём уже безудержно, отскочил на шаг, вытянулся, приложив руку к шапке:
— Разрешите обратиться, товарищ старшина? Командир группы разведчиков партизанского отряда Старого Карантина Дубинин Владимир прибыл в ваше распо… то есть, нет… Вы же сами прибыли…
Дядя, вы с Черноморского флота? А фашистов, что, уже повыгнали, да! Ой, вот уж ура, вот ура!
Через пять минут старшина уже знал все подробности о старокарантинских партизанах и о подземной крепости, в которую были замурованы девяносто смельчаков.
— Стало быть, сейчас надо будет вызволять твоих, — решил старшина, внимательно выслушав весь рассказ маленького разведчика.
— Нет, нет! — забеспокоился Володя. — Вы так сразу туда не идите. Там кругом всё заминировано. У нас двое наших подорвались, чуть было вылезли… Надо сперва там разминировать. Я вам покажу, дядя, где ход туда. Вы только скажите, товарищ командир, фашистов уже всех повыгнали отсюда? А в городе тоже уже наши?
— Наши, дорогой, наши, со вчерашнего дня уже. Десант был на Феодосию и на Керчь. Штормяга только некстати выдался, а то бы ещё позавчера дело кончили…
А под землёй тоже ничего не знали ещё об избавлении. Долгожданную радостную весть принёс партизанам Володя Дубинин, кубарем скатившийся по крутым подземным переходам к штабу партизанской крепости. Чёрные от копоти, полуослепшие от многонедельной темноты, изжаждавшиеся по свету, воде и свежему воздуху, люди выбирались на поверхность и попадали в объятия солдат и моряков, расчищавших входы каменоломен.
Тут и встретился Володя со своей матерью. Она, бедная, уже не надеялась увидеть своего сына…
На вершине Митридата, колеблемый свежим январским нордом, развевался алый флаг. Освобождённый город возвращался к жизни…
Победители, вызволившие Керчь, — рослые солдаты в стёганках и плащ-палатках, наброшенных на плечи, матросы в ладно пригнанных бушлатах и кирзовых десантных сапогах, отвёрнутых ниже колен, — расхаживали по улицам Керчи, везде встречаемые улыбками, повсюду провожаемые толпами восхищённых мальчишек.
Старокарантинцы и камышбурунцы целые дни паломничали к партизанским каменоломням. Всем нетерпелось поскорее и поближе увидеть героев подземной крепости, которая так и не сдалась фашистам.
В тот же день Володя, бесстрашный разведчик, о вылазках которого уже рассказывали ребятам Старого Карантина и Камыш-Буруна поднявшиеся на поверхность партизаны, сидел в большом корыте и плескался на всю горницу в домике дяди Гриценко. Евдокия Тимофеевна решила устроить ему баню и как следует отмыть.
Неловко было лихому разведчику залезать голым в корыто и, как маленькому, терпеть всё, что проделывала сейчас с ним мать. А уже от неё в таких случаях нечего было ждать пощады. Она взбила на давно не стриженной Володиной голове пышную белую папаху из шипящей пены. Жёсткой, шершавой люфой, пропитанной обжигающей мыльной жижей, мать яростно скребла отощавшие плечи сына, вытянувшуюся спину с резко проступающими позвонками. Вырос и похудел Володя с тех пор, как она его не видела.
— Уй-ю-юй, мама! Мне все глаза мыло выело, — стонал Володя и отплёвывался. — Меня даже папа в Мурманске на «Красине» так не драл… А уж он…
— Терпи, терпи, партизан! — твердила неумолимая Евдокия Тимофеевна и орудовала безжалостно, так что голова Володи моталась из стороны в сторону.
Потом, причёсанный, одетый во всё чистое, он сидел за столом и солидно пил чай с матерью.
А за окном на улице в это время показался отряд красноармейцев.
Они несли длинные палки с кружками на конце. Поверх шапок у них были надеты телефонные наушники. Володя мигом вскочил, припал к стеклу, стуча в него костяшками пальцев. Шедший впереди отряда пожилой красноармеец услышал стук, обернулся к окну: сперва не узнал, а потом заулыбался и козырнул Володе.
— Мама… — заволновался Володя, ища глазами, куда положил свою шапку, — мама, это к нам сапёры пошли. Будут сейчас ходы в каменоломне разминировать. Этот, который мне честь отдал, мой знакомый. Я ему показывал в первый день, как нас освободили, где дорогу расчищать. Я и сегодня им обещал, мама. Я же кругом там все кочки наизусть помню!
— Без тебя, Вовочка, обойдутся. Сказал ведь тебе вчера комиссар, чтоб ты туда не совался. И командир не приказывал.
— Нет, мама, я ведь там каждый камешек исползал. Надо помочь людям. Я просто обязан… Пионер я или кто? Они же целую неделю провозятся. Ты пойми, мама! Не могу я спокойно сидеть, когда помочь могу. И надо скорее наверх продовольствие вынести. В посёлке народ нуждается. Немцы всё до крошки съели.
Он снял со стены пальто, оделся, потянулся за шапкой-ушанкой, которая лежала на стуле. Мать встала в дверях, взявшись за косяк:
— Не ходи, Володенька, ну прошу тебя! Боязно мне что-то… Ведь не велено тебе было. Неровен час, оступишься или заденешь…
Она видела через окно, как он нагнал сапёров, подбежал к старшему, откозырял и пошёл рядом с ним, маленький, решительный, стараясь ступать в ногу.
«Испеку ему к обеду содовые пышки, — подумала она. — Давно, верно, не ел, а любит — страсть!»
Она подошла к плите, замесила муку с водой и вскоре ушла с головой в знакомые хлопоты, ставшие теперь снова для неё сладкими, так как она знала, что к обеду придёт Володя, увидит любимые пышки и кинется обнимать её от радости.
Протяжный, двойной, грохочущий удар из-под самого, как ей показалось, пола горницы на мгновение будто приподнял весь домик, а потом грузно всадил его обратно в землю. Из окна выпал уголок стекла, подклеенный бумагой, слабо звякнул о подоконник…
Несколько камней щёлкнуло по крыше, пролетели за окном и шмякнулись с силой возле дома. Послышались испуганные голоса. Улица за окном заполнилась бегущими людьми. Евдокия Тимофеевна видела, что все они спешат, обгоняя друг друга, по направлению к каменоломням… туда, куда только что ушёл её Володя.
Она стояла некоторое время словно окаменев. Как будто тем ударом её пришибло на месте. Потом сделала один шаг, косой и неверный, хотела сделать второй, уже не справляясь с ногами, едва не миновала табурета, тяжело опустилась на него и уронила на пол полотенце.
Надо было выйти на улицу, узнать, что это так грохнуло, но у неё не было силы встать.
Так она сидела очень долго. И с каждой минутой где-то ещё теплившаяся надежда всё гасла и гасла в ней.
Темнело в комнате. За окном стыли серые, неприютные сумерки.
И тогда в дверь постучали. Она не слышала своего голоса, но там, в сенях, услышали. Дверь открылась.
В комнату вошли трое. Лица их были черны от въевшейся в кожу копоти.
Евдокия Тимофеевна сразу узнала командира Лазарева, комиссара Котло и ещё одного, в морской военной форме, с которым Володя накануне познакомил её как со своим партизанским учителем.
Они вошли, и все трое одновременно сняли шапки…
В парке Камыш-Буруна, в главном цветнике, где всегда играют дети, высится не очень высокий памятник на братской могиле партизан.
И на доске из крымского мрамора, укреплённой на каменном постаменте, написано:
В конце концов все эти коридоры были наглухо заделаны камнем и замазаны цементом. Отряд был спасён. И все партизаны понимали, что спасением своим они обязаны сметливости и бесстрашию маленького разведчика.
Но оставаться под землёй дальше было уже очень опасно. Фашисты, конечно, не успокоились после неудачной попытки утопить партизан.
Они попробовали было взять подземную крепость штурмом, но партизанам удалось отбить все атаки. И теперь партизаны решили пробить выход в отдалённых районах каменоломен, чтобы вырваться на поверхность.
Тем временем гитлеровцам удалось взорвать отсек, где под землёй в ваннах находилась питьевая вода. Партизанам грозила уже гибель от жажды… Решили пропилить в одной из галерей, расположенных далеко от бывшего главного входа в каменоломне, ход через толщу ракушечника, выбраться на поверхность и уйти к партизанам в леса Старого Крыма. Но для этого надо было прежде всего хорошенько разведать, нет ли фашистов и в том районе, где предполагалось пробить спасательный выход.
Володе Дубинину доверили важное задание: надо было выбраться наверх, хорошо осмотреть район предполагаемого выхода партизан, а потом связаться с партизанами Аджимушкайских каменоломен, расположенных по другую сторону Керчи.
В канун нового, 1942, года Володя осторожно выбрался через свою тайную лазейку на поверхность. Он не мог поверить своим глазам, когда неожиданно увидел двигавшихся к нему навстречу желанных избавителей — моряков Советского Флота.
Всё забыл он в это мгновение: и правила передвижения разведчиков, и все наставления командира, и необходимый порядок в обращении к начальству. Он с разбегу кинулся прямо на грудь шедшего впереди с автоматом на плече высокого моряка.
— Дяденька, дядечка! Товарищ командир, ой, ура!.. Разрешите обратиться? — бормотал он, крепко ухватившись за отвороты командирского бушлата.
Старшина немного оторопело глядел на него, стараясь отодрать Володины руки от своего бушлата. Полные сумасшедшей радости огромные глаза смотрели с невероятно чумазого, закопчённого лица мальчишки.
— Стой! Ты что?.. Погоди… Ну? Ты откуда, такой дух чёрный, выскочил? — смущённо спрашивал старшина. — А ну отцепись, что ты в самом деле!.. А ну, кому говорю?
Володя отпустил командира, справился с волнением и восторгом, которые бушевали в нём уже безудержно, отскочил на шаг, вытянулся, приложив руку к шапке:
— Разрешите обратиться, товарищ старшина? Командир группы разведчиков партизанского отряда Старого Карантина Дубинин Владимир прибыл в ваше распо… то есть, нет… Вы же сами прибыли…
Дядя, вы с Черноморского флота? А фашистов, что, уже повыгнали, да! Ой, вот уж ура, вот ура!
Через пять минут старшина уже знал все подробности о старокарантинских партизанах и о подземной крепости, в которую были замурованы девяносто смельчаков.
— Стало быть, сейчас надо будет вызволять твоих, — решил старшина, внимательно выслушав весь рассказ маленького разведчика.
— Нет, нет! — забеспокоился Володя. — Вы так сразу туда не идите. Там кругом всё заминировано. У нас двое наших подорвались, чуть было вылезли… Надо сперва там разминировать. Я вам покажу, дядя, где ход туда. Вы только скажите, товарищ командир, фашистов уже всех повыгнали отсюда? А в городе тоже уже наши?
— Наши, дорогой, наши, со вчерашнего дня уже. Десант был на Феодосию и на Керчь. Штормяга только некстати выдался, а то бы ещё позавчера дело кончили…
А под землёй тоже ничего не знали ещё об избавлении. Долгожданную радостную весть принёс партизанам Володя Дубинин, кубарем скатившийся по крутым подземным переходам к штабу партизанской крепости. Чёрные от копоти, полуослепшие от многонедельной темноты, изжаждавшиеся по свету, воде и свежему воздуху, люди выбирались на поверхность и попадали в объятия солдат и моряков, расчищавших входы каменоломен.
Тут и встретился Володя со своей матерью. Она, бедная, уже не надеялась увидеть своего сына…
На вершине Митридата, колеблемый свежим январским нордом, развевался алый флаг. Освобождённый город возвращался к жизни…
Победители, вызволившие Керчь, — рослые солдаты в стёганках и плащ-палатках, наброшенных на плечи, матросы в ладно пригнанных бушлатах и кирзовых десантных сапогах, отвёрнутых ниже колен, — расхаживали по улицам Керчи, везде встречаемые улыбками, повсюду провожаемые толпами восхищённых мальчишек.
Старокарантинцы и камышбурунцы целые дни паломничали к партизанским каменоломням. Всем нетерпелось поскорее и поближе увидеть героев подземной крепости, которая так и не сдалась фашистам.
В тот же день Володя, бесстрашный разведчик, о вылазках которого уже рассказывали ребятам Старого Карантина и Камыш-Буруна поднявшиеся на поверхность партизаны, сидел в большом корыте и плескался на всю горницу в домике дяди Гриценко. Евдокия Тимофеевна решила устроить ему баню и как следует отмыть.
Неловко было лихому разведчику залезать голым в корыто и, как маленькому, терпеть всё, что проделывала сейчас с ним мать. А уже от неё в таких случаях нечего было ждать пощады. Она взбила на давно не стриженной Володиной голове пышную белую папаху из шипящей пены. Жёсткой, шершавой люфой, пропитанной обжигающей мыльной жижей, мать яростно скребла отощавшие плечи сына, вытянувшуюся спину с резко проступающими позвонками. Вырос и похудел Володя с тех пор, как она его не видела.
— Уй-ю-юй, мама! Мне все глаза мыло выело, — стонал Володя и отплёвывался. — Меня даже папа в Мурманске на «Красине» так не драл… А уж он…
— Терпи, терпи, партизан! — твердила неумолимая Евдокия Тимофеевна и орудовала безжалостно, так что голова Володи моталась из стороны в сторону.
Потом, причёсанный, одетый во всё чистое, он сидел за столом и солидно пил чай с матерью.
А за окном на улице в это время показался отряд красноармейцев.
Они несли длинные палки с кружками на конце. Поверх шапок у них были надеты телефонные наушники. Володя мигом вскочил, припал к стеклу, стуча в него костяшками пальцев. Шедший впереди отряда пожилой красноармеец услышал стук, обернулся к окну: сперва не узнал, а потом заулыбался и козырнул Володе.
— Мама… — заволновался Володя, ища глазами, куда положил свою шапку, — мама, это к нам сапёры пошли. Будут сейчас ходы в каменоломне разминировать. Этот, который мне честь отдал, мой знакомый. Я ему показывал в первый день, как нас освободили, где дорогу расчищать. Я и сегодня им обещал, мама. Я же кругом там все кочки наизусть помню!
— Без тебя, Вовочка, обойдутся. Сказал ведь тебе вчера комиссар, чтоб ты туда не совался. И командир не приказывал.
— Нет, мама, я ведь там каждый камешек исползал. Надо помочь людям. Я просто обязан… Пионер я или кто? Они же целую неделю провозятся. Ты пойми, мама! Не могу я спокойно сидеть, когда помочь могу. И надо скорее наверх продовольствие вынести. В посёлке народ нуждается. Немцы всё до крошки съели.
Он снял со стены пальто, оделся, потянулся за шапкой-ушанкой, которая лежала на стуле. Мать встала в дверях, взявшись за косяк:
— Не ходи, Володенька, ну прошу тебя! Боязно мне что-то… Ведь не велено тебе было. Неровен час, оступишься или заденешь…
Она видела через окно, как он нагнал сапёров, подбежал к старшему, откозырял и пошёл рядом с ним, маленький, решительный, стараясь ступать в ногу.
«Испеку ему к обеду содовые пышки, — подумала она. — Давно, верно, не ел, а любит — страсть!»
Она подошла к плите, замесила муку с водой и вскоре ушла с головой в знакомые хлопоты, ставшие теперь снова для неё сладкими, так как она знала, что к обеду придёт Володя, увидит любимые пышки и кинется обнимать её от радости.
Протяжный, двойной, грохочущий удар из-под самого, как ей показалось, пола горницы на мгновение будто приподнял весь домик, а потом грузно всадил его обратно в землю. Из окна выпал уголок стекла, подклеенный бумагой, слабо звякнул о подоконник…
Несколько камней щёлкнуло по крыше, пролетели за окном и шмякнулись с силой возле дома. Послышались испуганные голоса. Улица за окном заполнилась бегущими людьми. Евдокия Тимофеевна видела, что все они спешат, обгоняя друг друга, по направлению к каменоломням… туда, куда только что ушёл её Володя.
Она стояла некоторое время словно окаменев. Как будто тем ударом её пришибло на месте. Потом сделала один шаг, косой и неверный, хотела сделать второй, уже не справляясь с ногами, едва не миновала табурета, тяжело опустилась на него и уронила на пол полотенце.
Надо было выйти на улицу, узнать, что это так грохнуло, но у неё не было силы встать.
Так она сидела очень долго. И с каждой минутой где-то ещё теплившаяся надежда всё гасла и гасла в ней.
Темнело в комнате. За окном стыли серые, неприютные сумерки.
И тогда в дверь постучали. Она не слышала своего голоса, но там, в сенях, услышали. Дверь открылась.
В комнату вошли трое. Лица их были черны от въевшейся в кожу копоти.
Евдокия Тимофеевна сразу узнала командира Лазарева, комиссара Котло и ещё одного, в морской военной форме, с которым Володя накануне познакомил её как со своим партизанским учителем.
Они вошли, и все трое одновременно сняли шапки…
В парке Камыш-Буруна, в главном цветнике, где всегда играют дети, высится не очень высокий памятник на братской могиле партизан.
И на доске из крымского мрамора, укреплённой на каменном постаменте, написано:
«Здесь похоронены партизаны Отечественной войны, погибшие в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами: Зябрев Александр Фёдор., Шустров Иван Гаврил., Важенин Влас. Ив., Макаров Ник., Бондаренко Ник., Дубинин Володя».А под горой Митридат в Керчи, со старой лестницы, хорошо видна прямая солнечная улица, что начинается от склона горы, от подножия лестницы, и просторно убегает вдаль. Широкая улица Ленина встречается с этой улицей и пропускает её через себя. Иногда на улицу эту в сопровождении керченских пионеров приходят Евдокия Тимофеевна Дубинина с Валей. Пионеры часто навещают её. Они долго смотрят на портрет Володи, тихо расспрашивают о нём мать и сестру, перечитывают простое, мужественное письмо, которое написал домой, узнав о гибели сына, Никифор Семёнович. Вскоре после этого и Никифор Семёнович погиб на фронте. Отец сложил голову за то же великое и справедливое дело, которому беззаветно отдал жизнь его сын. Мать достаёт из стола пожелтевшую фронтовую газету с напечатанным в ней приказом командования Крымского фронта от 1 марта 1942 года. «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить…орденом Красного Знамени… Дубинина Владимира Никифоровича». Потом пионеры просят Евдокию Тимофеевну и Валю пройти с ними на Володину улицу. — Вот моего младшенького улица, — говорит пионерам Евдокия Тимофеевна, медленно сходя по ступеням старой лестницы на улицу, носящую имя её сына. — Володи нашего улица, — тихо добавляет в таких случаях Валентина. В праздничные дни, когда на всех улицах играет музыка, в порту на судах подняты пёстрые флаги и летают белокрылые модели над Митридатом, громко бьют барабаны и резво поёт пионерская труба над лестницей из серого камня-ракушечника. По крутым маршам лестницы спускаются, шагая в ногу, ряд за рядом мальчики и девочки в трёхконечных красных галстуках — пионеры из школы имени Володи Дубинина, пионеры соседних дружин. Дружный лёгкий шаг их звонко отдаётся на известняковых плитах и заполняет всю улицу. Ветер двух морей играет в складках алого знамени. Пионеры идут по широкой озарённой солнцем улице, где под фонарём каждого дома написано:
ВОЛОДЯ ЩЕРБАЦЕВИЧ Вячеслав Николаевич Морозов
 Какая-то добрая сила отвела от Володиного дома все бомбы! Осколком поранило стены, но дом устоял.
Когда бомбёжка кончилась, на подступах к городу загрохотали орудия врага.
Наши воинские части отошли. Очень много ушло и семей. Вова Борсук, Володин дружок, покинул Минск с матерью и отцом. Деревянный домишко Борсуков на Садовой разнесло в щепки.
А через четыре дня после первой бомбёжки многие ребята уже бегали смотреть на немцев. Володя не пошёл. Лёг на диван, сжался в комок. Так и лежал, пока не примчался Яшка, Володин одноклассник:
— Наших красноармейцев гонят!
Володя выбежал из дому.
…По главной улице шли люди, мало чем похожие на военных. Гимнастёрки без ремней, на головах у многих вместо пилоток грязные, пропитанные кровью повязки.
Вдоль колонны скакал немецкий офицер. Поднял коня на дыбы — над головами пленных взметнулись копыта.
Отшвырнув конвоира, из колонны вышел красноармеец:
— Ты что же это, гад?
Боец успел ударить гитлеровца один лишь раз. Хлопнул выстрел.
Красноармеец схватился за живот, чуть постоял, словно приноравливаясь, куда ему лучше упасть.
Рассыпалась дробь автоматов.
Какой-то человек в рабочей кепке схватил Володю за руку и потащил к грудам кирпича.
Колонна ушла под гору. На мостовой остался лежать убитый. Возле него Володя увидел несколько женщин и своего дядю— Петра Фёдоровича. Подбежал.
Володин дядя узнал человека, что выходил с его племянником из укрытия: Семён Лукич — металлист с того вагоноремонтного завода, где работал дядя Петя.
— Вот тут гражданки о похоронах толкуют. А товарищ… живой, — сказал Семён Лукич и посмотрел на Володю.
Перевернули бойца на спину.
Переглянулись.
— Мама моя в больнице работает. Она знает, как раненых лечить, — сказал Володя. — Чего вы раздумываете?
— Лети в больницу, Владимир. Объяснишь всё матери. Ключ от квартиры оставь мне, — велел Пётр Фёдорович.
За перегородкой лежит, мечется в жару тяжелораненый красноармеец. Мать, уходя утром в больницу, предупредила:
— Будь осторожен…
«Если солдаты свернут к дому? Запирать дверь не буду, чтобы не вызвать подозрения. Захотят пройти за перегородку — пусть. Там лежит Сергей Фёдорович, мамин брат. Он рабочий железнодорожного узла. У него имеются документы. А лежит он потому, что попал под бомбёжку, ранен в живот осколком. Вот на стуле его разорванная и окровавленная рубаха. Такие носят железнодорожники».
На лестнице шаги. Это Яшка. У него накопилось немало новостей.
Немцы развесили на улицах приказы. У кого есть радиоприёмники — сдать. Коммунистам и комсомольцам — зарегистрироваться. Какой-то парень кокнул ночью немецкого офицера кирпичом по башке. В развалинах медицинского…
Когда Володя слушал про разрушенный мединститут, то подумал о лекарстве. Мать сокрушалась — совсем его мало. А там оно должно быть, раз институт медицинский…
Какая-то добрая сила отвела от Володиного дома все бомбы! Осколком поранило стены, но дом устоял.
Когда бомбёжка кончилась, на подступах к городу загрохотали орудия врага.
Наши воинские части отошли. Очень много ушло и семей. Вова Борсук, Володин дружок, покинул Минск с матерью и отцом. Деревянный домишко Борсуков на Садовой разнесло в щепки.
А через четыре дня после первой бомбёжки многие ребята уже бегали смотреть на немцев. Володя не пошёл. Лёг на диван, сжался в комок. Так и лежал, пока не примчался Яшка, Володин одноклассник:
— Наших красноармейцев гонят!
Володя выбежал из дому.
…По главной улице шли люди, мало чем похожие на военных. Гимнастёрки без ремней, на головах у многих вместо пилоток грязные, пропитанные кровью повязки.
Вдоль колонны скакал немецкий офицер. Поднял коня на дыбы — над головами пленных взметнулись копыта.
Отшвырнув конвоира, из колонны вышел красноармеец:
— Ты что же это, гад?
Боец успел ударить гитлеровца один лишь раз. Хлопнул выстрел.
Красноармеец схватился за живот, чуть постоял, словно приноравливаясь, куда ему лучше упасть.
Рассыпалась дробь автоматов.
Какой-то человек в рабочей кепке схватил Володю за руку и потащил к грудам кирпича.
Колонна ушла под гору. На мостовой остался лежать убитый. Возле него Володя увидел несколько женщин и своего дядю— Петра Фёдоровича. Подбежал.
Володин дядя узнал человека, что выходил с его племянником из укрытия: Семён Лукич — металлист с того вагоноремонтного завода, где работал дядя Петя.
— Вот тут гражданки о похоронах толкуют. А товарищ… живой, — сказал Семён Лукич и посмотрел на Володю.
Перевернули бойца на спину.
Переглянулись.
— Мама моя в больнице работает. Она знает, как раненых лечить, — сказал Володя. — Чего вы раздумываете?
— Лети в больницу, Владимир. Объяснишь всё матери. Ключ от квартиры оставь мне, — велел Пётр Фёдорович.
За перегородкой лежит, мечется в жару тяжелораненый красноармеец. Мать, уходя утром в больницу, предупредила:
— Будь осторожен…
«Если солдаты свернут к дому? Запирать дверь не буду, чтобы не вызвать подозрения. Захотят пройти за перегородку — пусть. Там лежит Сергей Фёдорович, мамин брат. Он рабочий железнодорожного узла. У него имеются документы. А лежит он потому, что попал под бомбёжку, ранен в живот осколком. Вот на стуле его разорванная и окровавленная рубаха. Такие носят железнодорожники».
На лестнице шаги. Это Яшка. У него накопилось немало новостей.
Немцы развесили на улицах приказы. У кого есть радиоприёмники — сдать. Коммунистам и комсомольцам — зарегистрироваться. Какой-то парень кокнул ночью немецкого офицера кирпичом по башке. В развалинах медицинского…
Когда Володя слушал про разрушенный мединститут, то подумал о лекарстве. Мать сокрушалась — совсем его мало. А там оно должно быть, раз институт медицинский…
 Яшка убежал. С кастрюлькой пришла Евгения Фёдоровна, Володина тётя. У него моментально созрел план: «Пусть раненый пообедает, а я тем временем…»
Тёте сказал: пойду, мол, встречу маму. Достал в коридоре из сундука портфель.
Людей на улицах было мало. Только немецкие офицеры прохаживались не спеша.
Володя шёл и успокаивал себя: «Эти скоро будут драпать из нашего города».
Мама с тётей Женей сидели возле стола, на котором стыл обед.
— Ты с ума сошёл, Владимир! Ничего не сказал. Тётю Женю обманул!
Володя поставил на стол портфель с медикаментами.
Ольга Фёдоровна перебирала коробки:
— Володя, ты сядь, поешь. Потом расскажешь.
— Рассказывать нечего, — Володя на цыпочках направился за перегородку.
— Не ходи туда! Не ходи. Спят… они.
И Володя понял, что командира Красной Армии, лечившегося у мамы, тоже спрятали здесь.
Командир сидит за столом и ковыряется в стареньком, расхлябанном приёмнике. Его принёс ночью Семён Лукич.
Володя знает: настоящее имя командира — Николай Ильич. По паспорту же он Савельев Григорий Иванович. Документ принадлежал умершему в маминой больнице минскому жителю.
Хотя на военном были штатские брюки и вышитая по вороту рубаха, своей выправкой и манерой говорить он напоминал Володе отца, кадрового командира, погибшего в финскую войну.
Он сразу же предупредил:
— За мной, орёл, ухаживать не надо! Я ходячий.
Время от времени командир ходил на кухню, смачивал там под краном марлевую тряпку и нёс её красноармейцу. Клал на горячий лоб. А боец бессознательно подвигал марлю к шершавым губам и жевал её.
— Пить…
Пить ему, раненному в живот, было нельзя. Ольга Фёдоровна предупредила: «Ни в коем случае! Вода для него — смерть».
Если бы заставить говорить приёмник! Пока что в нём тоненький писк, треск. Из-за этого почти не слышно шагов на лестнице…
Одним движением командир сгрёб со стола в наволочку детали и лампы.
В дверях — Ольга Фёдоровна. За ней — сутулый человек в летнем пальто. Небольшая, тронутая сединой бородка. Близорукие глаза щурятся и выискивают место, куда можно поставить пузатый чемоданчик.
— Пожалуйста, сюда, Евгений Владимирович. — Мать приняла из рук гостя саквояж, помогла ему раздеться.
Евгений Владимирович достал пенсне, деловито протёр стёкла носовым платком.
Мать вынула из сумки два белых халата — один надела сама, в другой облачила гостя.
И тут-то Володя вспомнил: он несколько раз видел этого человека в больнице. Хирург!
Ольга Фёдоровна увела хирурга за перегородку. Там совещались о чём-то. Потом стало слышно — позвякивают металлические инструменты.
Яшка убежал. С кастрюлькой пришла Евгения Фёдоровна, Володина тётя. У него моментально созрел план: «Пусть раненый пообедает, а я тем временем…»
Тёте сказал: пойду, мол, встречу маму. Достал в коридоре из сундука портфель.
Людей на улицах было мало. Только немецкие офицеры прохаживались не спеша.
Володя шёл и успокаивал себя: «Эти скоро будут драпать из нашего города».
Мама с тётей Женей сидели возле стола, на котором стыл обед.
— Ты с ума сошёл, Владимир! Ничего не сказал. Тётю Женю обманул!
Володя поставил на стол портфель с медикаментами.
Ольга Фёдоровна перебирала коробки:
— Володя, ты сядь, поешь. Потом расскажешь.
— Рассказывать нечего, — Володя на цыпочках направился за перегородку.
— Не ходи туда! Не ходи. Спят… они.
И Володя понял, что командира Красной Армии, лечившегося у мамы, тоже спрятали здесь.
Командир сидит за столом и ковыряется в стареньком, расхлябанном приёмнике. Его принёс ночью Семён Лукич.
Володя знает: настоящее имя командира — Николай Ильич. По паспорту же он Савельев Григорий Иванович. Документ принадлежал умершему в маминой больнице минскому жителю.
Хотя на военном были штатские брюки и вышитая по вороту рубаха, своей выправкой и манерой говорить он напоминал Володе отца, кадрового командира, погибшего в финскую войну.
Он сразу же предупредил:
— За мной, орёл, ухаживать не надо! Я ходячий.
Время от времени командир ходил на кухню, смачивал там под краном марлевую тряпку и нёс её красноармейцу. Клал на горячий лоб. А боец бессознательно подвигал марлю к шершавым губам и жевал её.
— Пить…
Пить ему, раненному в живот, было нельзя. Ольга Фёдоровна предупредила: «Ни в коем случае! Вода для него — смерть».
Если бы заставить говорить приёмник! Пока что в нём тоненький писк, треск. Из-за этого почти не слышно шагов на лестнице…
Одним движением командир сгрёб со стола в наволочку детали и лампы.
В дверях — Ольга Фёдоровна. За ней — сутулый человек в летнем пальто. Небольшая, тронутая сединой бородка. Близорукие глаза щурятся и выискивают место, куда можно поставить пузатый чемоданчик.
— Пожалуйста, сюда, Евгений Владимирович. — Мать приняла из рук гостя саквояж, помогла ему раздеться.
Евгений Владимирович достал пенсне, деловито протёр стёкла носовым платком.
Мать вынула из сумки два белых халата — один надела сама, в другой облачила гостя.
И тут-то Володя вспомнил: он несколько раз видел этого человека в больнице. Хирург!
Ольга Фёдоровна увела хирурга за перегородку. Там совещались о чём-то. Потом стало слышно — позвякивают металлические инструменты.
 Раненый стонал. Володя видел, как мать вынесла таз с окровавленными повязками. В кухне она поставила кипятить воду. Проходя мимо командира, шепнула:
— Это — изумительный специалист, профессор.
Часа через полтора профессор вышел из-за перегородки:
— Этот будет жить!
Николай Ильич приспособил к приёмнику наушники. Слушал и пересказывал всё раненому красноармейцу.
После операции Терёхину, так назвал себя красноармеец, хотелось поскорее встать.
— Тошно мне, товарищ командир! Там, на фронте, наши хлопцы бьются! Надо идти!
Николай Ильич убеждал: пустая затея! Фронт откатился очень далеко. Догонит разве он, Терёхин, своих? По всем дорогам чужие войска.
— Э-эх! — вздыхал Терёхин. — Разве же нас учили отступать? У меня, товарищ командир, душа в крови.
Нередко Николай Ильич с Терёхиным просиживали всю ночь.
И всю ночь не спал Володя.
За перегородкой шёл тихий разговор…
Сегодня день рождения мамы. Первым пришёл поздравить именинницу её брат Пётр Фёдорович. Вскоре постучали дядя Иван с тётей Женей. Не успели сесть за стол — снова настойчивый стук.
Все насторожились!
В комнату шагнул Семён Лукич. Ему обрадовались: свой человек!
Ольга Фёдоровна взяла вазочку с вареньем, грустно улыбнулась:
— Сегодня мой день. Всё правильно… Если «они» поинтересуются, я покажу свой паспорт. Давно не собирались мы вот так, все вместе.
Есть о чём потолковать…
Володя сидел на койке рядом с Терёхиным. Все слушали Ольгу Фёдоровну. Говорила она о том, что в здании политехнического института — госпиталь и в нём томятся наши, умирают от ран. Есть в госпитале надёжные санитарки и медсёстры.
— Помогут нам организовать побег, — закончила Ольга Фёдоровна.
Из-за стола поднялся Семён Лукич. Волнуясь, рассказал о каком-то смельчаке, который сколотил небольшой вооружённый отряд. Скры вается этот отряд где-то под Минском, в лесных чащобах.
Раненый стонал. Володя видел, как мать вынесла таз с окровавленными повязками. В кухне она поставила кипятить воду. Проходя мимо командира, шепнула:
— Это — изумительный специалист, профессор.
Часа через полтора профессор вышел из-за перегородки:
— Этот будет жить!
Николай Ильич приспособил к приёмнику наушники. Слушал и пересказывал всё раненому красноармейцу.
После операции Терёхину, так назвал себя красноармеец, хотелось поскорее встать.
— Тошно мне, товарищ командир! Там, на фронте, наши хлопцы бьются! Надо идти!
Николай Ильич убеждал: пустая затея! Фронт откатился очень далеко. Догонит разве он, Терёхин, своих? По всем дорогам чужие войска.
— Э-эх! — вздыхал Терёхин. — Разве же нас учили отступать? У меня, товарищ командир, душа в крови.
Нередко Николай Ильич с Терёхиным просиживали всю ночь.
И всю ночь не спал Володя.
За перегородкой шёл тихий разговор…
Сегодня день рождения мамы. Первым пришёл поздравить именинницу её брат Пётр Фёдорович. Вскоре постучали дядя Иван с тётей Женей. Не успели сесть за стол — снова настойчивый стук.
Все насторожились!
В комнату шагнул Семён Лукич. Ему обрадовались: свой человек!
Ольга Фёдоровна взяла вазочку с вареньем, грустно улыбнулась:
— Сегодня мой день. Всё правильно… Если «они» поинтересуются, я покажу свой паспорт. Давно не собирались мы вот так, все вместе.
Есть о чём потолковать…
Володя сидел на койке рядом с Терёхиным. Все слушали Ольгу Фёдоровну. Говорила она о том, что в здании политехнического института — госпиталь и в нём томятся наши, умирают от ран. Есть в госпитале надёжные санитарки и медсёстры.
— Помогут нам организовать побег, — закончила Ольга Фёдоровна.
Из-за стола поднялся Семён Лукич. Волнуясь, рассказал о каком-то смельчаке, который сколотил небольшой вооружённый отряд. Скры вается этот отряд где-то под Минском, в лесных чащобах.
 Два раза обстреляли на тракте вражескую мотопехоту.
— На мой взгляд, тех командиров из госпиталя можно переправить в лесной лагерь.
Поднялся и Пётр Фёдорович.
— Допускаю… С территории госпиталя пленных удастся вывести.
А дальше? Очутились люди в городе… Да по одной их одежде всякий узнаёт беглецов. Выходит, выведем людей под вражеские автоматы!
— Знаете, какой в госпитале рацион? — сказал Иван. — Не умрёшь, но и не побежишь.
— Разрешите, товарищ командир? — с постели привстал Терёхин. — Дайте я пойду. Раненых выводить надо!
Командир откашлялся, одёрнул косоворотку:
— Освобождение военнопленных считаю для всех нас главной задачей!..
Было как на военном совете. Николай Ильич говорил о тщательной подготовке. Что значит «содействовать побегу»? У командиров должны быть документы, гражданская одежда. Да и подкормить их нужно.
Идёшь по родному городу и всё время настороже — отовсюду гитлеровцы.
Мама, Николай Ильин доверяют Володе многое. Он уже знает адреса людей, у которых прячутся такие же, как красноармеец Терёхин или Николай Ильич. Ходил Володя по городским окраинам и тихо стучался в окна домов. Стоило ему произнести несколько условных фраз, и сразу же кто-нибудь выносил узелок. В нём — одежда для раненых.
Вовка Борсук, одноклассник, тоже помогал. Ему с матерью так и не удалось уйти от немцев, вернулись в город к родственникам.
Володя догадывался, что у Семёна Лукича, унесшего исправленный радиоприёмник, печатают военные сводки. Дядя Ваня, шофёр, готовит специальный грузовик, а Надежда Фёдоровна добывает какие-то накладные/ По ним с хлебозавода можно получить муку. Может, она уже и получена. Может, из неё испекли хлеб и тайком переправили в госпиталь, чтобы подкормить раненых?
Поздно ночью намечен побег военнопленных.
С узлом одежды Володя ждал их в условном месте, возле старого деревянного моста. С реки надвигался холодный туман. Всё вокруг сливалось в чёрные и серые пятна.
Время словно остановилось.
Но вот справа из-за кустов тихий голос позвал: «Сюда, товарищи!»
Мелькнули пригнувшиеся к земле человеческие тени. Володя бросился из своего укрытия им навстречу.
— Заждался? — услышал он голос Петра Фёдоровича. — Давай, Владимир. Времени у нас в обрез.
Володя развязал узел, и раненые стали переодеваться. Военное обмундирование полетело в ночную реку. Всё! Пора уходить. Пётр Фёдорович изчезает первым. Раненых ведёт Володя.
Впервые Володя командует, да ещё взрослыми, военными людьми.
Шепчет: «Ложись!» — и оба раненых припадают к земле.
Тот, что с палкой, проворнее. Второй, натыкаясь на что-нибудь, не выдерживает и стонет.
— Поднимайтесь! — мальчик произносит это одними губами.
До дома они добрались, когда забрезжило утро. Раненых накормили, уложили в постель.
Два раза обстреляли на тракте вражескую мотопехоту.
— На мой взгляд, тех командиров из госпиталя можно переправить в лесной лагерь.
Поднялся и Пётр Фёдорович.
— Допускаю… С территории госпиталя пленных удастся вывести.
А дальше? Очутились люди в городе… Да по одной их одежде всякий узнаёт беглецов. Выходит, выведем людей под вражеские автоматы!
— Знаете, какой в госпитале рацион? — сказал Иван. — Не умрёшь, но и не побежишь.
— Разрешите, товарищ командир? — с постели привстал Терёхин. — Дайте я пойду. Раненых выводить надо!
Командир откашлялся, одёрнул косоворотку:
— Освобождение военнопленных считаю для всех нас главной задачей!..
Было как на военном совете. Николай Ильич говорил о тщательной подготовке. Что значит «содействовать побегу»? У командиров должны быть документы, гражданская одежда. Да и подкормить их нужно.
Идёшь по родному городу и всё время настороже — отовсюду гитлеровцы.
Мама, Николай Ильин доверяют Володе многое. Он уже знает адреса людей, у которых прячутся такие же, как красноармеец Терёхин или Николай Ильич. Ходил Володя по городским окраинам и тихо стучался в окна домов. Стоило ему произнести несколько условных фраз, и сразу же кто-нибудь выносил узелок. В нём — одежда для раненых.
Вовка Борсук, одноклассник, тоже помогал. Ему с матерью так и не удалось уйти от немцев, вернулись в город к родственникам.
Володя догадывался, что у Семёна Лукича, унесшего исправленный радиоприёмник, печатают военные сводки. Дядя Ваня, шофёр, готовит специальный грузовик, а Надежда Фёдоровна добывает какие-то накладные/ По ним с хлебозавода можно получить муку. Может, она уже и получена. Может, из неё испекли хлеб и тайком переправили в госпиталь, чтобы подкормить раненых?
Поздно ночью намечен побег военнопленных.
С узлом одежды Володя ждал их в условном месте, возле старого деревянного моста. С реки надвигался холодный туман. Всё вокруг сливалось в чёрные и серые пятна.
Время словно остановилось.
Но вот справа из-за кустов тихий голос позвал: «Сюда, товарищи!»
Мелькнули пригнувшиеся к земле человеческие тени. Володя бросился из своего укрытия им навстречу.
— Заждался? — услышал он голос Петра Фёдоровича. — Давай, Владимир. Времени у нас в обрез.
Володя развязал узел, и раненые стали переодеваться. Военное обмундирование полетело в ночную реку. Всё! Пора уходить. Пётр Фёдорович изчезает первым. Раненых ведёт Володя.
Впервые Володя командует, да ещё взрослыми, военными людьми.
Шепчет: «Ложись!» — и оба раненых припадают к земле.
Тот, что с палкой, проворнее. Второй, натыкаясь на что-нибудь, не выдерживает и стонет.
— Поднимайтесь! — мальчик произносит это одними губами.
До дома они добрались, когда забрезжило утро. Раненых накормили, уложили в постель.
 Часа через два в коридоре хлопнула дверь. Затопали тяжёлые шаги.
Потом… Володе показалось, пол пошатнулся. У порога стоял немец, обер-лейтенант.
Подойдя к столу, он взял лампу, поднял её повыше, чтобы лучше видеть. Теперь на обер-лейтенанта падал свет, можно было различить даже въевшуюся в его лицо металлическую пыль. Семён Лукич!
— Пора, товарищи! — коротко сказал он.
Через несколько минут в комнате уже не было ни Терёхина, ни командира, ни «обер-лейтенанта». Остались раненые, которых Володя привёл нынешней ночью: они ещё не могли перенёсти трудную дорогу в лес.
Ольга Фёдоровна с сыном стояли у окна. Они видели внизу, на мостовой, грузовик. В кузове было человек двенадцать. Возле самых бортов — вооружённые «немецкие солдаты». Один поднял вверх голову…
Володя узнал Петра Фёдоровича.
«Обер-лейтенант» вывел из подъезда Николая Ильича с Терёхиным, велел садиться в машину.
Некоторое время дядя Петя и Семён Лукич о чём-то советовались.
Потом «обер-лейтенант» сорвался с места, побежал в подъезд.
Володя выскочил на лестницу встретить Семёна Лукича. А он, ничего не говоря, прошёл в комнату. Мать, изумлённая, ждала его у порога. «Обер-лейтенант» о чём-то быстро говорил, мельком поглядывая на Володю. Вот и мать посмотрела. Так обычно глядят, когда провожают близкого человека. Мать сходила на кухню, принесла небольшой свёрток. Сняла с вешалки вельветовую куртку, подошла к Володе.
— Тебе, сынок, необходимо… с ними. — Она поцеловала сына, поправила шарф на шее.
…Город ещё спал. Но теперь, казалось, грузовик разбудит всех: он скрипел, лязгал, тарахтел.
При выезде из города грузовик затормозил, и Володя увидел впереди на дороге солдат с автоматами.
Со стороны деревянного строения приближался к машине гитлеровский офицер. Подошёл, взял протянутую из окошка кабины бумагу.
Сидящий в кабине «обер-лейтенант» запасся всеми нужными справками: людей везёт, мобилизованных на лесозаготовки.
Просмотрев документ, немец крикнул что-то солдатам, и они отошли в сторону.
Часа через два в коридоре хлопнула дверь. Затопали тяжёлые шаги.
Потом… Володе показалось, пол пошатнулся. У порога стоял немец, обер-лейтенант.
Подойдя к столу, он взял лампу, поднял её повыше, чтобы лучше видеть. Теперь на обер-лейтенанта падал свет, можно было различить даже въевшуюся в его лицо металлическую пыль. Семён Лукич!
— Пора, товарищи! — коротко сказал он.
Через несколько минут в комнате уже не было ни Терёхина, ни командира, ни «обер-лейтенанта». Остались раненые, которых Володя привёл нынешней ночью: они ещё не могли перенёсти трудную дорогу в лес.
Ольга Фёдоровна с сыном стояли у окна. Они видели внизу, на мостовой, грузовик. В кузове было человек двенадцать. Возле самых бортов — вооружённые «немецкие солдаты». Один поднял вверх голову…
Володя узнал Петра Фёдоровича.
«Обер-лейтенант» вывел из подъезда Николая Ильича с Терёхиным, велел садиться в машину.
Некоторое время дядя Петя и Семён Лукич о чём-то советовались.
Потом «обер-лейтенант» сорвался с места, побежал в подъезд.
Володя выскочил на лестницу встретить Семёна Лукича. А он, ничего не говоря, прошёл в комнату. Мать, изумлённая, ждала его у порога. «Обер-лейтенант» о чём-то быстро говорил, мельком поглядывая на Володю. Вот и мать посмотрела. Так обычно глядят, когда провожают близкого человека. Мать сходила на кухню, принесла небольшой свёрток. Сняла с вешалки вельветовую куртку, подошла к Володе.
— Тебе, сынок, необходимо… с ними. — Она поцеловала сына, поправила шарф на шее.
…Город ещё спал. Но теперь, казалось, грузовик разбудит всех: он скрипел, лязгал, тарахтел.
При выезде из города грузовик затормозил, и Володя увидел впереди на дороге солдат с автоматами.
Со стороны деревянного строения приближался к машине гитлеровский офицер. Подошёл, взял протянутую из окошка кабины бумагу.
Сидящий в кабине «обер-лейтенант» запасся всеми нужными справками: людей везёт, мобилизованных на лесозаготовки.
Просмотрев документ, немец крикнул что-то солдатам, и они отошли в сторону.
 Грузовик долго ехал вдоль речки. Остановился.
Семён Лукич объяснил задачу: все разбиваются на две группы и разными маршрутами пробираются в Логойский лесной массив. У первой за проводника будет Пётр Фёдорович. Вторую возглавит он, Семён Лукич.
— Ты пойдёшь с Фёдорычем, Владимир, — сказал Семён Лукич. — Дорогу запоминай. Пригодится.
В группу Петра Фёдоровича попали красноармеец Терёхин с Николаем Ильичём.
— Пошли!
…Тропа ныряет в лесную чащу. Здесь золотисто-зелёный сумрак.
Лес кончился, и в лицо подуло полевым жаром. Пыль хрустит на зубах. Будет ли когда конец этой дороге?..
Семеро обессилевших людей ступают на деревенскую улицу. Солнце уже садится, и его розовые лучи бьют прямо в лицо.
Подошли к хате, ничем не выделявшейся среди десятка других.
Володьке врезался в память взлохмаченный старик-хозяин, вышедший к путникам. Пригласил всех к себе. Дед определённо поджидал гостей.
После того как люди поели, передохнули, он прошамкал:
— Пойдёмте…
Пётр Фёдорович сказал племяннику:
— Теперь народ поведёт старик, а нам можно и назад. Запомни дедову хату.
Первыми подошли к Володе Николай Ильич и Терёхин. По очереди обняли его. Их глаза блестели на тёмных от пыли лицах. Володя смотрел в эти глаза, и ему хотелось сказать что-нибудь значительное. А из груди вырвался только вздох и обыкновенное «до свидания».
…Дорога к дому казалась гораздо длиннее. Володя спешил. Спешил, чтобы сказать матери: «Прошли наши. Прошли! На свободе они!»
В сентябре внезапно начались облавы, а в домах минчан скрывалось ещё много раненых, бежавших из плена.
Теперь отправляться в лесную деревню, к партизанам, Володе и раненым было намного опаснее. У лесных троп — фашистские засады, по сёлам рыщут полицаи, а на выходах из города — усиленные заставы.
Однажды Володя нарвался на засаду, осколок гранаты задел плечо.
Но что значит эта царапина по сравнению с теми мучениями, которые переносит раненый Игнатюк. Всё тело его — сплошная рана.
Грузовик долго ехал вдоль речки. Остановился.
Семён Лукич объяснил задачу: все разбиваются на две группы и разными маршрутами пробираются в Логойский лесной массив. У первой за проводника будет Пётр Фёдорович. Вторую возглавит он, Семён Лукич.
— Ты пойдёшь с Фёдорычем, Владимир, — сказал Семён Лукич. — Дорогу запоминай. Пригодится.
В группу Петра Фёдоровича попали красноармеец Терёхин с Николаем Ильичём.
— Пошли!
…Тропа ныряет в лесную чащу. Здесь золотисто-зелёный сумрак.
Лес кончился, и в лицо подуло полевым жаром. Пыль хрустит на зубах. Будет ли когда конец этой дороге?..
Семеро обессилевших людей ступают на деревенскую улицу. Солнце уже садится, и его розовые лучи бьют прямо в лицо.
Подошли к хате, ничем не выделявшейся среди десятка других.
Володьке врезался в память взлохмаченный старик-хозяин, вышедший к путникам. Пригласил всех к себе. Дед определённо поджидал гостей.
После того как люди поели, передохнули, он прошамкал:
— Пойдёмте…
Пётр Фёдорович сказал племяннику:
— Теперь народ поведёт старик, а нам можно и назад. Запомни дедову хату.
Первыми подошли к Володе Николай Ильич и Терёхин. По очереди обняли его. Их глаза блестели на тёмных от пыли лицах. Володя смотрел в эти глаза, и ему хотелось сказать что-нибудь значительное. А из груди вырвался только вздох и обыкновенное «до свидания».
…Дорога к дому казалась гораздо длиннее. Володя спешил. Спешил, чтобы сказать матери: «Прошли наши. Прошли! На свободе они!»
В сентябре внезапно начались облавы, а в домах минчан скрывалось ещё много раненых, бежавших из плена.
Теперь отправляться в лесную деревню, к партизанам, Володе и раненым было намного опаснее. У лесных троп — фашистские засады, по сёлам рыщут полицаи, а на выходах из города — усиленные заставы.
Однажды Володя нарвался на засаду, осколок гранаты задел плечо.
Но что значит эта царапина по сравнению с теми мучениями, которые переносит раненый Игнатюк. Всё тело его — сплошная рана.
 Лейтенанта, Рудзянко его фамилия, уже несколько дней назад забрала к себе тётя Женя.
В один из вечеров к Ольге Фёдоровне пришёл Пётр Фёдорович, торопливо сказал:
— Взяли Семёна Лукича! Лётчика я должен сегодня от вас переправить, а лейтенант пойдёт в лес. Медлить нельзя. Раз уж арестовали одного из нашей группы — значит, фашисты напали на след.
Пётр Фёдорович подошёл к Володе, положил ему руку на плечо:
— Лейтенанта поведёшь ты, Владимир. Возьми! — и отдал племяннику свой пистолет.
На улице темень, ветер, холодный дождь. Реку в центре города переходили по тому мосту, под которым Володька поджидал когда-то бежавших из плена.
Володя старался идти рядом с лейтенантом, но тот сильно припадал на одну ногу, отставал.
Как только булыжник кончился, идти стало совсем трудно: ноги разъезжались на скользкой траве.
— Товарищ лейтенант! — позвал Володя далеко отставшего попутчика. — Сейчас хорошая дорога пойдёт.
Ждал: должен был уже появиться твёрдый проезжий большак у лесной опушки.
Рудзянко ковылял уже в двух метрах и неожиданно сделался белым, словно обсыпанным мукой. Попал в яркий свет направленного на него фонаря.
Рядом с ним — солдат в пилотке. Хлопает раненого по бокам, шарит в его карманах.
Володька выхватил из-за пазухи пистолет.
— Ложись! — крикнул лейтенанту и одновременно выстрелил несколько раз в сторону света.
Упал, прижимаясь к мокрой траве.
Рядом разорвалась граната, ударило чем-то тупым в бок. Но Володька мог ползти. Пистолет был в руке. Пополз к укрывшемуся в чаще безоружному лейтенанту.
— К дороге будем пробиваться, — сказал Володя, — пока не начало светать…
— Не могу… к дороге, — едва слышно проговорил Рудзянко. — Не могу я, рана… не даёт.
«Как же теперь? Ползком? До деревни, где живёт дед-проводник, можно добраться дня за три. Однако днём не поползёшь: остановят».
Володя впервые почувствовал, как жжёт в боку. «Значит, ранен».
Потрогал рану, она была горячая на ощупь, даже сквозь куртку.
«Раненого лейтенанта может, пожалуй, спрятать у себя Вовка Борсук, — подумал Володя. — И живёт он на окраине. Если долго не раздумывать, хватит этой ночи, чтобы возвратиться в город».
Шли через ржаное поле. Да и просто просёлком, прикрываясь туманом.
Немцы полосовали фонарями тёмные окраинные улочки. В такие минуты важно было не растеряться. Володька тащил лейтенанта в укромное место — Рудзянко совсем обессилел.
Самые трудные — последние шаги. Их было сделано немало, пока Володька не постучал в калитку. Скрипнула дверь.
— Ты, Вовка?
— Гена! За углом раненый, — проговорил с трудом Володька, и тут силы оставили его.
В доме на Коммунистической теперь только один раненый — Володя.
Он боялся, что мама будет ругать его, как ругала раньше за синяки или шишки, добытые в мальчишеских играх-сражениях. Нет, не ругала.
Ольгу Фёдоровну успокоило то, что рана у сына была всё же не страшная. Опять повезло.
— Я заштопаю тебе куртку, сынок, — сказала Ольга Фёдоровна, возвратившись как-то от дяди Пети.
Мать села, положила на колени вельветовую куртку, разорванную осколком гранаты, и тихо сказала:
— Будем, сынок, пробираться вместе. К фронту.
…Шли полевой тропой — Володя с мамой и лейтенант Рудзянко.
Нога у лейтенанта ещё не зажила, однако, ступал он твёрдо.
Володе хотелось: пусть бы рядом был и тот человек, что возглавил переднюю группу. Мать сказала — майор.
Майора и ещё двоих, идущих с ним, можно было видеть только издалека. У них — маршрутная карта.
Хотелось пройти побольше за день, да путался в ногах вереск — высокая и жёсткая трава.
Под вечер выбрались, наконец, к дороге.
— Из какой деревни будешь, отец? — поинтересовался лейтенант у крестьянина.
— Здешние мы, — донеслось сверху.
Далеко впереди разразились автоматные выстрелы.
— Прячьтесь! — крикнул крестьянин и стеганул вожжами лошадь.
Лейтенант первым сиганул в березняк у обочины. Володя упал прямо на дорогу. Дышал в пыль. Приподнял голову. Мама стоит на середине дороги, смотрит в ту сторону, куда умчался воз с сеном. Володя подбежал к маме, и она тотчас же оттащила его в придорожный кустарник.
Лейтенант затаился. Его не было слышно.
Стемнело.
Володя с матерью до боли в глазах всматривались в серую гряду деревенских хат.
На дороге заскрипели колёса. Из темноты выплыли силуэты лошади и человека, сидящего на пустой телеге.
Телега остановилась:
— Эй! Есть тут кто? — голос был знакомый: звал мужик, вёзший недавно сено. — Чуете вы, люди? В селе немцы! Ваших троих они ухлопали… Уходите!
Уже стояла ночь. Мама показала Володе на сосну у обочины. Он должен находиться напротив неё, в кустарнике.
— Мы скоро вернёмся…
Ольга Фёдоровна не сомневалась, что найдёт хоть кого-нибудь из командиров.
Она долго не возвращалась.
Среди ночи Володя встал, отыскал глазами дерево. До сосны оставалось несколько шагов, когда темноту разорвали вспышки выстрелов.
— Ни с места! — рявкнул кто-то простуженным голосом.
К нему приближались полицаи, щёлкая винтовочными затворами…
…Допросы и пытки, пытки и допросы. Болит всё тело, знобит, нет сил подняться с холодного каменного пола.
— За что это они тебя так? Чего ты таишь от них? — настойчиво допытывался старик, который сидит в камере вместе с Володей.
Володя молчит. Он понимает, что на следующем допросе будет ещё труднее. Потеряв сознание, можно и проговориться.
«У нас разбомбило дом. Я жил на Садовой, — повторяет про себя Володя. — Я пробирался домой. Меня остановили…»
— Ты шёл не один. С тобой были командиры Красной Армии. Они бежали из плена, и ты, Владимир Щербацевич, должен был переправить их, — говорит гестаповский офицер. Он стоит на фоне широкого светлого окна. — Рассказывай!
— О чём?
— О подполье.
— Я не знаю, что это такое.
— Хорошо, мы объясним. Подполье — твой дом на Коммунистической улице. Там скрывались советские военнопленные. Их прятали вы с матерью…
Володя чувствовал, как слабеют ноги. Кто же это всё рассказал?
Голова гестаповца вяло покачивается, потом разбухает, увеличивается. И вот уже не голова, а что-то непонятное, огромное движется Володе навстречу.
— Будешь говорить?..
…По голове за воротник рубахи стекает ледяная вода, и резко пахнет нашатырным спиртом.
— Мы из тебя вытянем!
«Значит, молчал, — мелькнуло в сознании Володи. — Молчал!» — Стало сразу легче дышать.
Дверь в стене бесшумно раздвигается, и в кабинет входит офицер.
Следователь отдаёт ему короткое распоряжение.
Через несколько минут в комнату вводят Ольгу Фёдоровну.
— Узнаёшь? — голос следователя доносится откуда-то издалека. — Подойди к своей матери. Ты что, оглох?
Володе очень трудно смотреть маме в глаза и говорить, что не знает её, не встречал. Но он говорит и угадывает по маминому лицу, что поступает правильно. Теперь гестаповец обращается к Ольге Фёдоровне, и Володя слышит тихий мамин голос:
— Мне… незнаком этот мальчик.
Ввели какого-то человека. «Рудзянко?!»
— Вы являетесь командиром Красной Армии? — спрашивает его гестаповец.
— Да, — отвечает заключённый.
Володя вздрогнул. Он слышит, как лейтенант называет имена тех, кто недавно его лечил, пытался вывести к фронту. Но это уже какой-то другой человек, незнакомый, неизвестный.
Если бы можно было вот сейчас же наброситься на него! Но надо сдерживать себя. Пусть предатель утверждает, что в кабинете следователя находятся сейчас мать и сын Щербацевичи, — «главные деятели подпольной группы». Володя же отвечает:
— Я на Коммунистической никого не знаю.
Ольга Фёдоровна говорит то же самое: не знакомы ей ни мальчик, ни лейтенант.
Из соседней комнаты вышли двое. Они взяли Володю под руки.
Он не сопротивлялся, боясь, как бы вместо него не схватили маму.
Но она сама стала просить солдат, чтобы оставили ребёнка, и, если надо, пусть возьмут её.
— Ты будешь стоять. И смотреть! — слышит в ответ Ольга Фёдоровна.
Слышит это и Володя. Его бросают на высокий топчан из жердей.
Что-то очень тяжёлое обрушивается на поясницу…
Свет померк, и, — конечно, Володя не мог слышать, как кричал гестаповец. Он порывисто влетел в кабинет следователя, чтобы сказать ему: «Вы недоучка! Не можете допросить ребёнка!»
Побелевший следователь почтительно вытянулся перед своим начальником.
Гестаповец протянул ему портсигар и уже примирительно посоветовал:
— Посадите в камеру к этому… нашего агента.
Следователь доложил, что такой агент уже сидит в камере.
Крестьянин дремлет в углу. По коридору протопал кто-то, разбудил бородача. Он некоторое время моргал, глядя на мальчишку. Проворно вскочил, поклонился:
— С выздоровлением тебя! Сейчас ужинать будем.
Направился к двери, забарабанил по ней кулаками. В коридоре раздались сердитые крики.
— Не ори, — спокойно проговорил дед. — Ты лучше еды тащи.
Человек три дня ничего не ел. За все три подавай, скотина!
Тюремщики принесли котелок щей, хлеба…
К концу дня Володя уже мог сам подняться с койки и, держась за стену, пройти несколько шагов.
— Ты бы поспал, — посоветовал старик. — Ночь уж скоро. А там и утро. Копи силы, сынок. Пригодятся.
Дед знал: завтра вот этого мальчишку немцы поведут на казнь.
В последний раз пройдёт он по городу, где родился и где вырос…
Пусть бы не приходило утро! Ничего радостного не предвещало оно и самому крестьянину. Следователь ждёт от него сведений, которых не смог вытянуть из мальчишки за двадцать дней пыток! Старику обещана лошадь, новая хата, деньги. Пусть войдёт только в доверие к этому маленькому большевику. Пусть узнает нужные имена, адреса и то место, где расположена партизанская база.
Завтра старик разведёт перед гестаповцами руками…
Володя долго беспокойно метался во сне, бредил. К концу ночи спал хорошо.
А в коридоре уже топали солдаты…
26 октября 1941 года гитлеровцы повесили Володю и его маму.
К месту казни оккупанты согнали жителей, чтобы устрашить их.
А из толпы неслось гневное: «Не простим!»
Ни одного дня не чувствовали фашисты себя хозяевами в Минске.
Гремели взрывы, выстрелы — то бились с захватчиками герои-подпольщики.
Всё, что стало известно о юном патриоте Володе Щербацевиче, — результат долгого и настойчивого труда поисковой группы «Подвиг» из школы № 30 города Минска.
В поиске принимали участие пионеры Саша Азаров, Вова Глазунов, Алла Коман и другие.
Поиск был начат со снимка Володи в момент казни, найденного ребятами у людей, очевидцев гибели отважного пионера.
Лейтенанта, Рудзянко его фамилия, уже несколько дней назад забрала к себе тётя Женя.
В один из вечеров к Ольге Фёдоровне пришёл Пётр Фёдорович, торопливо сказал:
— Взяли Семёна Лукича! Лётчика я должен сегодня от вас переправить, а лейтенант пойдёт в лес. Медлить нельзя. Раз уж арестовали одного из нашей группы — значит, фашисты напали на след.
Пётр Фёдорович подошёл к Володе, положил ему руку на плечо:
— Лейтенанта поведёшь ты, Владимир. Возьми! — и отдал племяннику свой пистолет.
На улице темень, ветер, холодный дождь. Реку в центре города переходили по тому мосту, под которым Володька поджидал когда-то бежавших из плена.
Володя старался идти рядом с лейтенантом, но тот сильно припадал на одну ногу, отставал.
Как только булыжник кончился, идти стало совсем трудно: ноги разъезжались на скользкой траве.
— Товарищ лейтенант! — позвал Володя далеко отставшего попутчика. — Сейчас хорошая дорога пойдёт.
Ждал: должен был уже появиться твёрдый проезжий большак у лесной опушки.
Рудзянко ковылял уже в двух метрах и неожиданно сделался белым, словно обсыпанным мукой. Попал в яркий свет направленного на него фонаря.
Рядом с ним — солдат в пилотке. Хлопает раненого по бокам, шарит в его карманах.
Володька выхватил из-за пазухи пистолет.
— Ложись! — крикнул лейтенанту и одновременно выстрелил несколько раз в сторону света.
Упал, прижимаясь к мокрой траве.
Рядом разорвалась граната, ударило чем-то тупым в бок. Но Володька мог ползти. Пистолет был в руке. Пополз к укрывшемуся в чаще безоружному лейтенанту.
— К дороге будем пробиваться, — сказал Володя, — пока не начало светать…
— Не могу… к дороге, — едва слышно проговорил Рудзянко. — Не могу я, рана… не даёт.
«Как же теперь? Ползком? До деревни, где живёт дед-проводник, можно добраться дня за три. Однако днём не поползёшь: остановят».
Володя впервые почувствовал, как жжёт в боку. «Значит, ранен».
Потрогал рану, она была горячая на ощупь, даже сквозь куртку.
«Раненого лейтенанта может, пожалуй, спрятать у себя Вовка Борсук, — подумал Володя. — И живёт он на окраине. Если долго не раздумывать, хватит этой ночи, чтобы возвратиться в город».
Шли через ржаное поле. Да и просто просёлком, прикрываясь туманом.
Немцы полосовали фонарями тёмные окраинные улочки. В такие минуты важно было не растеряться. Володька тащил лейтенанта в укромное место — Рудзянко совсем обессилел.
Самые трудные — последние шаги. Их было сделано немало, пока Володька не постучал в калитку. Скрипнула дверь.
— Ты, Вовка?
— Гена! За углом раненый, — проговорил с трудом Володька, и тут силы оставили его.
В доме на Коммунистической теперь только один раненый — Володя.
Он боялся, что мама будет ругать его, как ругала раньше за синяки или шишки, добытые в мальчишеских играх-сражениях. Нет, не ругала.
Ольгу Фёдоровну успокоило то, что рана у сына была всё же не страшная. Опять повезло.
— Я заштопаю тебе куртку, сынок, — сказала Ольга Фёдоровна, возвратившись как-то от дяди Пети.
Мать села, положила на колени вельветовую куртку, разорванную осколком гранаты, и тихо сказала:
— Будем, сынок, пробираться вместе. К фронту.
…Шли полевой тропой — Володя с мамой и лейтенант Рудзянко.
Нога у лейтенанта ещё не зажила, однако, ступал он твёрдо.
Володе хотелось: пусть бы рядом был и тот человек, что возглавил переднюю группу. Мать сказала — майор.
Майора и ещё двоих, идущих с ним, можно было видеть только издалека. У них — маршрутная карта.
Хотелось пройти побольше за день, да путался в ногах вереск — высокая и жёсткая трава.
Под вечер выбрались, наконец, к дороге.
— Из какой деревни будешь, отец? — поинтересовался лейтенант у крестьянина.
— Здешние мы, — донеслось сверху.
Далеко впереди разразились автоматные выстрелы.
— Прячьтесь! — крикнул крестьянин и стеганул вожжами лошадь.
Лейтенант первым сиганул в березняк у обочины. Володя упал прямо на дорогу. Дышал в пыль. Приподнял голову. Мама стоит на середине дороги, смотрит в ту сторону, куда умчался воз с сеном. Володя подбежал к маме, и она тотчас же оттащила его в придорожный кустарник.
Лейтенант затаился. Его не было слышно.
Стемнело.
Володя с матерью до боли в глазах всматривались в серую гряду деревенских хат.
На дороге заскрипели колёса. Из темноты выплыли силуэты лошади и человека, сидящего на пустой телеге.
Телега остановилась:
— Эй! Есть тут кто? — голос был знакомый: звал мужик, вёзший недавно сено. — Чуете вы, люди? В селе немцы! Ваших троих они ухлопали… Уходите!
Уже стояла ночь. Мама показала Володе на сосну у обочины. Он должен находиться напротив неё, в кустарнике.
— Мы скоро вернёмся…
Ольга Фёдоровна не сомневалась, что найдёт хоть кого-нибудь из командиров.
Она долго не возвращалась.
Среди ночи Володя встал, отыскал глазами дерево. До сосны оставалось несколько шагов, когда темноту разорвали вспышки выстрелов.
— Ни с места! — рявкнул кто-то простуженным голосом.
К нему приближались полицаи, щёлкая винтовочными затворами…
…Допросы и пытки, пытки и допросы. Болит всё тело, знобит, нет сил подняться с холодного каменного пола.
— За что это они тебя так? Чего ты таишь от них? — настойчиво допытывался старик, который сидит в камере вместе с Володей.
Володя молчит. Он понимает, что на следующем допросе будет ещё труднее. Потеряв сознание, можно и проговориться.
«У нас разбомбило дом. Я жил на Садовой, — повторяет про себя Володя. — Я пробирался домой. Меня остановили…»
— Ты шёл не один. С тобой были командиры Красной Армии. Они бежали из плена, и ты, Владимир Щербацевич, должен был переправить их, — говорит гестаповский офицер. Он стоит на фоне широкого светлого окна. — Рассказывай!
— О чём?
— О подполье.
— Я не знаю, что это такое.
— Хорошо, мы объясним. Подполье — твой дом на Коммунистической улице. Там скрывались советские военнопленные. Их прятали вы с матерью…
Володя чувствовал, как слабеют ноги. Кто же это всё рассказал?
Голова гестаповца вяло покачивается, потом разбухает, увеличивается. И вот уже не голова, а что-то непонятное, огромное движется Володе навстречу.
— Будешь говорить?..
…По голове за воротник рубахи стекает ледяная вода, и резко пахнет нашатырным спиртом.
— Мы из тебя вытянем!
«Значит, молчал, — мелькнуло в сознании Володи. — Молчал!» — Стало сразу легче дышать.
Дверь в стене бесшумно раздвигается, и в кабинет входит офицер.
Следователь отдаёт ему короткое распоряжение.
Через несколько минут в комнату вводят Ольгу Фёдоровну.
— Узнаёшь? — голос следователя доносится откуда-то издалека. — Подойди к своей матери. Ты что, оглох?
Володе очень трудно смотреть маме в глаза и говорить, что не знает её, не встречал. Но он говорит и угадывает по маминому лицу, что поступает правильно. Теперь гестаповец обращается к Ольге Фёдоровне, и Володя слышит тихий мамин голос:
— Мне… незнаком этот мальчик.
Ввели какого-то человека. «Рудзянко?!»
— Вы являетесь командиром Красной Армии? — спрашивает его гестаповец.
— Да, — отвечает заключённый.
Володя вздрогнул. Он слышит, как лейтенант называет имена тех, кто недавно его лечил, пытался вывести к фронту. Но это уже какой-то другой человек, незнакомый, неизвестный.
Если бы можно было вот сейчас же наброситься на него! Но надо сдерживать себя. Пусть предатель утверждает, что в кабинете следователя находятся сейчас мать и сын Щербацевичи, — «главные деятели подпольной группы». Володя же отвечает:
— Я на Коммунистической никого не знаю.
Ольга Фёдоровна говорит то же самое: не знакомы ей ни мальчик, ни лейтенант.
Из соседней комнаты вышли двое. Они взяли Володю под руки.
Он не сопротивлялся, боясь, как бы вместо него не схватили маму.
Но она сама стала просить солдат, чтобы оставили ребёнка, и, если надо, пусть возьмут её.
— Ты будешь стоять. И смотреть! — слышит в ответ Ольга Фёдоровна.
Слышит это и Володя. Его бросают на высокий топчан из жердей.
Что-то очень тяжёлое обрушивается на поясницу…
Свет померк, и, — конечно, Володя не мог слышать, как кричал гестаповец. Он порывисто влетел в кабинет следователя, чтобы сказать ему: «Вы недоучка! Не можете допросить ребёнка!»
Побелевший следователь почтительно вытянулся перед своим начальником.
Гестаповец протянул ему портсигар и уже примирительно посоветовал:
— Посадите в камеру к этому… нашего агента.
Следователь доложил, что такой агент уже сидит в камере.
Крестьянин дремлет в углу. По коридору протопал кто-то, разбудил бородача. Он некоторое время моргал, глядя на мальчишку. Проворно вскочил, поклонился:
— С выздоровлением тебя! Сейчас ужинать будем.
Направился к двери, забарабанил по ней кулаками. В коридоре раздались сердитые крики.
— Не ори, — спокойно проговорил дед. — Ты лучше еды тащи.
Человек три дня ничего не ел. За все три подавай, скотина!
Тюремщики принесли котелок щей, хлеба…
К концу дня Володя уже мог сам подняться с койки и, держась за стену, пройти несколько шагов.
— Ты бы поспал, — посоветовал старик. — Ночь уж скоро. А там и утро. Копи силы, сынок. Пригодятся.
Дед знал: завтра вот этого мальчишку немцы поведут на казнь.
В последний раз пройдёт он по городу, где родился и где вырос…
Пусть бы не приходило утро! Ничего радостного не предвещало оно и самому крестьянину. Следователь ждёт от него сведений, которых не смог вытянуть из мальчишки за двадцать дней пыток! Старику обещана лошадь, новая хата, деньги. Пусть войдёт только в доверие к этому маленькому большевику. Пусть узнает нужные имена, адреса и то место, где расположена партизанская база.
Завтра старик разведёт перед гестаповцами руками…
Володя долго беспокойно метался во сне, бредил. К концу ночи спал хорошо.
А в коридоре уже топали солдаты…
26 октября 1941 года гитлеровцы повесили Володю и его маму.
К месту казни оккупанты согнали жителей, чтобы устрашить их.
А из толпы неслось гневное: «Не простим!»
Ни одного дня не чувствовали фашисты себя хозяевами в Минске.
Гремели взрывы, выстрелы — то бились с захватчиками герои-подпольщики.
Всё, что стало известно о юном патриоте Володе Щербацевиче, — результат долгого и настойчивого труда поисковой группы «Подвиг» из школы № 30 города Минска.
В поиске принимали участие пионеры Саша Азаров, Вова Глазунов, Алла Коман и другие.
Поиск был начат со снимка Володи в момент казни, найденного ребятами у людей, очевидцев гибели отважного пионера.
ГРИША АКОПЯН Хромов КузьмаГеоргиевич
 Мария Григорьевна занималась домашними делами, когда в комнату вбежал с заплаканными глазами Гриша. Он был так расстроен, что не мог вымолвить ни слова.
— Что с тобой, сынок? — спросила мать.
— Дядя Саркис… — всхлипывая, проговорил Гриша. — Дядя Саркис сказал, что умер самый большой человек в мире.
— Кто умер? О ком ты говоришь?
— Ленин умер, мама, — с трудом вымолвил мальчик.
Он закивал головой и разрыдался. Мария Григорьевна молча опустилась на стул. По лицу её покатились слёзы.
В этот день смерть любимого вождя оплакивала вся страна, трудящиеся всего мира.
Когда портной Каграман Захарович Акопян пришёл домой с работы, семья была в глубоком трауре.
Поглаживая каштановые волосы Гриши, отец задумчиво говорил:
— Умер великий Ленин. Но с нами партия… Она поведёт нас по указанному Лениным пути…
— А Ленин был сильным, папа? — спросил Гриша.
— Он был самым умным человеком на земном шаре. Ты видишь ту чинару, что растёт на пригорке?
— Вижу, — блеснул глазами Гриша.
— Её корни глубоко вросли в землю. Они служат чинаре опорой.
Ни ветер, ни буран не свалят её. Вот так и Ленин — его мысли и дела живут в народе.
Через несколько дней Серёжа, старший брат Гриши, худенький, с большими чёрными глазами паренёк, принёс газету.
Он прочёл напечатанное в ней письмо пионеров, в котором ребята говорили:
«Ты умер, Ильич. Но по заветам твоим выкуем из наших рядов стальную армию, какую ты хотел видеть».
— Папа, — спросил Гриша, — что значит «стальную армию»?
— Крепкую, сильную, не боящуюся никаких врагов. Понял?
— Понял, — ответил мальчик. — Я тоже буду таким. Я не буду бояться врагов, как не боялся Ленин!
Мария Григорьевна занималась домашними делами, когда в комнату вбежал с заплаканными глазами Гриша. Он был так расстроен, что не мог вымолвить ни слова.
— Что с тобой, сынок? — спросила мать.
— Дядя Саркис… — всхлипывая, проговорил Гриша. — Дядя Саркис сказал, что умер самый большой человек в мире.
— Кто умер? О ком ты говоришь?
— Ленин умер, мама, — с трудом вымолвил мальчик.
Он закивал головой и разрыдался. Мария Григорьевна молча опустилась на стул. По лицу её покатились слёзы.
В этот день смерть любимого вождя оплакивала вся страна, трудящиеся всего мира.
Когда портной Каграман Захарович Акопян пришёл домой с работы, семья была в глубоком трауре.
Поглаживая каштановые волосы Гриши, отец задумчиво говорил:
— Умер великий Ленин. Но с нами партия… Она поведёт нас по указанному Лениным пути…
— А Ленин был сильным, папа? — спросил Гриша.
— Он был самым умным человеком на земном шаре. Ты видишь ту чинару, что растёт на пригорке?
— Вижу, — блеснул глазами Гриша.
— Её корни глубоко вросли в землю. Они служат чинаре опорой.
Ни ветер, ни буран не свалят её. Вот так и Ленин — его мысли и дела живут в народе.
Через несколько дней Серёжа, старший брат Гриши, худенький, с большими чёрными глазами паренёк, принёс газету.
Он прочёл напечатанное в ней письмо пионеров, в котором ребята говорили:
«Ты умер, Ильич. Но по заветам твоим выкуем из наших рядов стальную армию, какую ты хотел видеть».
— Папа, — спросил Гриша, — что значит «стальную армию»?
— Крепкую, сильную, не боящуюся никаких врагов. Понял?
— Понял, — ответил мальчик. — Я тоже буду таким. Я не буду бояться врагов, как не боялся Ленин!
* * *
Гриша очень любил читать книги. Как-то к нему зашёл его дружок Меджид. — Пойдём погуляем, Гриша, — предложил он. — Нет, Меджид. Очень интересная книга. Вчера в библиотеке взял. Не могу оторваться. — Что за книга? — О Чапаеве. Вот был герой! Красный командир! Все беляки от него драпали. — Мне дашь почитать? — Дам. Знаешь, Чапаев за дело Ленина воевал. Взмахнёт саблей— и враги в разные стороны бегут. И конь у него был белый-белый. Наверно, такой же, как у Кер-оглы[1]. Субботник был назначен на десять утра, а Гриша проснулся на рассвете. Он встал, выгладил галстук, почистил ботинки. Мария Григорьевна искоса поглядывала на сына. — Гриша, ты будто идёшь не на субботник, а на пионерский сбор. — Субботник, мама, тоже сбор, тоже праздник! К школе Гриша пришёл первым. В это время обрушился сильный ливень, но пионер не ушёл. Он укрылся под ветвями старой чинары. Вот и учитель Левон Суренович. — Гриша, что ты тут делаешь? Смотри, весь промок. — Я пришёл на субботник, — ответил мальчик. — В такой ливень? — Но ведь я дал честное слово, Левон Суренович!.. Учитель с гордостью посмотрел на своего ученика. 1930 год. В азербайджанских деревнях создаются колхозы. На полях появились первые тракторы. Советская власть принесла в сёла радостную, свободную жизнь.
Но враги Советской власти не унимались. Они поджигали амбары, истребляли скот, расправлялись с сельскими активистами.
В Шамхоре от руки кулака погиб пионер Адиль Исламов, попытавшийся спасти колхозное добро.
Дело было так. В сумерках двое неизвестных проникли на колхозное поле с серпами в руках и стали срезать кусты хлопчатника.
Юркий, небольшого роста, пионер Адиль Исламов, укрывшись за кустом, молча наблюдал за действиями вредителей. Кто они такие?!
Вдруг до Адиля донёсся властный голос одного из злоумышленников.
— Режь. Чего стоишь?
Засверкали серпы. На землю повалились кусты хлопчатника с зелёными, нераскрывшимися коробочками.
Адиль понял: в поле орудуют негодяи, враги. Он вышел из-за куста и громко спросил:
— Что вы здесь делаете? Ведь это же колхозный хлопок!
— А тебе что надо, ты кто такой? — выпрямился один из них.
— Я пионер! — ответил мальчик. — А вы… Вы враги! Вот вы кто!
— Ах, ты щенок эдакий! — Высокий, в большой барашковой папахе, мужчина шагнул к Адилю. Мальчик сразу же узнал его. Это был сын известного деревенского богача Гасана Кулибека. Он схватил Адиля за горло:
— Уходи и никому ни слова. Иначе… — Бандит вынул из-под полы кинжал и показал его мальчику. — Видишь? Знаешь, какой он острый!
Не из пугливых был пионер Адиль Исламов! Он не стал покрывать действия врагов и сообщил в сельсовет. Кулаки были арестованы и преданы суду. Но спустя некоторое время кулацкие родичи подкараулили Адиля и убили его.
Вскоре Гянджу и окружающие город сёла облетела весть о подвиге пионерки Лятифы Сулеймановой из селения Сефикюрд.
…Ночь. Спит село Сефикюрд, но не спится пионерке Лятифе Сулеймановой. Она лежит на копне свежего сена в саду и шепчет стихотворение. Она прочитает его завтра в клубе. Стихотворение о первом трактористе села Гамиде Мамедове. Лятифа никогда ещё не выступала на сцене, и она очень волнуется.
Горят яркие южные звёзды. «Интересно, — думает девочка, — чего больше: звёзд на небе или людей на земле?..»
Как много Лятифе надо знать! Но сейчас некогда мечтать. Нужно выучить стихотворение. Тихо шуршит в саду листва. Где-то поблизости залаяли собаки, замычала корова. Рядом — колхозная ферма. Лятифа часто ходит туда и смотрит, как женщины доят коров. Она и сама научилась…
Вдруг за стеной мелькнул свет. С каждым мгновением он становился всё ярче. Лятифа сбросила одеяло и подбежала к стене. Она увидела — горит соломенная крыша коровника.
В ту же минуту через ограду в сад перепрыгнули два человека.
— Уф! — произнёс один из них. — Теперь нас не заметят. Пусть колхозники едят коровий шашлык.
— Г-горит большевистская коммуна, — довольным голосом сказал другой. — Г-горит!
Заикание сразу выдало говорившего. Лятифа узнала в нём соседа, бывшего торговца. Девочка пошла прямо на поджигателей. Подойдя к ним, она сказала:
— Так вот ты чем занимаешься, дядя Гюльали! Я всем расскажу о твоих проделках.
— Молчи, красная ящерица. У-убью!
Лятифа перескочила через ограду и побежала по улице, выкрикивая:
— Пожар! Пожар! Гюльали Садыхов поджёг коровник!
Вслед за девочкой метнулась зловещая тень торговца. Несколькими прыжками, как лютый зверь, он нагнал пионерку и вонзил нож в спину.
Падая, Лятифа крикнула:
— Мама! Гюльали подж…
1930 год. В азербайджанских деревнях создаются колхозы. На полях появились первые тракторы. Советская власть принесла в сёла радостную, свободную жизнь.
Но враги Советской власти не унимались. Они поджигали амбары, истребляли скот, расправлялись с сельскими активистами.
В Шамхоре от руки кулака погиб пионер Адиль Исламов, попытавшийся спасти колхозное добро.
Дело было так. В сумерках двое неизвестных проникли на колхозное поле с серпами в руках и стали срезать кусты хлопчатника.
Юркий, небольшого роста, пионер Адиль Исламов, укрывшись за кустом, молча наблюдал за действиями вредителей. Кто они такие?!
Вдруг до Адиля донёсся властный голос одного из злоумышленников.
— Режь. Чего стоишь?
Засверкали серпы. На землю повалились кусты хлопчатника с зелёными, нераскрывшимися коробочками.
Адиль понял: в поле орудуют негодяи, враги. Он вышел из-за куста и громко спросил:
— Что вы здесь делаете? Ведь это же колхозный хлопок!
— А тебе что надо, ты кто такой? — выпрямился один из них.
— Я пионер! — ответил мальчик. — А вы… Вы враги! Вот вы кто!
— Ах, ты щенок эдакий! — Высокий, в большой барашковой папахе, мужчина шагнул к Адилю. Мальчик сразу же узнал его. Это был сын известного деревенского богача Гасана Кулибека. Он схватил Адиля за горло:
— Уходи и никому ни слова. Иначе… — Бандит вынул из-под полы кинжал и показал его мальчику. — Видишь? Знаешь, какой он острый!
Не из пугливых был пионер Адиль Исламов! Он не стал покрывать действия врагов и сообщил в сельсовет. Кулаки были арестованы и преданы суду. Но спустя некоторое время кулацкие родичи подкараулили Адиля и убили его.
Вскоре Гянджу и окружающие город сёла облетела весть о подвиге пионерки Лятифы Сулеймановой из селения Сефикюрд.
…Ночь. Спит село Сефикюрд, но не спится пионерке Лятифе Сулеймановой. Она лежит на копне свежего сена в саду и шепчет стихотворение. Она прочитает его завтра в клубе. Стихотворение о первом трактористе села Гамиде Мамедове. Лятифа никогда ещё не выступала на сцене, и она очень волнуется.
Горят яркие южные звёзды. «Интересно, — думает девочка, — чего больше: звёзд на небе или людей на земле?..»
Как много Лятифе надо знать! Но сейчас некогда мечтать. Нужно выучить стихотворение. Тихо шуршит в саду листва. Где-то поблизости залаяли собаки, замычала корова. Рядом — колхозная ферма. Лятифа часто ходит туда и смотрит, как женщины доят коров. Она и сама научилась…
Вдруг за стеной мелькнул свет. С каждым мгновением он становился всё ярче. Лятифа сбросила одеяло и подбежала к стене. Она увидела — горит соломенная крыша коровника.
В ту же минуту через ограду в сад перепрыгнули два человека.
— Уф! — произнёс один из них. — Теперь нас не заметят. Пусть колхозники едят коровий шашлык.
— Г-горит большевистская коммуна, — довольным голосом сказал другой. — Г-горит!
Заикание сразу выдало говорившего. Лятифа узнала в нём соседа, бывшего торговца. Девочка пошла прямо на поджигателей. Подойдя к ним, она сказала:
— Так вот ты чем занимаешься, дядя Гюльали! Я всем расскажу о твоих проделках.
— Молчи, красная ящерица. У-убью!
Лятифа перескочила через ограду и побежала по улице, выкрикивая:
— Пожар! Пожар! Гюльали Садыхов поджёг коровник!
Вслед за девочкой метнулась зловещая тень торговца. Несколькими прыжками, как лютый зверь, он нагнал пионерку и вонзил нож в спину.
Падая, Лятифа крикнула:
— Мама! Гюльали подж…
 Девочка не договорила. Это были её последние слова.
В Гяндже пионеры базы № 8 решили провести специальный сбор.
Они пригласили на него старого коммуниста Курбана Мамедова, рабочего типографии Саркиса Мартиросяна и своих старших товарищей — комсомольцев.
К месту сбора, на Красную горку, откуда открывался замечательный вид на долину реки Гянджачай, пионеры отправились с красным пионерским знаменем. Его нёс Гриша Акопян.
Запылал костёр. Ребята запели:
Девочка не договорила. Это были её последние слова.
В Гяндже пионеры базы № 8 решили провести специальный сбор.
Они пригласили на него старого коммуниста Курбана Мамедова, рабочего типографии Саркиса Мартиросяна и своих старших товарищей — комсомольцев.
К месту сбора, на Красную горку, откуда открывался замечательный вид на долину реки Гянджачай, пионеры отправились с красным пионерским знаменем. Его нёс Гриша Акопян.
Запылал костёр. Ребята запели:
* * *
Однажды Гриша возвращался с очередного сбора домой поздно вечером. На углу его поджидал двенадцатилетний Гасан Алиев из соседнего двора. — Гриша, — предупредил он, — в саду барчуки. У одного из них нож. Пойдём через наш двор. А то они нападут на тебя. — Я не боюсь их, — гордо ответил Гриша. И он зашагал улицей по направлению к дому. Гасан пошёл за ним следом. Как только они поравнялись с садом, из-за кустов полетели камни. — Эй, вы! — крикнул Г риша. — Чего прячетесь? Кто из вас смелый, вылезай! В саду молчали. Гриша зашагал дальше. — Они струсили, — сказал Гасан. — Перед такими никогда не надо отступать, — ответил ему Гриша. — Никогда! — Но они же взрослые, — не успокаивался Гасан. — Ты, Гриша, не справишься с ними. — Разве дело в физической сил?? — А в чём же? — В смелости. Полночь, а Гриша никак не может оторваться от книги. — Пора спать, сыночек, — напоминает Грише Мария Григорьевна. Он и сам знает, что уже поздно, но попробуй оторваться от такой книги, как «Овод»? До слуха Гриши доходит какой-то отдалённый стук. «Может быть, Арменак и его дружки снова ломают стену, чтобы пробраться во двор дома?» Это уже было один раз. Решив расправиться с беспокойным и активным пионером, они стали продалбливать в каменной стене дыру, чтобы пробраться во двор к Акопянам, но были схвачены. А однажды Арменак ворвался в коровник, где Мария Григорьевна доила корову. Хулиган пригрозил, что расправится с Гришей, если он не перестанет бороться с кулаками. — Не связывайся с ними, сынок, — робко попросила она. — Мама! Я пионер-ленинец! — ответил Гриша. — Я должен бороться с врагами. — Боюсь за тебя, Гриша, — проговорила Мария Григорьевна. — Кулаки злы, как волки!..* * *
…Стук усилился. Гриша увидел под тутовым деревом три человеческие фигуры. Пионер взобрался на забор и, чтобы не выдать себя, плотно прижался к камням. — Яма уже глубокая. Опускайте мешок, — услышал он знакомый голос Никола. «Деньги прячут, — подумал Гриша. — Правильно говорил дядя Саркис, что кулаки и торговцы зарывают в землю серебро и золото. Гриша вспомнил, как несколько дней тому назад Никол выгнал из лавки рабочего. Пионер сказал тогда ему: — Разве можно так обращаться с людьми? — Молчи, щенок! — заорал купец и ударил Гришу в лицо… Шум и возня у стены продолжались. Гриша тихонько соскользнул со стены w побежал в дом к Курбану Мамедову, чтобы сообщить о случившемся. Выслушав пионера, коммунисты Курбан Мамедов и Егиш Мартиросян сказали: — Спасибо, Гриша. Ты поступаешь правильно. Утром Никол был арестован. На суде он упорно отпирался: дескать, никакие деньги не прятал. Вызвали Гришу. — Да, я видел, как он вместе с Симоном и Арменаком зарывали мешок. — Доносчик! — скрипнул зубами Никол, метнув на пионера злобный взгляд. В мешке оказалось сто килограммов серебра. Никола судили. Его брат Алексан пригрозил Грише: — Подожди. Мы за всё рассчитаемся с тобой. — Молчи, кулацкий подлиза! Я не боюсь тебя! Алексан сжал кулаки и молча ушёл.* * *
Октябрь 1930 г. На высоких Гянджинских чинарах желтели листья. Гриша по-прежнему активно работал в пионерском отряде. Кулаки следили за каждым его шагом — они решили во что бы то ни стало отомстить за Никола. Однажды Алексан сказал Армену с Симоном: — Не позже завтрашнего дня надо покончить с Акопяном. Заманите его на кладбище и зажгите костёр. Это будет сигналом, что он там. Действуйте! Симон подкараулил Гришу, Акопян направлялся посмотреть поляну неподалёку от кладбища, где должны были проходить военные игры пионеров школы. Подойдя к Грише, Симон сказал: — На кладбище один купец зарыл деньги. Идём, покажу место. — Не врёшь? — насторожился Гриша. — Даю честное слово… — А оно у тебя есть? Симон с притворной обидой ответил: — Я уже поссорился с Арменаком. Буду помогать коммунистам и комсомольцам разоблачать врагов Советской власти. — Чем ты можешь доказать свою преданность нашему делу? — спросил Гриша. — Чем-чем! — обиделся Симон. — Я же сказал тебе о зарытых деньгах! Пошли! Акопян пошёл. По дороге он заметил, что. Симон угрюм и неразговорчив. Когда они пришли на кладбище, Гриша посмотрел на него в упор: — Ну, показывай, где зарыты деньги? Симон сделал несколько шагов: — Забыл. — Эх ты, растяпа! — обрушился на него Гриша. Симон стал собирать сухие листья. — Что ты хочешь делать? — с любопытством спросил Гриша. — Костёр разжечь. Руки у меня озябли. Давай немного посидим, и я вспомню нужное место. Они быстро разожгли костёр. Густой столб дыма поднялся к чистому осеннему небу. И вдруг… Гриша не поверил своим глазам: из оврага вышли Арменак и Алексан. — Ага, пионер, попался! — прохрипел Алексан, подходя к Акопяну. Глаза бандита налились кровью, лицо скривилось. — Отойди! — попятился назад Акопян. Но Арменак и Алексан схватили его за руку. Увидев в руках озверевшего Алексана нож, Гриша стал звать на помощь. — Молчи, большевик! — взревел Алексан. Миша Нерсесян, пасший близ кладбища коз, видел, как бандиты убили Гришу. Миша побежал, чтобы сообщить о расправе над пионером. Весть о гибели Гриши Акопяна с молниеносной быстротой облетела города Закавказья. В Баку, Тбилиси и Ереване состоялись митинги. Народ требовал сурово наказать убийц. Тысячи школьников Гянджи провожали в последний путь юного героя. Они знали, что их товарищ отдал свою жизнь за Советскую власть, за счастье людей. «Гриша Акопян навсегда останется в наших сердцах!» — клялись на его могиле пионеры.* * *
Имя отважного пионера-героя Гриши Акопяна навечно занесено в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина.ЗИНА ПОРТНОВА Набатов Григорий Осипович

Обольские подпольщики сходились обычно возле тридцатиметрового маяка, окружённого осинником и березняком, в полукилометре от деревни Ушалы. С востока сюда тянулось большое болото. Тропинка прямо по болоту вела к маяку. Наблюдатели заметили, как незнакомая девочка свернула с дороги на эту тропинку. Предупредили секретаря комитета Фрузу Зенькову. Та улыбнулась. — Это Зина Портнова. Мне говорил о ней связной райкома. Пришла-таки… Члены комитета, не знавшие ничего про Зину, отнеслись к ней вначале немного настороженно. «Будет мне с ней мороки», — подумала секретарь комитета, разглядывая маленькую девочку с косичками. Она попросила Зину рассказать о себе. — Я из Ленинграда, — тихо сказала девочка. — Приехала на каникулы и вот застряла. У кого? У бабушки, в Зуях… — Она взглянула на ребят вопросительно. — Вы знаете мою бабушку, Ефросинью Ивановну Яблокову?.. Фруза, сдерживая улыбку, кивнула: «Знаем, мол, знаем, говори…» — А училась я, — продолжала Зина, — в 385-й школе. За Нарвской заставой. Перешла в восьмой класс… — Она замолчала, вспоминая о чём-то, и глаза её вдруг помрачнели. — Да, зачем я пришла?.. Вы думаете, что я маленькая и ничего не вижу, не понимаю. Ошибаетесь! Я всё вижу. И понимаю. Всё, всё… Она рассказала, что видела, как фашисты ограбили соседа, бывшего колхозного бригадира Евчука. Вышвырнули через окно одежду, обувь, бельё. Это для посылок… Дочка Евчука Шурка хотела кое-что спрятать. Грабители схватили её, втолкнули в машину и увезли. — И меня могут так. Ни за что. И ещё рассказала она про то, как гитлеровцы убили её дядю — Василия Гавриловича Езовитова. Он был обходчиком железнодорожного пути. Однажды его нашли между путями мёртвым. Его убил ефрейтор, ударив сзади по голове тесаком. На глазах у девочки выступили слёзы, когда заговорила о военнопленных. — В Оболь пригнали из деревни Плиговна-Спасская четырёх красноармейцев. У них нашли по куску хлеба. «Кто дал?» — допытывались солдаты в чёрных мундирах, их звали «Эс-эс». Красноармейцы молчали. Их били резиновыми палками, а они молчали. Замученных потащили к железнодорожному переезду и в овраге расстреляли… Заключила Зина рассказ неожиданно фразой: — Фашисты убивают, а я хочу жить… Ужас, как хочу. — Всё равно как? — вскинула Фруза брови. — Нет, как до войны. Только ещё лучше. И никаких фашистов! Как я их ненавижу!.. До войны мир представлялся Зине таким ясным, понятным, точно он лежал перед ней на ладони. Отец работал на Кировском заводе, мать тоже работала. Зина училась. Младшая сестрёнка вот-вот должна была пойти в школу. Дома, на Балтийской, всегда было людно, весело. По вечерам собирались папины товарищи, рассказывали про заводские дела и про гражданскую войну. А по воскресеньям Зина устраивала дома кукольный театр для всех малышей со своего дома.
 И вот фашисты нарушили всё!..
«Где теперь радость, счастливая жизнь?! В Ленинграде блокада, голод… Рвутся бомбы, снаряды…»
Зина подумала об этом и медленно проглотила горький комочек, подкатившийся к горлу. Ведь в осаждённом Ленинграде остались папа и мама.
Зеньковой понравилась эта девочка, её решимость. «Вот скажи такой, что сделать, и она не остановится ни перед чем».
И всё-таки Фруза не спешила.
— Это хорошо, что ты пришла к нам, — заявила секретарь комитета. — Одной рукой, сама знаю, узла не завяжешь. Но… нынче время знаешь какое? Промахнёшься — голова с плеч! И товарищей под удар поставишь… Может придётся жизнью рисковать.
— Знаю.
— Ну, а если… Если попадёшься. Будут бить, пытать…
— И об этом думала. Поверишь, ночью не засыпала. Всё думала, думала. И вот пришла… Я же пионерка.
— Дай ей задание, — заступился за девочку кто-то из членов комитета. — Испытай!
И вот фашисты нарушили всё!..
«Где теперь радость, счастливая жизнь?! В Ленинграде блокада, голод… Рвутся бомбы, снаряды…»
Зина подумала об этом и медленно проглотила горький комочек, подкатившийся к горлу. Ведь в осаждённом Ленинграде остались папа и мама.
Зеньковой понравилась эта девочка, её решимость. «Вот скажи такой, что сделать, и она не остановится ни перед чем».
И всё-таки Фруза не спешила.
— Это хорошо, что ты пришла к нам, — заявила секретарь комитета. — Одной рукой, сама знаю, узла не завяжешь. Но… нынче время знаешь какое? Промахнёшься — голова с плеч! И товарищей под удар поставишь… Может придётся жизнью рисковать.
— Знаю.
— Ну, а если… Если попадёшься. Будут бить, пытать…
— И об этом думала. Поверишь, ночью не засыпала. Всё думала, думала. И вот пришла… Я же пионерка.
— Дай ей задание, — заступился за девочку кто-то из членов комитета. — Испытай!
* * *
И она показала себя. Поначалу комитет поручил ей распространять антифашистские листовки и газеты. Зина работала на пару с другим подпольщиком, Женей Езовитовым. Они умудрялись приклеивать листовки на самых видных и людных местах. Женя был на голову выше Зины. Он шутя называл её «сестричкой-невеличкой». А она прозвала его «братом-великаном». Работали они дружно. Как-то раз они отправились по заданию комитета в деревню Зуи разносить по хатам газеты, доставленные накануне связными из партизанского отряда. И каково было удивление секретаря комитета, когда она неожиданно встретила их вечером в другой деревне — Мостище. — Почему вы здесь? — спросила Фруза. Зина выпалила залпом: — А мы уже всё сделали. Глаза у девочки светились гордостью. — Как вас встретили в Зуях? — Очень хорошо, — ответила Зина и почему-то замялась. — Что такое? — тревожно взглянула на неё Зенькова. — Говори. — Заходим мы к леснику Василию Кузьмичу. Поздоровались. Поговорили о том, о сём. Выбрала я подходящую минуту, протягиваю ему газету. Он прочёл название и вернул усмехнувшись: «Меня, дочка, агитировать не надо. Я грамотный. Ребята уже позаботились». И достаёт из-за иконы газету «Звезда». Показывает нам. «Сходи-ка лучше к Трофиму Селезнёву, к бывшему бригадиру, в Мостище». — И вы пошли? — Конечно! Раз тебе дали задание, так действуй до конца. — А что было у Селезнёва? — Дали мы ему газету. Он прочёл вполголоса набранную крупным шрифтом строку «Смерть немецким оккупантам!» и чуть не обомлел. «Вот это да! Спасибо! — сказал он. — Сам прочитаю и другим надёжным людям дам прочитать».* * *
Зину приняли в подпольную организацию. Вскоре ей дали новое задание — узнать численность войск в местном гарнизоне. Действовать она должна была не одна, а совместно с Ильёй Езовитовым, братом Жени — смелым и озорным крепышом. Илья и Зина продумали, как лучше собрать разведывательные данные. — Узнать, какие стоят части, можно, если подслушать разговоры по радиотелефону, — высказал своё мнение Илья. — А как подслушать? — полюбопытствовала Зина. — Это я беру на себя, — твёрдо подчеркнул Илья. — В нашей избе помещается полевая радиостанция и телефон. В сенях лежат наши дрова. Я часто туда наведываюсь за дровами. Ежели приноровиться да не зевать, кое-что можно узнать. Но вот как установить, сколько солдат? О таких вещах военные по телефону не болтают. — Знаешь, Илья, это я узнаю. — Каким путём? Зина озорно подмигнула:
— На площади в посёлке торфозавода два раза в неделю проводятся строевые занятия. Видел? Сгоняют почти всех солдат гарнизона.
Вот я и сосчитаю.
— Идея, Зинка! — сразу загорелся Илья.
Так они и поступили.
Собрав нужные данные, Зина и Илья в назначенное время отправились в урочище. Перешли деревянный мост через небольшую речку, впадающую в Оболь, и, пройдя немного берегом, очутились на месте.
Нашли высокую берёзу — условное место встречи со связным партизанского отряда.
— Ну, Илюша, взбирайся наверх, — скомандовала Зина. — Я тут подежурю.
Через несколько минут с вершины дерева раздался звонкий голос:
— Смотри, здесь большое гнездо.
Это был пароль.
— Не трогай, хлопец, гнезда. Я сейчас полезу к тебе, — ответил незнакомый голос.
Ветви кустов раздвинулись, и показался круглолицый мужчина, обросший бородой.
— Что, заждались?
Зина по локоть запустила руку в карман юбчонки и вытащила бумажку, сложенную вчетверо.
— Для начала неплохо, — сказал связной, медленно прочитав донесение. — Данные интересные. Только почерк вот неразборчивый.
Будто курица набродила… Кто писал?
— Я писала, — тихо призналась Зина, виновато опустив глаза. — Спешила…
— Пиши, девочка, яснее. Нам некогда разгадывать твои ребусы…
Ну, бывайте здоровы! Тороплюсь. Привет товарищам!
Связной исчез так же мгновенно, как и появился.
Зина озорно подмигнула:
— На площади в посёлке торфозавода два раза в неделю проводятся строевые занятия. Видел? Сгоняют почти всех солдат гарнизона.
Вот я и сосчитаю.
— Идея, Зинка! — сразу загорелся Илья.
Так они и поступили.
Собрав нужные данные, Зина и Илья в назначенное время отправились в урочище. Перешли деревянный мост через небольшую речку, впадающую в Оболь, и, пройдя немного берегом, очутились на месте.
Нашли высокую берёзу — условное место встречи со связным партизанского отряда.
— Ну, Илюша, взбирайся наверх, — скомандовала Зина. — Я тут подежурю.
Через несколько минут с вершины дерева раздался звонкий голос:
— Смотри, здесь большое гнездо.
Это был пароль.
— Не трогай, хлопец, гнезда. Я сейчас полезу к тебе, — ответил незнакомый голос.
Ветви кустов раздвинулись, и показался круглолицый мужчина, обросший бородой.
— Что, заждались?
Зина по локоть запустила руку в карман юбчонки и вытащила бумажку, сложенную вчетверо.
— Для начала неплохо, — сказал связной, медленно прочитав донесение. — Данные интересные. Только почерк вот неразборчивый.
Будто курица набродила… Кто писал?
— Я писала, — тихо призналась Зина, виновато опустив глаза. — Спешила…
— Пиши, девочка, яснее. Нам некогда разгадывать твои ребусы…
Ну, бывайте здоровы! Тороплюсь. Привет товарищам!
Связной исчез так же мгновенно, как и появился.
* * *
На всё требуется время… Зина немного повзрослела, набралась опыта подпольной работы. И комитет решился доверить ей очень сложное и опасное дело. Неподалёку от Оболи, в посёлке торфозавода, расположилась офицерская школа. Сюда съезжались на переподготовку из-под Ленинграда, Новгорода, Смоленска и Орла артиллеристы и танкисты фашистской армии. В Оболи от них просто не стало житья. Увешанные крестами и медалями, они были уверены, что им всё дозволено: насилие, разбой, грабёж. Юные подпольщики Оболи задумали «наградить» фашистов новым крестом, только не железным, которым награждал Гитлер, а другим…берёзовым. Зину устроили на работу в офицерскую столовую. Первое время Зина приходила домой совершенно обессиленная, едва добиралась до кровати. Шли недели, и девочка начала привыкать. Ей казалось, что спина уже не так ноет, как раньше, да и руки стали проворнее. Немцам приглянулась русская девочка с косичками. «Дизе клейне медхен ист гут», — говорили они про Зину. Ей одной разрешали входить на кухню. Она носила воду, дрова. Зина готова была тащить на кухню любые тяжести, лишь бы очутиться поближе к пищевым котлам, куда её не подпускали повара… Зинина сестрёнка Галя проснулась на рассвете, её разбудили чьи-то голоса. Она открыла глаза и увидела, как Зина и тётя Ира, работавшая официанткой в офицерской столовой, возятся с банкой, которая до этого была спрятана в углу среди кукол. На чёрной этикетке банки были изображены череп и скрещенные кости. Зина вытащила из банки пакетики. — А не много ли? — это спрашивала тётя Ира. — Нет, нет, как раз, — ответила Зина. В этот день она заменяла заболевшую судомойку. Это облегчило ей доступ к котлам с пищей. Но шеф-повар и его помощник зорко за ней присматривали. Зине даже казалось, что они догадываются о её намерениях и поэтому торчат всё время на кухне. До завтрака сделать ничего не удалось. Зина с нетерпением ждала, когда начнётся закладка в котлы продуктов на обед. В зале официантки накрывали столы к обеду. Расставляли цветы, раскладывали на столах приборы. Несколько раз к Зине подходили за чистыми тарелками тётя Ира и двоюродная сестра, комсомолка Нина Давыдова. По грустному лицу Зины они догадывались, что дело плохо. Надо её выручать. Но как? Вызвать главного в зал — это наиболее верный способ. Надо только придумать подходящий повод. Начался обед. Офицеры занимали места за столиками. Официантки бегали на кухню и обратно, то и дело подбрасывая в окошко грязную посуду. Вдруг за одним из столиков поднялся шум. Очкастый офицер, ковыряясь вилкой в тарелке, спрашивал у Нины Давыдовой: — Вас ист дас? Что это такое? — Бифштекс, господин обер-лейтенант. — Врёшь, каналья! — обругал её офицер. — Это подошва… — А при чём тут я? — со слезами в голосе спрашивала официантка. — За пищу, господин обер-лейтенант, отвечает главный повар. Я не виновата, что он пережарил… — Позови шеф-повара! — потребовал офицер. Ноги Нины ещё никогда не бегали так быстро, как сейчас. Несколько мгновений — и шеф-повар предстал перед обер-лейтенантом. Зина осталась наедине с помощником главного, мешковатым и малоподвижным ефрейтором Кранке. Покуда обер-лейтенант распекал шеф-повара, Кранке вертелся у плиты, где жарились котлеты. — Эй, клейне медхен, — услышала вдруг Зина голос ефрейтора. — Дрова! Принеси дрова, шнеллер!.. «Вот он… момент. Не упустить. Не опоздать», — шептала про себя девочка, устремившись с охапкой дров к котлам. Покамест повар, согнувшись, накладывал в топку поленья, Зина успела всыпать в котел порошок. Спустя два дня на военном кладбище вблизи Оболи хоронили более ста офицеров, обедавших в тот день в столовой. У гитлеровцев не было прямых улик против Зины. Боясь ответственности, шеф-повар и его помощник утверждали на следствии, что они и на пушечный выстрел не подпускали к пищевым котлам девочку, заменявшую судомойку. На всякий случай они заставили её попробовать отравленный суп. «Если откажется, — решили повара, — значит, она знает, что пища отравлена». Зина как ни в чём не бывало взяла из рук шеф-повара ложку и спокойно зачерпнула суп. — Медхен, капут… капут!.. — громко вскрикнул ефрейтор. Зина не выдала себя и сделала небольшой глоток. Вскоре она ощутила поташнивание и общую слабость. — Гут, гут, — одобрил её поведение шеф-повар, похлопав по плечу. — Марш нах хаузе… С трудом Зина добралась до деревни. Выпила у бабушки литра два сыворотки. Немного стало легче, и она заснула. Чтобы уберечь Зину от возможного ареста, подпольщики переправили её ночью к партизанам в лес.* * *
В партизанском отряде Зина стала разведчицей. Она научилась метко стрелять из трофейного оружия, захваченного, у гитлеровцев. Ходила добывать сведения о численности вражеских гарнизонов в местечке Улла и деревне Леоново. Несколько раз девочку отправляли для связи и в Оболь, где активно действовали юные подпольщики: то взорвали водокачку, то подожгли склады со льном и продовольствием, то пустили под откос воинский эшелон с бомбами и снарядами. Фашисты были уверены, что листовки, газеты, взрывы и поджоги — это дело рук партизан, скрывавшихся в Шашанском лесу. Бросали в лес карателей расправиться с партизанами. Солдаты прочёсывали лес, но никого не находили: кто-то вовремя предупреждал партизан, и те перебирались в другое место — поглубже, в недоступную топь. А в Оболи по-прежнему продолжались взрывы и поджоги.
«Кто же нам вредит?» — ломали голову офицеры службы безопасности. Они никак не могли предположить, что в этом замешаны дети, вчерашние ученики Обольской средней школы, разгуливающие по улицам с измазанными черникой и земляникой физиономиями.
Два года юные подпольщики вели тайную войну против фашистов.
Долго и тщетно гитлеровцы старались напасть на их след, пока им не помог в этом провокатор — бывший ученик Обольской школы Михаил Гречухин, дезертир Советской Армии.
Он выдал гестапо двенадцать участников подпольной организации.
Прошло несколько месяцев, и командование партизанским отрядом послало Зину установить связь с оставшимися в живых подпольщиками.
Возвращаясь обратно, она напоролась на засаду.
Её привели к начальнику Обольской фашистской полиции Экерту.
— Кто такая?
— Мария Козлова. Работница кирпичного завода.
— Так, так… Мария Козлова.
Экерт вышел на минуту, оставив Зину наедине с часовый. И тут же вернулся. За ним шагал Гречухин.
На очной ставке предатель с наглой улыбкой спросил:
— А, Зинаида Портнова! Давно ты переменила свою фамилию?
Так он выдал Зину.
В тюрьме её били, пытали. Старались узнать, кто её товарищи по подполью, но она молчала. Ничего не добившись, полиция передала её на расправу гестаповцам.
Допрос вёл сам начальник гестапо капитан Краузе, сутулый немец с большой головой и узким морщинистым лбом.
Когда к нему в кабинет ввели Портнову, гестаповец изумлённо уставился на неё; он не ожидал увидеть… девочку с косичками! «Ну, это же совсем ребёнок!» — отметил про себя Краузе.
— Садись.
Зина села, ничем не выдавая своего волнения. Она быстрым взглядом окинула просторный, уютно обставленный кабинет, железные решётки на окнах, плотно обитые двери. «Отсюда, пожалуй, не убежишь».
Фашист решил прикинуться ласковым и добрым.
— Фрейлен нужно молоко, масло, белый хлеб, шоколад… Фрейлен любит шоколадные конфеты?
Зина молчала.
Краузе не злился, не кричал, не топал ногами, делал вид, что не замечает её упорного молчания. Улыбаясь, обещал свободу.
— Так, так, не желайш сказать… Нитшево…
Он приказал отвести её не в тюрьму, а в комнату, находившуюся здесь же, в здании гестапо.
Ей принесли обед из двух блюд, белый хлеб, конфеты.
На следующий день утром Портнову снова вызвали к капитану.
Направляясь на допрос, она почувствовала, как тоскливо сжалось сердце.
Следователю в тюрьме она не отвечала — он бил, и каждый удар ожесточал её. Но этот не бьёт. Прикидывается ласковым.
«Не поддавайся!» — настойчиво требовал голос сердца.
С подчёркнутой вежливостью Краузе осведомился, как она себя чувствует в новой обстановке.
— Это всё мельочи, — сказал он, не дождавшись её ответа. — Один небольшой услюга — и ты идёшь домой. Скажи, кто твой товарищ, твой руководители?
Переждав минуту, гестаповец продолжал:
— Ты, конечно, сделаешь нам услюга. Да? И мы не будем в дольгу…
Я знаю, в Петербурге, ну, по-вашему, в Ленинграде, у тебя есть мама, папа. Хочешь, мы везём тебя к ним. Это теперь наш город. Говори…
Краузе курил сигарету, опираясь рукой на подлокотник кресла, курил медленно, будто нехотя выпуская дым. Он не сомневался в успехе: «Девочка должна заговорить».
А Зина молчала. Она хорошо знала, что Ленинград не отдали фашистам, что её город борется и победит.
За окном шумел осенний ветер. И скоро шум перерос в грохот.
По улице шли фашистские танки.
Капитан, подойдя к окну, отдёрнул занавеску.
— Смотри, какие мы сильные! — гестаповец произнёс это тоном победителя.
Зина молчала.
Тогда капитан изменил тактику допроса и перешёл от уговоров к угрозам. Он вытащил из кобуры пистолет, повертел его в руках и положил на стол. Зина взглянула на пистолет…
— Ну-с, фрейлен, — капитан снова поднял, словно взвешивая, пистолет. — Здесь есть маленький патрон. Одна пуля может поставить точку в нашем споре и в твоей жизни. Разве не так? Тебе не жалько жизнь?
Краузе опять положил пистолет на стол.
Прошло несколько минут.
— Ну, я жду. Чего ты молчишь?.. Подойди ближе, Зинаида Портнова.
Зина приблизилась.
— Я уверен, Портнова, — зашептал он, — что ты не коммунист, не комсомолька.
— Ошибаетесь, господин палач! — впервые за всё время допросов выкрикнула Зина. — Я была пионеркой. Сейчас — комсомолка.
Лицо гестаповца передёрнулось, ноздри побелели. Он размахнулся и ударил девочку кулаком в грудь. Зина отлетела назад, стукнулась головой о стену. Маленькая, худенькая, она тут же поднялась и, выпрямившись, снова твёрдо стояла перед фашистом.
— Нет, я не буду тебя стрелять, Портнова! — заорал Краузе. — Я знаю достоправильно, это ты отравила наших офицеров. Я буду тебя вешать…
И сев за стол, начальник гестапо начал сочинять постановление о повешении.
На улице просигналила легковая машина и, резко затормозив, остановилась у дома. Краузе сорвался с места, кинулся к окну взглянуть, кто приехал.
Зина, будто кошка, бросилась к столу и схватила пистолет. Краузе не успел ещё осознать, что произошло, как девочка навела на него его же оружие. Выстрел — и фашист, неестественно скособочась, упал на пол. Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал.
Зина устремилась в коридор, выскочила во двор, а оттуда в сад.
По липовой аллее она побежала к берегу реки. За рекой — лес. Только бы успеть добежать.
Но за ней уже гнались солдаты. Одного из них она уложила метким выстрелом. Второй продолжал догонять. Зина обернулась, опять нажала спусковой крючок…
Выстрела нет. В обойме кончились патроны.
Её схватили на самом берегу реки.
…Зину расстреляли январским утром подле невысокой сосны во Второй Баравухе, под Полоцком.
Залп разорвал морозный воздух. Сосна дрогнула, несколько сучков упали вниз на снег. Они легли рядом с ещё тёплым телом девочки из Ленинграда, шагавшей в бессмертие.
Немало подвигов совершили пионеры в годы Отечественной войны. Каждый из них по-своему величественен и неповторим. Но подвиг маленькой партизанки совершенно изумителен, легендарен.
Зина Портнова удостоена в нашей стране самой большой награды.
Ей присвоено звание Героя Советского Союза. В Москве, Ленинграде, Минске, во многих других городах и деревнях пионерские отряды и дружины с гордостью носят её имя.
Про Зину Портнову пишут книги, пьесы, слагают стихи.
Острый резец высек имя юной героини на камне обелиска.
Я видел этот памятник. Он установлен на автостраде, у перекрёстка дорог, ведущих туда, где действовали обольские подпольщики.
Я стоял возле обелиска, вновь и вновь перечитывал имена героев, отдавших свою недолгую жизнь за счастье живых, и невольно вспомнились мне слова Максима Горького:
А в Оболи по-прежнему продолжались взрывы и поджоги.
«Кто же нам вредит?» — ломали голову офицеры службы безопасности. Они никак не могли предположить, что в этом замешаны дети, вчерашние ученики Обольской средней школы, разгуливающие по улицам с измазанными черникой и земляникой физиономиями.
Два года юные подпольщики вели тайную войну против фашистов.
Долго и тщетно гитлеровцы старались напасть на их след, пока им не помог в этом провокатор — бывший ученик Обольской школы Михаил Гречухин, дезертир Советской Армии.
Он выдал гестапо двенадцать участников подпольной организации.
Прошло несколько месяцев, и командование партизанским отрядом послало Зину установить связь с оставшимися в живых подпольщиками.
Возвращаясь обратно, она напоролась на засаду.
Её привели к начальнику Обольской фашистской полиции Экерту.
— Кто такая?
— Мария Козлова. Работница кирпичного завода.
— Так, так… Мария Козлова.
Экерт вышел на минуту, оставив Зину наедине с часовый. И тут же вернулся. За ним шагал Гречухин.
На очной ставке предатель с наглой улыбкой спросил:
— А, Зинаида Портнова! Давно ты переменила свою фамилию?
Так он выдал Зину.
В тюрьме её били, пытали. Старались узнать, кто её товарищи по подполью, но она молчала. Ничего не добившись, полиция передала её на расправу гестаповцам.
Допрос вёл сам начальник гестапо капитан Краузе, сутулый немец с большой головой и узким морщинистым лбом.
Когда к нему в кабинет ввели Портнову, гестаповец изумлённо уставился на неё; он не ожидал увидеть… девочку с косичками! «Ну, это же совсем ребёнок!» — отметил про себя Краузе.
— Садись.
Зина села, ничем не выдавая своего волнения. Она быстрым взглядом окинула просторный, уютно обставленный кабинет, железные решётки на окнах, плотно обитые двери. «Отсюда, пожалуй, не убежишь».
Фашист решил прикинуться ласковым и добрым.
— Фрейлен нужно молоко, масло, белый хлеб, шоколад… Фрейлен любит шоколадные конфеты?
Зина молчала.
Краузе не злился, не кричал, не топал ногами, делал вид, что не замечает её упорного молчания. Улыбаясь, обещал свободу.
— Так, так, не желайш сказать… Нитшево…
Он приказал отвести её не в тюрьму, а в комнату, находившуюся здесь же, в здании гестапо.
Ей принесли обед из двух блюд, белый хлеб, конфеты.
На следующий день утром Портнову снова вызвали к капитану.
Направляясь на допрос, она почувствовала, как тоскливо сжалось сердце.
Следователю в тюрьме она не отвечала — он бил, и каждый удар ожесточал её. Но этот не бьёт. Прикидывается ласковым.
«Не поддавайся!» — настойчиво требовал голос сердца.
С подчёркнутой вежливостью Краузе осведомился, как она себя чувствует в новой обстановке.
— Это всё мельочи, — сказал он, не дождавшись её ответа. — Один небольшой услюга — и ты идёшь домой. Скажи, кто твой товарищ, твой руководители?
Переждав минуту, гестаповец продолжал:
— Ты, конечно, сделаешь нам услюга. Да? И мы не будем в дольгу…
Я знаю, в Петербурге, ну, по-вашему, в Ленинграде, у тебя есть мама, папа. Хочешь, мы везём тебя к ним. Это теперь наш город. Говори…
Краузе курил сигарету, опираясь рукой на подлокотник кресла, курил медленно, будто нехотя выпуская дым. Он не сомневался в успехе: «Девочка должна заговорить».
А Зина молчала. Она хорошо знала, что Ленинград не отдали фашистам, что её город борется и победит.
За окном шумел осенний ветер. И скоро шум перерос в грохот.
По улице шли фашистские танки.
Капитан, подойдя к окну, отдёрнул занавеску.
— Смотри, какие мы сильные! — гестаповец произнёс это тоном победителя.
Зина молчала.
Тогда капитан изменил тактику допроса и перешёл от уговоров к угрозам. Он вытащил из кобуры пистолет, повертел его в руках и положил на стол. Зина взглянула на пистолет…
— Ну-с, фрейлен, — капитан снова поднял, словно взвешивая, пистолет. — Здесь есть маленький патрон. Одна пуля может поставить точку в нашем споре и в твоей жизни. Разве не так? Тебе не жалько жизнь?
Краузе опять положил пистолет на стол.
Прошло несколько минут.
— Ну, я жду. Чего ты молчишь?.. Подойди ближе, Зинаида Портнова.
Зина приблизилась.
— Я уверен, Портнова, — зашептал он, — что ты не коммунист, не комсомолька.
— Ошибаетесь, господин палач! — впервые за всё время допросов выкрикнула Зина. — Я была пионеркой. Сейчас — комсомолка.
Лицо гестаповца передёрнулось, ноздри побелели. Он размахнулся и ударил девочку кулаком в грудь. Зина отлетела назад, стукнулась головой о стену. Маленькая, худенькая, она тут же поднялась и, выпрямившись, снова твёрдо стояла перед фашистом.
— Нет, я не буду тебя стрелять, Портнова! — заорал Краузе. — Я знаю достоправильно, это ты отравила наших офицеров. Я буду тебя вешать…
И сев за стол, начальник гестапо начал сочинять постановление о повешении.
На улице просигналила легковая машина и, резко затормозив, остановилась у дома. Краузе сорвался с места, кинулся к окну взглянуть, кто приехал.
Зина, будто кошка, бросилась к столу и схватила пистолет. Краузе не успел ещё осознать, что произошло, как девочка навела на него его же оружие. Выстрел — и фашист, неестественно скособочась, упал на пол. Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал.
Зина устремилась в коридор, выскочила во двор, а оттуда в сад.
По липовой аллее она побежала к берегу реки. За рекой — лес. Только бы успеть добежать.
Но за ней уже гнались солдаты. Одного из них она уложила метким выстрелом. Второй продолжал догонять. Зина обернулась, опять нажала спусковой крючок…
Выстрела нет. В обойме кончились патроны.
Её схватили на самом берегу реки.
…Зину расстреляли январским утром подле невысокой сосны во Второй Баравухе, под Полоцком.
Залп разорвал морозный воздух. Сосна дрогнула, несколько сучков упали вниз на снег. Они легли рядом с ещё тёплым телом девочки из Ленинграда, шагавшей в бессмертие.
Немало подвигов совершили пионеры в годы Отечественной войны. Каждый из них по-своему величественен и неповторим. Но подвиг маленькой партизанки совершенно изумителен, легендарен.
Зина Портнова удостоена в нашей стране самой большой награды.
Ей присвоено звание Героя Советского Союза. В Москве, Ленинграде, Минске, во многих других городах и деревнях пионерские отряды и дружины с гордостью носят её имя.
Про Зину Портнову пишут книги, пьесы, слагают стихи.
Острый резец высек имя юной героини на камне обелиска.
Я видел этот памятник. Он установлен на автостраде, у перекрёстка дорог, ведущих туда, где действовали обольские подпольщики.
Я стоял возле обелиска, вновь и вновь перечитывал имена героев, отдавших свою недолгую жизнь за счастье живых, и невольно вспомнились мне слова Максима Горького:
«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!»
* * *
Постановлением Совета Министров РСФСР одному из кораблей Советского флота присвоено имя Зины Портновой.
КОЛЯ МЯГОТИН Сухачевский Степан Степанович
 Дружная и ранняя пришла в Колесникова весна 1930 года: звенела капель, журчали на улицах ручьи.
Коля Мяготин вместе со своими школьными товарищами всё дольше стал задерживаться в школе.
Вооружившись топорами, пилами и молотками, они с увлечением мастерили скворечники.
— В этих домиках поселятся птицы, — говорила учительница Александра Васильевна, помогавшая ребятам. — И не страшны будут вредные насекомые ни зелёным листочкам, ни цветам, ни посевам на полях…
Школа стоит за селом на пустыре.
И вот пустырь ожил. Ребята решили разбить цветник вокруг школы.
Они вскопали землю, посадили молоденькие деревья. Школьный двор стал неузнаваем.
В перерывах, когда ребята отдыхали от работы, Александра Васильевна рассказывала много интересного.
Коля услышал о первых пионерах, которые помогали молодой республике Советов в гражданскую войну, о Красной площади, о Кремле.
Рассказы будили в мальчике смелые мысли, рождали мечту о подвиге.
В канун Первомая школу облетела радостная весть: второклассников будут принимать в пионеры.
И вот желанный день настал. Мальчики и девочки построились на линейку. Всегда строгое, с резкими морщинами лицо Александры Васильевны озаряла мягкая улыбка. Она светилась в задумчивых умных глазах, и учительница казалась детям моложе, красивее.
Перед классом стоят пять мальчиков и пять девочек— их принимают в пионеры.
— Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, — взволнованно начала Александра Васильевна.
Коля старался быть спокойным, но сердце бьётся сильно, и кажется, он не сможет повторить за учительницей торжественные слова.
Голос учительницы чётко звучит в тишине:
— … Обещаю жить и учиться так, чтобы стать достойным гражданином своей социалистической Родины.
И вот ярким маком расцвёл на Колиной груди пионерский галстук.
Рядом с Колей — Дима, его друг. Как хочется пожать ему руку!
Каждое лето колесниковские пионеры помогали своему колхозу.
Они охраняли урожай, собирали оставшиеся в поле колосья.
Коля вместе с ребятами выпускал стенную газету.
С любовью говорили о пионерах колхозники, не раз правление колхоза награждало ребят ценными подарками. Колю называли «пионерский председатель».
Вот только Петька Вахрушев не хотел помогать колхозу. Он говорил: «Я не обязан, я не пионер». Вступать в пионеры Петьке не разрешал брат Иван.
— Петь!.. — допытывался Коля. — А почему ты Александре Васильевне не скажешь? Она поговорила бы с ним.
— Что ты? Он меня прибьёт!
— А разве он тебя бьёт?
— Чем ни попало… И мамка завсегда в синяках ходит.
— За что же он вас бьёт?
— Да он кого хошь прибить может… Он и тебя…
— Меня?! — насторожился Коля, но Петька не ответил: он съёжился, боязливо озираясь.
Коля знал, за что ненавидит его старший Вахрушев.
Коля был ездовым в бригаде Шушарина. Как и все пионеры села, помогал колхозу. Трудился много, старательно, честно. Как-то мальчик задержался на току и пошёл домой, когда было уже темно. Он сбился с дороги, долго блуждал по лесу, набрёл на заброшенную Коробейникову избушку, услышал разговор и, почуяв что-то недоброе, спрятался за толстой сосной. Совсем близко, в нескольких шагах, при свете луны он увидел темневшие фигуры. Прислушавшись, узнал скрипучий голос Ивана Вахрушева и хрипловатый бас Фотея Сычёва. До слуха мальчика долетели обрывки фраз:
— Как только Шушарин приехал на ток, я нарочно при всех колхозниках сказал: «Вот подводы с хлебом. Мне их сдавали без веса и от меня принимайте на глаз». Шушарин засмеялся. А я сказал ему: «Кабы схотел украсть, не смог бы — в карманах, что ли, унесёшь?» Сел верхом и уехал…
— Молодец, Ванюха! А насчёт телеги ты неплохо придумал. Никто не догадался, что в кустах она была схоронена…
— Хорошо ли мешки завязал?
— Не впервой… Ну что, Иван, пора! Телегу-то заодно с хлебом продашь в Кургане, вернёшься верхом, будто в больницу ездил… Ну, с богом!..
В тот год урожай в колхозе радовал крестьян. Пшеница уродилась обильно, богато. Но не все радовались.
Часть села — Сычёвский край — занимают большие дома. Они, словно крепости, обнесены высокими глухими заборами. И дома, и подворья сделаны прочно, на века.
Но нет в Колесникове владельцев этих домов— кулаков: по требованию крестьянской бедноты их выселили. На Север был выслан и Лука Сычёв, первый деревенский богач. Оставшийся брат его, Фотей, жил тихо, одевался просто и больше походил на захудалого мужичка.
Фотей хитрил. Он ненавидел Советскую власть и колхозы и собирал вокруг себя недовольных.
Выбор пал на Ивана Вахрушева. О Вахрушеве шла дурная слава: он пьяница и хулиган. Фотей уговорил Вахрушева поработать в колхозе одно-два лета. И Иван пошёл в бригаду Шушарина, а бригадир Шушарин был своим человеком. Шушарин помогал воровать колхозный хлеб.
Коля, услышав тот разговор, решил разоблачить Вахрушева и Сычёва. Как-то, встретив Ивана у озерка, смело сказал ему:
— Знаю, как по ночам хлеб в колхозе воруете…
— Прикуси язык, Колька, не то худо будет! В озерке и утонуть не диво, — пригрозил Иван.
— Не запугаешь! — крикнул Коля. — Всё равно не боюсь.
О многом Коля передумал после встречи с Иваном у озерка. Вспомнил и отца. Он был батраком братьев Сычёвых. Отец погиб в борьбе за счастье таких же бедняков, каким был и сам.
Сегодня воскресенье, занятий нет, но пионеры собрались на школьном дворе. Учительница Александра Васильевна чуть свет уехала с почтальоном Кузьмой Михеевичем в район. «Никак, беда стряслась», — таинственно сообщила школьная сторожиха ребятам.
Коля беспрестанно поглядывал на. улицу Большой деревни: почтарского ходка не было видно. Ребята говорили кто о чём.
— Нынче снег поздно ляжет…
— Нет, холода наступят скоро…
— Как бы не так! Смотри, паутинки…
— Ну и что ж… А птица тронулась. Скворцы улетели уже. Это верная примета!..
Вдруг Дима вскочил:
— Александра Васильевна приехала!
Все бегут навстречу почтарской лошади. Ходок, поскрипывая, въезжает на школьный двор. Лицо Александры Васильевны печально.
— Собрались… слышали, значит…
— А что случилось, Александра Васильевна? Расскажите!
Учительница медленно идёт к школьному крыльцу, тяжело опускается на ступеньку. Обняв присмиревших ребят, она рассказывает о том, что произошло 3 сентября в селе Герасимовке. Притихшие, слушают школьники об убийстве кулаками пионера Павлика Морозова.
— Давайте напишем письмо матери Морозова от нашего пионерского отряда, — предлагаетАлександра Васильевна…
«Дорогая Татьяна Семёновна! Вам пишут пионеры села Колесникова»… — старательно выводит слова Коля.
Подписи составили маленький столбик, и против каждого имени пионера появилось ещё по одной фразе. Коля тоже сделал приписку:
«Татьяна Семёновна! Считайте меня сыном…»
Разошлись под вечер.
Эту ночь Коля и Дима спали на сеновале. За разговорами мальчики не слышали, как на сеновал по лестнице поднялся Петька Вахрушев и чиркнул спичкой.
— Кто там? — спросил, приподнимаясь, Коля.
— Это я, Кольша… Можно, я с вами?
— Что ж, ночуй, — нехотя согласился Коля.
Петька, не раздеваясь, ложится с краю. Натянув на голову одеяло, Дима отворачивается.
— Кольша, а Кольша… Знаешь, о чём я думаю? — говорит Петька.
— О чём?
— Если бы нам так довелось… Как Павлику Морозову… Угрозы и всё такое. Как бы ты? Ну, понимаешь?
— А ты бы как поступил?
— Не знаю. Страшно, Кольша, вот так… Ножом ведь… в лесу.
— А я не струсил бы! Честное пионерское!
Наступает молчание. Каждый думает о чём-то своём.
«Шушарин, брат Петьки Иван, Сычёвы… это враги, — думает Коля. — Но друзей больше. Это Дима, Маша, Серёжа, Кузьма Матвеевич, Александра Васильевна… А Петька? Кто он? Друг?..»
Коля вспомнил, что не успел спросить у Александры Васильевны: удалось ли ей рассказать в районе о похищенном зерне? Надо написать заметку в районную газету! Он, как и Павлик Морозов, не уступит врагам.
Уснул Коля на рассвете.
Дружная и ранняя пришла в Колесникова весна 1930 года: звенела капель, журчали на улицах ручьи.
Коля Мяготин вместе со своими школьными товарищами всё дольше стал задерживаться в школе.
Вооружившись топорами, пилами и молотками, они с увлечением мастерили скворечники.
— В этих домиках поселятся птицы, — говорила учительница Александра Васильевна, помогавшая ребятам. — И не страшны будут вредные насекомые ни зелёным листочкам, ни цветам, ни посевам на полях…
Школа стоит за селом на пустыре.
И вот пустырь ожил. Ребята решили разбить цветник вокруг школы.
Они вскопали землю, посадили молоденькие деревья. Школьный двор стал неузнаваем.
В перерывах, когда ребята отдыхали от работы, Александра Васильевна рассказывала много интересного.
Коля услышал о первых пионерах, которые помогали молодой республике Советов в гражданскую войну, о Красной площади, о Кремле.
Рассказы будили в мальчике смелые мысли, рождали мечту о подвиге.
В канун Первомая школу облетела радостная весть: второклассников будут принимать в пионеры.
И вот желанный день настал. Мальчики и девочки построились на линейку. Всегда строгое, с резкими морщинами лицо Александры Васильевны озаряла мягкая улыбка. Она светилась в задумчивых умных глазах, и учительница казалась детям моложе, красивее.
Перед классом стоят пять мальчиков и пять девочек— их принимают в пионеры.
— Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, — взволнованно начала Александра Васильевна.
Коля старался быть спокойным, но сердце бьётся сильно, и кажется, он не сможет повторить за учительницей торжественные слова.
Голос учительницы чётко звучит в тишине:
— … Обещаю жить и учиться так, чтобы стать достойным гражданином своей социалистической Родины.
И вот ярким маком расцвёл на Колиной груди пионерский галстук.
Рядом с Колей — Дима, его друг. Как хочется пожать ему руку!
Каждое лето колесниковские пионеры помогали своему колхозу.
Они охраняли урожай, собирали оставшиеся в поле колосья.
Коля вместе с ребятами выпускал стенную газету.
С любовью говорили о пионерах колхозники, не раз правление колхоза награждало ребят ценными подарками. Колю называли «пионерский председатель».
Вот только Петька Вахрушев не хотел помогать колхозу. Он говорил: «Я не обязан, я не пионер». Вступать в пионеры Петьке не разрешал брат Иван.
— Петь!.. — допытывался Коля. — А почему ты Александре Васильевне не скажешь? Она поговорила бы с ним.
— Что ты? Он меня прибьёт!
— А разве он тебя бьёт?
— Чем ни попало… И мамка завсегда в синяках ходит.
— За что же он вас бьёт?
— Да он кого хошь прибить может… Он и тебя…
— Меня?! — насторожился Коля, но Петька не ответил: он съёжился, боязливо озираясь.
Коля знал, за что ненавидит его старший Вахрушев.
Коля был ездовым в бригаде Шушарина. Как и все пионеры села, помогал колхозу. Трудился много, старательно, честно. Как-то мальчик задержался на току и пошёл домой, когда было уже темно. Он сбился с дороги, долго блуждал по лесу, набрёл на заброшенную Коробейникову избушку, услышал разговор и, почуяв что-то недоброе, спрятался за толстой сосной. Совсем близко, в нескольких шагах, при свете луны он увидел темневшие фигуры. Прислушавшись, узнал скрипучий голос Ивана Вахрушева и хрипловатый бас Фотея Сычёва. До слуха мальчика долетели обрывки фраз:
— Как только Шушарин приехал на ток, я нарочно при всех колхозниках сказал: «Вот подводы с хлебом. Мне их сдавали без веса и от меня принимайте на глаз». Шушарин засмеялся. А я сказал ему: «Кабы схотел украсть, не смог бы — в карманах, что ли, унесёшь?» Сел верхом и уехал…
— Молодец, Ванюха! А насчёт телеги ты неплохо придумал. Никто не догадался, что в кустах она была схоронена…
— Хорошо ли мешки завязал?
— Не впервой… Ну что, Иван, пора! Телегу-то заодно с хлебом продашь в Кургане, вернёшься верхом, будто в больницу ездил… Ну, с богом!..
В тот год урожай в колхозе радовал крестьян. Пшеница уродилась обильно, богато. Но не все радовались.
Часть села — Сычёвский край — занимают большие дома. Они, словно крепости, обнесены высокими глухими заборами. И дома, и подворья сделаны прочно, на века.
Но нет в Колесникове владельцев этих домов— кулаков: по требованию крестьянской бедноты их выселили. На Север был выслан и Лука Сычёв, первый деревенский богач. Оставшийся брат его, Фотей, жил тихо, одевался просто и больше походил на захудалого мужичка.
Фотей хитрил. Он ненавидел Советскую власть и колхозы и собирал вокруг себя недовольных.
Выбор пал на Ивана Вахрушева. О Вахрушеве шла дурная слава: он пьяница и хулиган. Фотей уговорил Вахрушева поработать в колхозе одно-два лета. И Иван пошёл в бригаду Шушарина, а бригадир Шушарин был своим человеком. Шушарин помогал воровать колхозный хлеб.
Коля, услышав тот разговор, решил разоблачить Вахрушева и Сычёва. Как-то, встретив Ивана у озерка, смело сказал ему:
— Знаю, как по ночам хлеб в колхозе воруете…
— Прикуси язык, Колька, не то худо будет! В озерке и утонуть не диво, — пригрозил Иван.
— Не запугаешь! — крикнул Коля. — Всё равно не боюсь.
О многом Коля передумал после встречи с Иваном у озерка. Вспомнил и отца. Он был батраком братьев Сычёвых. Отец погиб в борьбе за счастье таких же бедняков, каким был и сам.
Сегодня воскресенье, занятий нет, но пионеры собрались на школьном дворе. Учительница Александра Васильевна чуть свет уехала с почтальоном Кузьмой Михеевичем в район. «Никак, беда стряслась», — таинственно сообщила школьная сторожиха ребятам.
Коля беспрестанно поглядывал на. улицу Большой деревни: почтарского ходка не было видно. Ребята говорили кто о чём.
— Нынче снег поздно ляжет…
— Нет, холода наступят скоро…
— Как бы не так! Смотри, паутинки…
— Ну и что ж… А птица тронулась. Скворцы улетели уже. Это верная примета!..
Вдруг Дима вскочил:
— Александра Васильевна приехала!
Все бегут навстречу почтарской лошади. Ходок, поскрипывая, въезжает на школьный двор. Лицо Александры Васильевны печально.
— Собрались… слышали, значит…
— А что случилось, Александра Васильевна? Расскажите!
Учительница медленно идёт к школьному крыльцу, тяжело опускается на ступеньку. Обняв присмиревших ребят, она рассказывает о том, что произошло 3 сентября в селе Герасимовке. Притихшие, слушают школьники об убийстве кулаками пионера Павлика Морозова.
— Давайте напишем письмо матери Морозова от нашего пионерского отряда, — предлагаетАлександра Васильевна…
«Дорогая Татьяна Семёновна! Вам пишут пионеры села Колесникова»… — старательно выводит слова Коля.
Подписи составили маленький столбик, и против каждого имени пионера появилось ещё по одной фразе. Коля тоже сделал приписку:
«Татьяна Семёновна! Считайте меня сыном…»
Разошлись под вечер.
Эту ночь Коля и Дима спали на сеновале. За разговорами мальчики не слышали, как на сеновал по лестнице поднялся Петька Вахрушев и чиркнул спичкой.
— Кто там? — спросил, приподнимаясь, Коля.
— Это я, Кольша… Можно, я с вами?
— Что ж, ночуй, — нехотя согласился Коля.
Петька, не раздеваясь, ложится с краю. Натянув на голову одеяло, Дима отворачивается.
— Кольша, а Кольша… Знаешь, о чём я думаю? — говорит Петька.
— О чём?
— Если бы нам так довелось… Как Павлику Морозову… Угрозы и всё такое. Как бы ты? Ну, понимаешь?
— А ты бы как поступил?
— Не знаю. Страшно, Кольша, вот так… Ножом ведь… в лесу.
— А я не струсил бы! Честное пионерское!
Наступает молчание. Каждый думает о чём-то своём.
«Шушарин, брат Петьки Иван, Сычёвы… это враги, — думает Коля. — Но друзей больше. Это Дима, Маша, Серёжа, Кузьма Матвеевич, Александра Васильевна… А Петька? Кто он? Друг?..»
Коля вспомнил, что не успел спросить у Александры Васильевны: удалось ли ей рассказать в районе о похищенном зерне? Надо написать заметку в районную газету! Он, как и Павлик Морозов, не уступит врагам.
Уснул Коля на рассвете.
* * *
До конного завода, где находилось почтовое отделение, рукой подать, но колхозный почтальон Кузьма Матвеевич тратил иногда на поездку целый день. Если кто-нибудь пробовал шутить по этому поводу, Кузьма Матвеевич сердился: «Ишь, прыткий какой! Почту получать надо с головой. Тут тяп-ляп нельзя». Для пущей важности Кузьма Матвеевич собственноручно намалевал на дуге: «ПОЧЬТА». Под разукрашенной дугой висел необыкновенного размера колокольчик. Если колокольчик позванивал вяло, в Колесникове знали: Кузьма Матвеевич везёт обыкновенную почту. Иногда же колокольчик гудел, словно выговаривал: «Есть новости! Есть новости!» Давно в селе такого звона, как сегодня, не слыхали. Почтарь спешил доставить номер районной газеты, на первой странице которой была напечатана заметка: «В Колесникове воруют колхозный хлеб». Сам Кузьма Матвеевич не обратил бы внимания на эту заметку, не услышь он насмешливый голос почтальона из соседней деревеньки Лукино: «А ты, Матвеич, поинтересуйся-ка районной газетой… Там здорово расписали ваше Колесникове». Старик ни разу не оторвался от газеты, пока по складам не прочёл всю заметку. Чем дальше он читал, тем светлее становилось его лицо. «Слава те, господи! Нашёлся добрый человек, прописал про Сычёвых и Вахрушевых!..» В тот вечер многие в Колесникове ломали голову над тем, кто же автор заметки. Мужики перебирали всех грамотных жителей села и не остановившись ни на ком, решили: писал кто-то из городских, а загадочная подпись «Свой глаз» напечатана для видимости. И никто не подумал, что заметку написал Коля. Иван Вахрушев встретил как-то в переулке Колю и, загородив дорогу, хрипло сказал: — Ты чего председателю наболтал? Прикуси язык, не то худо будет! Колю кто словно подтолкнул к Вахрушеву: — Не пугай! Не стану молчать! Напишу о ваших проделках в Курган! И Коля смело прошёл мимо. Над его головой, сбив фуражку, просвистел камень. Коля оглянулся. Посередине переулка стоял Вахрушев, раскачиваясь из стороны в сторону. — Ходи, да оглядывайся… Соображай, активист пионерский! В этот день Коля, вернувшись домой, не выходил из горницы. Он что-то писал в толстой тетради. Писал медленно, обдумывая каждое слово. Усевшись с вязаньем у окна, мать незаметно наблюдала за сыном. — Сходил бы поиграл, сынок, уроки вечером приготовишь. — Уроки я уже сделал. А это, мама… — Коля замялся, смолк на полуслове. — Что, сынок? Коля обернулся. — Мам! Я давно хотел тебе сказать… Вахрушев и Сычёвы воруют хлеб в колхозе, а бригадир Шушарин им помогает, глаза на всё закрывает. Я видел, как они ночью мешки с зерном прятали у Коробейниковой избушки… Я не боюсь! Всё равно раскрою их воровскую шайку… Со вздрагивающих колен Арины Осиповны скатился клубок пряжи, правая рука её, поднятая с вязальной спицей, замерла и вдруг рывками стала чертить в воздухе, ловя ускользающую нить. Коля кинулся к матери. — Мама, ты что? — Ничего… пройдёт, — шепнула Арина Осиповна, прижимая к груди голову сына. — Хоть и страшно мне за тебя, ой, как страшно, а отговаривать не буду… Не было в нашем роду трусов! Прочтя газету, Иван Вахрушев испугался. «И до меня, знать, очередь дошла. Всё припомнят». Беспокойно метался он по горнице. От малейшего стука в дверь пугливо вздрагивал. «Узнать бы, кто написал в газету, кровью бы того умыл!..» Прошло несколько дней, Ивана в сельсовет не вызывали. Страх миновал. В конце недели Иван под прикрытием темноты незаметно проскользнул в дом Фотея Сычёва. — Как смекаешь, — спросил Фотей Вахрушева, — кто на нас за ту пшеницу донёс в Совет? — Чёрт его знает… Суббота была, кто-нибудь задержался на току, пошёл, видно, старой дорогой, ну и увидел нас у Коробейниковой избушки. — Не кто-нибудь… Колька Мяготин подсмотрел! — Ах, змеёныш!.. Ну кто ж мог подумать, что такого сопляка остерегаться надо? Вахрушев с силой рванул ворот рубахи. Фотей Сычёв исподлобья наблюдал за ним. — Я так смекаю, что и в газету тоже Колька написал. — Что-то в толк не возьму… Подпись-то другая? — Подпись… Это для отвода глаз. Соображай… Скажет — ему поверят: пионер!.. А закон-то ноне строгий вышел… Слышал про закон-то? Нас за милую душу на Север укатят… Ох, что-то делать надо с Мяготиным! — Известно что! — Ванюха! — обнял его Фотей. — Ты у нас отчаянная головушка, а какой-то парнишка, выходит, сильнее тебя? — Ш-то! М-мя-готин? Ме-ня сильнее?! Убью!.. Кольку убью! — заорал Вахрушев. — Верно, Ванюха! — подзадорил Фотей. — Давно пора проучить ахтивиста пионерского. Да заодно и учительшу… Она всему заводила, а Мяготин — её глаза и уши. Завтра утром приходи ко мне, гулять будем… Там и обмозгуем всё. — Что зря лясы точить, порешить обоих сегодня же!.. В это хмурое октябрьское утро колючий холодный ветер гнал тяжёлые облака. Шли они, как лёд по вздувшейся реке. Арина Осиповна встала рано, принялась хлопотать у печки. Когда Коля проснулся, его ждал любимый завтрак— подрумяненные оладьи из свежего картофеля. — Мама, что ж ты меня не разбудишь? — Хоть в воскресенье побудь со мной. В будни-то совсем не вижу дома… За завтраком Коля размечтался: — Вот, мама, закончу в эту зиму четвёртый класс и стану учиться дальше. — Он быстро взглянул на мать. Арина Осиповна подошла к сыну и, ласково потрепав вихорок, сказала: — Совсем большой стал. Двенадцать годочков исполнилось… — И, помолчав, спросила: — На кого же, сынок, хочешь учиться! — На учителя!.. Нет, лучше буду землемером. Вот выучусь, стану землю измерять, карты чертить, чтобы знали колхозники, где пашня, где сенокос… — Хорошее дело, сынок. Колхозу грамотные люди нужны. Как ещё нужны-то! Послышался стук отворяемой двери. На пороге стоял Петька Вахрушев. — Тётя Арина! Пустите Кольшу, он поможет мне уроки сделать. Я один никак не управлюсь… — Поздоровайся сперва! Ученик… — сухо сказала Арина Осиповна. Она не любила Петьку. Чем-то он походил на своего брата. Глаза узенькие, хитрые. Смотрят всегда исподлобья. Коля вопросительно взглянул на мать. — Сходи, сынок, только не задерживайся. Да оденься потеплее, сегодня и простудиться не долго. — Я быстро… Не успели выйти со двора, как Петька предложил: — Пойдём, Кольша, за подсолнухами. — Ты ж уроки собирался делать. — Это я нарочно сказал, чтоб тебя мать отпустила… Коля нерешительно остановился. — Пойдём! Недалеко ведь. Мне поговорить с тобой надо. В пионеры хочу. Как посоветуешь?.. Переулком мальчики вышли за околицу, на болото Ворга. Это «гнилое место» тянется от села до самого бора у Кривых озёр. Сразу за Воргой — березняк. Возле него подсолнечное поле. Вблизи глухо шумел лес, на макушках оголённых берёз сиротливо чернели покинутые вороньи гнёзда. Пустынно и неуютно вокруг. Выискивая крупные шляпки, Петька ломал мелкий подсолнух, бросая его на землю. Он явился с полной охапкой шляпок, густо усаженных глянцевыми головками семечек. — Зачем же столько? — упрекнул Коля. — А тебя завидки берут? — Ведь подсолнух-то колхозный! Петька промолчал. Не глядя, Коля быстро зашагал к лесу. — Не сердись, — заговорил Петька, стараясь забежать вперёд, — подсолнух всё равно пропащий. Птица выклюет, а то под снег упадёт. От леса дорога круто свернула на поскотину. Застегнув на все пуговицы куртку, Коля ускорил шаг. Петька едва успевал за ним. Вдруг Петька остановился. — Брательник! — шепнул он. Только сейчас Коля заметил, что навстречу им болотцем шёл Иван Вахрушев. Не шёл, а бежал боком, подставляя ссутулившуюся спину холодному ветру. За плечом его тускло блестело дуло берданки. Петька приотстал, сошёл с тропки и быстро стал забирать влево. «Да они, никак, сговорились…» Вахрушев приближался. Шагах в пяти от Коли он остановился, сорвал с плеча берданку, крикнул Петьке: — Марш домой, да не оглядывайся! Иван рывком вскинул берданку и, не целясь, выстрелил в Колю. Острая боль пронзила правую ногу, Коля потерял сознание. Озираясь, Вахрушев побежал в сторону Колесникова. От пыжа у Коли начала тлеть пола ватной куртки, красный язычок зазмеился по подолу рубахи, прижёг тело. Коля пришёл в себя. С предвечернего неба тополиным пухом сыпался снег. Ветер злобно крутил хлопья, густо устилая Воргу. Из снежного вихря прямо на Колю выплыла угловатая фигура Фотея Сычёва. — Жив ещё… Эх, мазила Иван! У самых глаз своих Коля увидел чёрное дуло ружья. — Дядя Фотей!.. За что? — Сам знаешь, ахтивист пионерский!..* * *
Больше четырёх десятилетий минуло с того хмурого осеннего дня, когда за сельской околицей прозвучал выстрел, оборвавший короткую жизнь Коли Мяготина. Ныне в Колесникове — колхоз имени Коли Мяготина. В центре села, на площади, возвышается мемориальный комплекс. Слева на пьедестале трёхметровая фигура пионера. Гордо вскинута голова, смелый взгляд, левая рука прижата к груди, как бы охраняет пионерский галстук, правая сжата в кулак… За фигурой пионера — стелла. На ней текст: «Здесь захоронен пионер-герой Коля Мяготин, убитый кулаками 25 октября 1932 года». Каждое лето из Кургана, районов области приходят сюда пионеры. Юные ленинцы приезжают в Колесникове из Москвы, многих городов Урала и Сибири. Они кладут к подножию памятника живые цветы и клянутся быть верными своей Великой Родине. Имя пионера-героя Коли Мяготина занесено в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина.КЫЧАН ДЖАКЫПОВ Бейшеналиев Шукурбек
 Небо голубое и прозрачное, как июльская вода озера Сон-Куля.
Ни одного облачка. Уже рассвело.
Аил[2] зашевелился, просыпаясь ото сна.
Проснулся и Кычан. Умывшись и по примеру старшего брата окатившись водой до пояса, он сел за уроки. Это у него уже стало привычкой. Он давно заметил, что утром всё запоминается быстро и твёрдо.
На улице кто-то кричал:
— Радостная весть! Радостная весть!
Кычан узнал голос мираба[3] Актана.
Услышав глашатая, он выскочил на улицу.
Народ бежал к конторе колхоза. А председатель колхоза Изакул в это время стоял на крыше дома и всматривался вдаль. Вдруг он быстро соскочил с крыши:
— Кычан, иди со мной. Есть дело!
Кычан вошёл вслед за Изакулом в контору. Оттуда он вышел, неся на длинном древке красный флаг. Актан помог ему взобраться позади себя на коня и галопом пустился вслед за народом, бежавшим теперь к реке.
Кычан, стоя на спине коня, прислонившись грудью к широким плечам Актана, держал древко флага. Флаг на ветру развевался, привлекая к себе внимание жителей аила.
У реки перед толпой народа они остановились.
— Друзья мои, — заговорил председатель. — Советская власть прислала нам такую железную лошадь, что не просит травы, не худеет и может работать день и ночь за целый табун лошадей. Имя этого коня…
Кычан подсказал ему:
— Тырыктыр!
— Ну, я так и говорил! Тыр-бытыр! Смотрите, вон он идёт.
Народ заволновался.
Старики начали, шевеля губами, произносить молитву. Кое-кто испугался необычного коня и спрятался в кустах на берегу.
Из-за холма, весело рокоча, выскочил трактор. Он шёл быстро и решительно, как властный и сильный хозяин.
Удивлённые, радостно сверкающие, перепуганные и просто любопытные глаза людей обратились к необычному коню.
Кычан, видя как председатель смело подошёл к трактору, соскочил с коня и, догнав председателя, хотел вернуть ему знамя. Но он кивнул в сторону трактора: мол, отдай ему. Кычан мгновение постоял в нерешительности, потом поднёс знамя к окутанному дымом трактору.
Тракторист, подхватив знамя, махнул рукой: садись!
Кычан, задыхаясь от радости, влез на трактор и высоко поднял знамя.
— Что же будет из этого шайтанёнка? — злобно шептал мулла[4] Майрык.
— Шайтан! — шипя отвечал ему Джумалы. — Красный шайтан, большевик…
Керез возвратился из города в середине весны. Узнав об этом, Кычан и Атай сразу же помчались к нему. Мальчики учились в одной школе и очень дружили. Через полчаса они уже втроём, обнявшись, шли на речку.
Кычан и Атай давно сговорились, что будут делать, когда появится их друг, и теперь они действовали по заранее намеченному плану Вышли из аила и направились вдоль реки.
У небольшого арыка[5] они свернули к гробнице неизвестного героя.
Вокруг глинобитного памятника густо росла трава. Заметив несколько кустов чертополоха, ребята вырвали его с корнями и устроились в мягкой густой траве.
Усевшись, отчего-то вдруг заскучали. Пока шли, болтали о том, о сём, а теперь молчат, как после большой ссоры.
Наконец Кычан встал. Прошёлся вдоль арыка и, собравшись с духом, решительно заговорил:
— Вот, Керез! Здесь говорят, что мы подожгли сено.
— Какое сено? — удивился Керез.
— То самое, которое загорелось, когда мы катались на коньках прошлой зимой.
Небо голубое и прозрачное, как июльская вода озера Сон-Куля.
Ни одного облачка. Уже рассвело.
Аил[2] зашевелился, просыпаясь ото сна.
Проснулся и Кычан. Умывшись и по примеру старшего брата окатившись водой до пояса, он сел за уроки. Это у него уже стало привычкой. Он давно заметил, что утром всё запоминается быстро и твёрдо.
На улице кто-то кричал:
— Радостная весть! Радостная весть!
Кычан узнал голос мираба[3] Актана.
Услышав глашатая, он выскочил на улицу.
Народ бежал к конторе колхоза. А председатель колхоза Изакул в это время стоял на крыше дома и всматривался вдаль. Вдруг он быстро соскочил с крыши:
— Кычан, иди со мной. Есть дело!
Кычан вошёл вслед за Изакулом в контору. Оттуда он вышел, неся на длинном древке красный флаг. Актан помог ему взобраться позади себя на коня и галопом пустился вслед за народом, бежавшим теперь к реке.
Кычан, стоя на спине коня, прислонившись грудью к широким плечам Актана, держал древко флага. Флаг на ветру развевался, привлекая к себе внимание жителей аила.
У реки перед толпой народа они остановились.
— Друзья мои, — заговорил председатель. — Советская власть прислала нам такую железную лошадь, что не просит травы, не худеет и может работать день и ночь за целый табун лошадей. Имя этого коня…
Кычан подсказал ему:
— Тырыктыр!
— Ну, я так и говорил! Тыр-бытыр! Смотрите, вон он идёт.
Народ заволновался.
Старики начали, шевеля губами, произносить молитву. Кое-кто испугался необычного коня и спрятался в кустах на берегу.
Из-за холма, весело рокоча, выскочил трактор. Он шёл быстро и решительно, как властный и сильный хозяин.
Удивлённые, радостно сверкающие, перепуганные и просто любопытные глаза людей обратились к необычному коню.
Кычан, видя как председатель смело подошёл к трактору, соскочил с коня и, догнав председателя, хотел вернуть ему знамя. Но он кивнул в сторону трактора: мол, отдай ему. Кычан мгновение постоял в нерешительности, потом поднёс знамя к окутанному дымом трактору.
Тракторист, подхватив знамя, махнул рукой: садись!
Кычан, задыхаясь от радости, влез на трактор и высоко поднял знамя.
— Что же будет из этого шайтанёнка? — злобно шептал мулла[4] Майрык.
— Шайтан! — шипя отвечал ему Джумалы. — Красный шайтан, большевик…
Керез возвратился из города в середине весны. Узнав об этом, Кычан и Атай сразу же помчались к нему. Мальчики учились в одной школе и очень дружили. Через полчаса они уже втроём, обнявшись, шли на речку.
Кычан и Атай давно сговорились, что будут делать, когда появится их друг, и теперь они действовали по заранее намеченному плану Вышли из аила и направились вдоль реки.
У небольшого арыка[5] они свернули к гробнице неизвестного героя.
Вокруг глинобитного памятника густо росла трава. Заметив несколько кустов чертополоха, ребята вырвали его с корнями и устроились в мягкой густой траве.
Усевшись, отчего-то вдруг заскучали. Пока шли, болтали о том, о сём, а теперь молчат, как после большой ссоры.
Наконец Кычан встал. Прошёлся вдоль арыка и, собравшись с духом, решительно заговорил:
— Вот, Керез! Здесь говорят, что мы подожгли сено.
— Какое сено? — удивился Керез.
— То самое, которое загорелось, когда мы катались на коньках прошлой зимой.
 — Да что ты! Мы же, наоборот, помогали тушить. Вы побежали к стожку, а я в аил. Из-за этого и заболел я, так что… — Керез замялся и опустил глаза.
— Вот, вот, Керез, об этом мы и хотели говорить с тобой! — ухватился за последние слова Кычан. — Скажи, ты нам друг?
Керез удивлённо пожал плечами, повернулся к Атаю.
Атай опустил глаза, но всё же набрался духу, пробурчал:
— Ты уж скажи правду. Если друг, тогда одно, а не хочешь дружить — тогда другое.
— Да что вы, ребята! — вскрикнул Керез. — Конечно, друг, как и раньше.
— Ну, если так, тогда… Где ты был после пожара и что делал? — подступил к нему Кычан. — Это нужно знать, чтобы доказать, что мы не поджигали сена и чтобы помочь найти настоящего виновника.
Атай набросился на Кереза:
— Говори! Люди, проболевшие два месяца, не бывают такими жирными и загорелыми.
Атай оттянул щёку Кереза и пощупал мускулы на руке.
— Что вы меня ощупываете, как бычка на базаре… — сказал Керез и заплакал.
Кычан и Атай, не обращая внимания на его слёзы, начали допрос. — Обвиняемый Керез, говори, что случилось с тобой после того, как мы послали тебя поднять людей на пожар?
— Я ж говорил, что заболел. Чего пристаёте? — сквозь слёзы ответил Керез. — Я бежал, споткнулся, упал и…
— Врёшь! — сказал Кычан.
Керез не знал, как ответить на вопросы «судей». Чем больше Кычан и Атай спрашивали, тем глупее были ответы.
Наконец, устыжённый друзьями, Керез рассказал всё как было.
Он не мог сообщить о пожаре не потому, что не хотел. Он мчался изо всех сил. Но за старым домом он наткнулся на зятя Капсалана, видно, специально там кого-то поджидавшего. Капсалан запретил бежать в аил. А когда Керез не подчинился ему, Капсалан оглушил его палкой и унёс домой. Керез долго лежал в постели. И Капсалан всем говорил:
— Да что ты! Мы же, наоборот, помогали тушить. Вы побежали к стожку, а я в аил. Из-за этого и заболел я, так что… — Керез замялся и опустил глаза.
— Вот, вот, Керез, об этом мы и хотели говорить с тобой! — ухватился за последние слова Кычан. — Скажи, ты нам друг?
Керез удивлённо пожал плечами, повернулся к Атаю.
Атай опустил глаза, но всё же набрался духу, пробурчал:
— Ты уж скажи правду. Если друг, тогда одно, а не хочешь дружить — тогда другое.
— Да что вы, ребята! — вскрикнул Керез. — Конечно, друг, как и раньше.
— Ну, если так, тогда… Где ты был после пожара и что делал? — подступил к нему Кычан. — Это нужно знать, чтобы доказать, что мы не поджигали сена и чтобы помочь найти настоящего виновника.
Атай набросился на Кереза:
— Говори! Люди, проболевшие два месяца, не бывают такими жирными и загорелыми.
Атай оттянул щёку Кереза и пощупал мускулы на руке.
— Что вы меня ощупываете, как бычка на базаре… — сказал Керез и заплакал.
Кычан и Атай, не обращая внимания на его слёзы, начали допрос. — Обвиняемый Керез, говори, что случилось с тобой после того, как мы послали тебя поднять людей на пожар?
— Я ж говорил, что заболел. Чего пристаёте? — сквозь слёзы ответил Керез. — Я бежал, споткнулся, упал и…
— Врёшь! — сказал Кычан.
Керез не знал, как ответить на вопросы «судей». Чем больше Кычан и Атай спрашивали, тем глупее были ответы.
Наконец, устыжённый друзьями, Керез рассказал всё как было.
Он не мог сообщить о пожаре не потому, что не хотел. Он мчался изо всех сил. Но за старым домом он наткнулся на зятя Капсалана, видно, специально там кого-то поджидавшего. Капсалан запретил бежать в аил. А когда Керез не подчинился ему, Капсалан оглушил его палкой и унёс домой. Керез долго лежал в постели. И Капсалан всем говорил:
«Видимо, мальчик сильно испугался пожара, у него отнялся язык. Боюсь, как бы не лишился ума».А потом Капсалан отправил его с сестрой в город, якобы для лечения. На самом деле Керез поехал не в больницу, а к одному спекулянту, другу Капсалана. А Джумалы под предлогом, что он едет навещать больного Кереза, часто отлучался из колхоза и привозил целыми мешками колхозную пшеницу. Спекулянт отвозил её на мельницу. Потом пёк лепёшки и посылал Кереза продавать их. Чтобы задобрить Кереза, Капсалан купил ему полосатую бархатную рубашку и брюки. Выслушав Кереза, Кычан и Атай вечером обо всём рассказали учителю. Тенти-агай выслушал всё внимательно и посоветовал ребятам никому ни о чём не говорить. — Почему? — удивился Кычан. — Скоро узнаете… На душе у Капсалана неспокойно. Появилось много забот. Он ходит по домам, присматривается, прислушивается. Заметив, что председатель колхоза стал относиться к нему не так, как раньше, он вместе с Джумалы начал перевозить в город вещи, продукты. Однажды Каным, сестра Кереза, рассказала, что Капсалан и Майрык о чём-то по ночам совещаются и ругаются. — Ты моя опора, Керез, — говорила она брату. — Я боюсь этого шакала. По ночам мне кажется, что он убьёт нас и вместе с этим бандитом Джумалы убежит. Много вещей Капсалан перевёз в город. И откуда-то натащил полную кладовку ружей и сабель. — Ружей и сабель? — переспросил Керез. И, чтобы сестра не заметила, как взволновало его это сообщение, поспешил успокоить её. — А ты не бойся. Теперь каждый его шаг знают. — Кто знает? Откуда знают? Керез молчал. А Каным, дрожа, прошептала сквозь слёзы: — Ой, ой, не связывайся ты с ним. Он не один. Их целая банда. Вечером, возвратясь из кладовой, Капсалан вдруг набросился на Кереза:
 — Волчонок никогда не станет верным псом, говорят старики, и правда. Надо же! Отказался признать себя виновным в поджоге сена.
А теперь вот… — он остановился посредине комнаты, указал на дверь. — Убирайся, и больше чтоб не переступал порог моего дома!
Плача, Каным вынесла одежонку брата… Керез сказал ей, что пойдёт к Кычану…
…Кычан готовил уроки, сидя у открытого окна. Вдруг тихонько нерешительно скрипнула дверь.
— Керез? — обрадовался Кычан. — Насовсем пришёл?
— Да. Не прогонишь?
— Что ты! Проходи, раздевайся! — Кычан побежал на кухню и возвратился с лепёшкой и деревянной пиалой с пенящимся максымом[6].
— Ешь, пей! Ты моих родителей знаешь. Они будут рады тебе, не то что твой шакал.
— Больше я не буду плаксой. И врать не буду. Веришь?
— Ты сегодня не плакал, это я вижу, — заметил Кычан, всматриваясь в лицо друга.
— Слушай, Кычан, — подсев к другу, Керез перешёл на шёпот, — Капсалан перевозит еду и вещи в город.
— Собирается бежать, — догадался Кычан.
— Да, у него есть ружья и сабли…
Ночь была тёмная. Керез, возвращавшийся с Кычаном от Атая, решил воспользоваться этой темнотой, чтобы через окно взглянуть на сестру.
— Давай подкрадёмся к дому, я только посмотрю, жива ли она, здорова ли, и сразу уйдём…
Кычан согласился.
Они осторожно подошли к освещённому лампой окну. Прислушались.
«Что это? Лампа горит вовсю, а в доме — ни звука…»
Керез заглянул в окно. В комнате пусто. На полу разбросаны старые ненужные тряпки…
— Кычан! Кы-ча-ан! — вскрикнул Керез. — Они уехали. Убежали. Капсалан увёз мою сестру.
— Они не могли ещё далеко уехать, раз лампа горит, — прошептал Кычан. — Мы их догоним. Они, наверно, заехали за Майрыком.
Капсалан, подталкивая впереди себя Каным, подошёл к осёдланным и навьюченным коням. Мулла Майрык, запахивая длинный халат, оглядываясь, засеменил следом. Хитрый Джумалы стоял в сенях.
Он решил сесть на своего коня только тогда, когда Капсалан и Майрык благополучно выедут со двора.
Каным, плача, вошла в дом и вдруг за спиной услышала, как кто-то тихо, но властно сказал Капсалану:
— Руки вверх!
Она обернулась и увидела, как здоровенный Капсалан был схвачен.
Каным хотела было крикнуть, как узнала по голосу начандика[7] и председателя колхоза Изакула.
— Каным! Сестрёнка! — услышала она из темноты тоненький голос Кереза.
— Керез! Родной мой…
— Товарищ Беримкулов, обыщите дом, — послышался приказ начандика. — Джумалы где-то спрятался. Выйти во двор он не мог. Двор окружён. Неужели он раньше улизнул?
— Слушаюсь!
Через полчаса, когда двор и дом были обысканы — Джумалы так и не был найден, — милиция и помогавшие ей колхозники уехали с арестованными Капсаланом и Майрыком.
Новая зима пролетела быстрее прошлогодней.
Вся земля, даже каменные пригорки, покрылась густой травой, цветами.
Пришли летние каникулы. Многие школьники разъехались: кто к родным, кто на пастбище…
Трое неразлучных друзей остались дома. Вот уже несколько дней они слоняются по аилу, как отставшие от стада ягнята.
Однажды они услышали, что в правлении колхоза идёт собрание.
Ребята пошли туда. Колхозники сидели на траве. Белые из кошмы колпаки и красные косынки, как огромные тюльпаны, красовались на зелёном ковре.
Облокотившись на край маленького стола, покрытого тёмно-красной материей, Изакул говорил громко и раздельно:
— У каждого колхозника есть корова, и каждый пасёт её сам. А что, если их пасти не порознь, а вместе, как у русских? В каждой семье освободится один человек. Я думаю, надо выбрать пастуха. Как вы смотрите на это?
— Волчонок никогда не станет верным псом, говорят старики, и правда. Надо же! Отказался признать себя виновным в поджоге сена.
А теперь вот… — он остановился посредине комнаты, указал на дверь. — Убирайся, и больше чтоб не переступал порог моего дома!
Плача, Каным вынесла одежонку брата… Керез сказал ей, что пойдёт к Кычану…
…Кычан готовил уроки, сидя у открытого окна. Вдруг тихонько нерешительно скрипнула дверь.
— Керез? — обрадовался Кычан. — Насовсем пришёл?
— Да. Не прогонишь?
— Что ты! Проходи, раздевайся! — Кычан побежал на кухню и возвратился с лепёшкой и деревянной пиалой с пенящимся максымом[6].
— Ешь, пей! Ты моих родителей знаешь. Они будут рады тебе, не то что твой шакал.
— Больше я не буду плаксой. И врать не буду. Веришь?
— Ты сегодня не плакал, это я вижу, — заметил Кычан, всматриваясь в лицо друга.
— Слушай, Кычан, — подсев к другу, Керез перешёл на шёпот, — Капсалан перевозит еду и вещи в город.
— Собирается бежать, — догадался Кычан.
— Да, у него есть ружья и сабли…
Ночь была тёмная. Керез, возвращавшийся с Кычаном от Атая, решил воспользоваться этой темнотой, чтобы через окно взглянуть на сестру.
— Давай подкрадёмся к дому, я только посмотрю, жива ли она, здорова ли, и сразу уйдём…
Кычан согласился.
Они осторожно подошли к освещённому лампой окну. Прислушались.
«Что это? Лампа горит вовсю, а в доме — ни звука…»
Керез заглянул в окно. В комнате пусто. На полу разбросаны старые ненужные тряпки…
— Кычан! Кы-ча-ан! — вскрикнул Керез. — Они уехали. Убежали. Капсалан увёз мою сестру.
— Они не могли ещё далеко уехать, раз лампа горит, — прошептал Кычан. — Мы их догоним. Они, наверно, заехали за Майрыком.
Капсалан, подталкивая впереди себя Каным, подошёл к осёдланным и навьюченным коням. Мулла Майрык, запахивая длинный халат, оглядываясь, засеменил следом. Хитрый Джумалы стоял в сенях.
Он решил сесть на своего коня только тогда, когда Капсалан и Майрык благополучно выедут со двора.
Каным, плача, вошла в дом и вдруг за спиной услышала, как кто-то тихо, но властно сказал Капсалану:
— Руки вверх!
Она обернулась и увидела, как здоровенный Капсалан был схвачен.
Каным хотела было крикнуть, как узнала по голосу начандика[7] и председателя колхоза Изакула.
— Каным! Сестрёнка! — услышала она из темноты тоненький голос Кереза.
— Керез! Родной мой…
— Товарищ Беримкулов, обыщите дом, — послышался приказ начандика. — Джумалы где-то спрятался. Выйти во двор он не мог. Двор окружён. Неужели он раньше улизнул?
— Слушаюсь!
Через полчаса, когда двор и дом были обысканы — Джумалы так и не был найден, — милиция и помогавшие ей колхозники уехали с арестованными Капсаланом и Майрыком.
Новая зима пролетела быстрее прошлогодней.
Вся земля, даже каменные пригорки, покрылась густой травой, цветами.
Пришли летние каникулы. Многие школьники разъехались: кто к родным, кто на пастбище…
Трое неразлучных друзей остались дома. Вот уже несколько дней они слоняются по аилу, как отставшие от стада ягнята.
Однажды они услышали, что в правлении колхоза идёт собрание.
Ребята пошли туда. Колхозники сидели на траве. Белые из кошмы колпаки и красные косынки, как огромные тюльпаны, красовались на зелёном ковре.
Облокотившись на край маленького стола, покрытого тёмно-красной материей, Изакул говорил громко и раздельно:
— У каждого колхозника есть корова, и каждый пасёт её сам. А что, если их пасти не порознь, а вместе, как у русских? В каждой семье освободится один человек. Я думаю, надо выбрать пастуха. Как вы смотрите на это?
 — Правильно, правильно! — раздались голоса.
— А кто будет ему платить?
— Будем начислять трудодни. Но на это дело нужно добровольцев. Среди вас есть желающие?.. Так кто будет пастухом коров аила?..
Стоявший сбоку Кычан уже давно поднял руку. Но никому и в голову не приходило, зачем он её поднял.
— Я буду пастухом!
Все оглянулись на сына кузнеца.
Послышались одобрительные возгласы:
— Пусть жизнь твоя будет счастливой!
— Он подходит!
— Верим!
Старый кузнец Джакып от волнения даже не смел взглянуть на сына, так неожиданно взявшего на себя нелёгкое дело и не побоявшегося выступить на собрании.
Утром к дому Джакыпова подъехал председатель на сером коне.
На поводу он вёл чёрного, как мокрый ворон, жеребчика с подстриженной гривой и ровно обрезанным хвостом.
— Вот тебе лучший и самый молодой в колхозе конь. Береги его.
Кычан радостно сверкнул глазами и тут же вскочил на коня.
Он погнал стадо по направлению к тому пастбищу, которое было уже знакомо животным.
За аилом Кычан почувствовал себя повзрослевшим и важным. Правда, досадно было, что Керез и Атай проспали и не вышли ему помочь.
В полдень Кычан, наверное, в сотый раз пересчитал стадо. Тридцать две головы, как и было.
Всё лето работал Кычан. Председатель вызывал его к себе, благодарил.
Последний день работы. Кычан, за два месяца привыкший рано вставать, сегодня встал ещё раньше. Выгнал коров на остров между двумя рукавами арыка.
Коровы паслись спокойно, и Кычан на всю окрестность пел:
— Правильно, правильно! — раздались голоса.
— А кто будет ему платить?
— Будем начислять трудодни. Но на это дело нужно добровольцев. Среди вас есть желающие?.. Так кто будет пастухом коров аила?..
Стоявший сбоку Кычан уже давно поднял руку. Но никому и в голову не приходило, зачем он её поднял.
— Я буду пастухом!
Все оглянулись на сына кузнеца.
Послышались одобрительные возгласы:
— Пусть жизнь твоя будет счастливой!
— Он подходит!
— Верим!
Старый кузнец Джакып от волнения даже не смел взглянуть на сына, так неожиданно взявшего на себя нелёгкое дело и не побоявшегося выступить на собрании.
Утром к дому Джакыпова подъехал председатель на сером коне.
На поводу он вёл чёрного, как мокрый ворон, жеребчика с подстриженной гривой и ровно обрезанным хвостом.
— Вот тебе лучший и самый молодой в колхозе конь. Береги его.
Кычан радостно сверкнул глазами и тут же вскочил на коня.
Он погнал стадо по направлению к тому пастбищу, которое было уже знакомо животным.
За аилом Кычан почувствовал себя повзрослевшим и важным. Правда, досадно было, что Керез и Атай проспали и не вышли ему помочь.
В полдень Кычан, наверное, в сотый раз пересчитал стадо. Тридцать две головы, как и было.
Всё лето работал Кычан. Председатель вызывал его к себе, благодарил.
Последний день работы. Кычан, за два месяца привыкший рано вставать, сегодня встал ещё раньше. Выгнал коров на остров между двумя рукавами арыка.
Коровы паслись спокойно, и Кычан на всю окрестность пел:
 Первым услышал выстрелы Актан, неподалёку чистивший арык.
Почуяв что-то недоброе, он стал звать людей, работавших в поле.
Вскоре из аила выскочило несколько всадников. Они помчались за Джумалы. Председатель, прискакавший на островок, увидел на пастбище одних коров. Пастуха нигде не было видно. Председатель нашел его в зарослях арчи.
— Кычан! Кычан! — не своим голосом закричал Изакул.
Но Кычан не отзывался.
Давным-давно развалилась землянка, которая называлась школой в те дни, когда учился Кычан. На её месте стоит большое, красивое здание. Это средняя школа имени Кычана Джакыпова.
В светлой комнате, где занимается четвёртый класс, в первом ряду у окна стоит парта. За ней сидел когда-то юный пионер Кычан. Теперь это самое почётное место, и сидеть на нём может только тот, кто учится, как Кычан, кто смел, как Кычан, кто находчив, как Кычан, кто трудолюбив, как Кычан.
Никогда не бывал мальчик из аила «Социалист» ни в Джумгальской долине, ни на границе, ни на джайлоо[10] близ Сон-Куля. Но имя Кычана известно всюду. Чьи же лёгкие крылья разнесли его имя по всем уголкам республики?
Первым услышал выстрелы Актан, неподалёку чистивший арык.
Почуяв что-то недоброе, он стал звать людей, работавших в поле.
Вскоре из аила выскочило несколько всадников. Они помчались за Джумалы. Председатель, прискакавший на островок, увидел на пастбище одних коров. Пастуха нигде не было видно. Председатель нашел его в зарослях арчи.
— Кычан! Кычан! — не своим голосом закричал Изакул.
Но Кычан не отзывался.
Давным-давно развалилась землянка, которая называлась школой в те дни, когда учился Кычан. На её месте стоит большое, красивое здание. Это средняя школа имени Кычана Джакыпова.
В светлой комнате, где занимается четвёртый класс, в первом ряду у окна стоит парта. За ней сидел когда-то юный пионер Кычан. Теперь это самое почётное место, и сидеть на нём может только тот, кто учится, как Кычан, кто смел, как Кычан, кто находчив, как Кычан, кто трудолюбив, как Кычан.
Никогда не бывал мальчик из аила «Социалист» ни в Джумгальской долине, ни на границе, ни на джайлоо[10] близ Сон-Куля. Но имя Кычана известно всюду. Чьи же лёгкие крылья разнесли его имя по всем уголкам республики?
ЛАРА МИХЕЕНКО Надеждина Надежда Августиновна
 Жила в городе Ленинграде, в рабочем районе на Выборгской стороне, пионерка Лара Михеенко.
Она любила одуванчики — самые простые цветы городского пустыря. Тяжело болея скарлатиной, Лара сказала матери:
— Мама, чего ты плачешь? Боишься, что я умру? А я стану пуховочкой одуванчика и буду летать по всему свету, к тебе прилечу, и ты вспомнишь меня.
Она любила и лепестки одуванчиков, яркие, как солнце. Казалось, что золотистые искры вспыхивают в её карих глазах, в кудрявых каштановых волосах.
Чуткая, отзывчивая, она всегда была готова прийти на помощь.
Одно время семья Михеенко жила за городом в Лахте. Как-то зимой мать Лары, Татьяна Андреевна, должна была поздно вернуться, а встретить её было некому, отец уехал в Дом отдыха. Мама пожаловалась, что боится, и четырёхлетняя Лара запомнила её слова.
Малышка пристала к бабушке:
— Покажи, где будут стрелки часиков, когда вернётся мама?
Бабушка показала цифру 12.
Пришло время ложиться спать: бабушка уснула, но девочка не закрывала глаз. Когда стрелки приблизились к двенадцати, она встала, напялила на себя шубку, обмоталась бабушкиным платком и, петляя между сугробами, пошла ночью на станцию встречать маму.
— Мама! Ты сказала, что боишься, а я не боюсь!
Ко всему живому она относилась по-доброму. Ставила возле крыльца для беспризорных кошек блюдечко с молоком.
Однажды она пришла домой, покусанная неизвестной собакой.
— Придётся делать прививки! — заволновалась мама. — Как это случилось? До сих пор ни одна собака не трогала тебя.
— Но это была больной собака, — ответила малышка. — Я хотела отвести её в аптеку, чтоб ему перевязали раненый хвост.
Лара была озорная, весёлая, быстрая. Как рыба, плавала в море, как белка, лазила по деревьям, бегала с мальчишками наперегонки.
Вместе с подружкой Лидой Тёткиной записалась в балетный кружок.
Хотела стать балериной и ещё историком. Книги читала запоем.
После того как Лара записалась в три библиотеки, маме пришлось писать библиотекарям записки:
«Прошу вас больше не выдавать книг моей дочери, ученице 106-й школы Ларисе Михеенко. Ей дня мало, читает по ночам».
Иногда мать или отец брали её с собой в кино. Однажды они смотрели фильм из времён Гражданской войны. В избушку к леснику врываются белогвардейцы и требуют, чтоб он стал их проводником. А он, бросая гранату, взрывает врагов и себя. Когда полотно экрана застлал дым взрыва, на весь зал раздался взволнованный голос Лары:
— Правильно! Я бы тоже сделала так!
В своём пионерском отряде она была звеньевой. Ребята сдружились, даже в школу ходили вместе, гурьбой. Чуть ли ни каждый день в комнате у Михеенко слышались детские голоса — то Лара занимается с кем-нибудь из отстающих, то учит подружек танцевать и играть на гитаре, то советуется с мальчишками, как лучше провести военную игру.
К лету всё затихало. Бабушка с Парой уезжали отдыхать.
Летом 1941 года бабушка с внучкой поехали к родным в деревню Печенево. Тогда это была Калининская, а теперь Псковская область, Пустошенский район. Здесь, в Печеневе, их и застала война.
В самом начале войны в Ленинград ещё успело дойти письмо:
«Мамочка, дорогая! Очень тебя люблю и скучаю, но дорогу разбомбило, проехать нельзя. Я бы могла пешком, но бабушка не дойдёт. А я не оставлю бабушку».
Больше писем от Лары не было. В это же лето Пустошенский район заняли гитлеровские войска.
Девочка видела, как по просёлочным дорогам брели беженцы из сожжённых немцами деревень. У Лары сжималось сердце, но она ничем не могла им помочь — у неё самой лицо стало прозрачным от голода.
Она слышала плач деревенских девушек, которых разлучали с родными, увозили в рабство на чужбину. Видела, как повели на казнь учителя из деревни Тимоново Синицына Николая Максимовича и его дочку, тоже учительницу. Они не сдали немцам радиоприёмник и продолжали слушать Москву. Синицыных расстреляли на окраине Пустоши, где уже было расстреляно много советских людей.
«Разве можно это забыть? Разве можно это простить?» — так думала и Лара, и её печеневские подружки Рая Михеенко и Фрося Конруненко.
Весной 1943 года на деревенской сходке прочитали список, кому из молодёжи явиться в лагерь для отправки в Германию. Все три подружки были в списке. На сборы полагался один день.
Жила в городе Ленинграде, в рабочем районе на Выборгской стороне, пионерка Лара Михеенко.
Она любила одуванчики — самые простые цветы городского пустыря. Тяжело болея скарлатиной, Лара сказала матери:
— Мама, чего ты плачешь? Боишься, что я умру? А я стану пуховочкой одуванчика и буду летать по всему свету, к тебе прилечу, и ты вспомнишь меня.
Она любила и лепестки одуванчиков, яркие, как солнце. Казалось, что золотистые искры вспыхивают в её карих глазах, в кудрявых каштановых волосах.
Чуткая, отзывчивая, она всегда была готова прийти на помощь.
Одно время семья Михеенко жила за городом в Лахте. Как-то зимой мать Лары, Татьяна Андреевна, должна была поздно вернуться, а встретить её было некому, отец уехал в Дом отдыха. Мама пожаловалась, что боится, и четырёхлетняя Лара запомнила её слова.
Малышка пристала к бабушке:
— Покажи, где будут стрелки часиков, когда вернётся мама?
Бабушка показала цифру 12.
Пришло время ложиться спать: бабушка уснула, но девочка не закрывала глаз. Когда стрелки приблизились к двенадцати, она встала, напялила на себя шубку, обмоталась бабушкиным платком и, петляя между сугробами, пошла ночью на станцию встречать маму.
— Мама! Ты сказала, что боишься, а я не боюсь!
Ко всему живому она относилась по-доброму. Ставила возле крыльца для беспризорных кошек блюдечко с молоком.
Однажды она пришла домой, покусанная неизвестной собакой.
— Придётся делать прививки! — заволновалась мама. — Как это случилось? До сих пор ни одна собака не трогала тебя.
— Но это была больной собака, — ответила малышка. — Я хотела отвести её в аптеку, чтоб ему перевязали раненый хвост.
Лара была озорная, весёлая, быстрая. Как рыба, плавала в море, как белка, лазила по деревьям, бегала с мальчишками наперегонки.
Вместе с подружкой Лидой Тёткиной записалась в балетный кружок.
Хотела стать балериной и ещё историком. Книги читала запоем.
После того как Лара записалась в три библиотеки, маме пришлось писать библиотекарям записки:
«Прошу вас больше не выдавать книг моей дочери, ученице 106-й школы Ларисе Михеенко. Ей дня мало, читает по ночам».
Иногда мать или отец брали её с собой в кино. Однажды они смотрели фильм из времён Гражданской войны. В избушку к леснику врываются белогвардейцы и требуют, чтоб он стал их проводником. А он, бросая гранату, взрывает врагов и себя. Когда полотно экрана застлал дым взрыва, на весь зал раздался взволнованный голос Лары:
— Правильно! Я бы тоже сделала так!
В своём пионерском отряде она была звеньевой. Ребята сдружились, даже в школу ходили вместе, гурьбой. Чуть ли ни каждый день в комнате у Михеенко слышались детские голоса — то Лара занимается с кем-нибудь из отстающих, то учит подружек танцевать и играть на гитаре, то советуется с мальчишками, как лучше провести военную игру.
К лету всё затихало. Бабушка с Парой уезжали отдыхать.
Летом 1941 года бабушка с внучкой поехали к родным в деревню Печенево. Тогда это была Калининская, а теперь Псковская область, Пустошенский район. Здесь, в Печеневе, их и застала война.
В самом начале войны в Ленинград ещё успело дойти письмо:
«Мамочка, дорогая! Очень тебя люблю и скучаю, но дорогу разбомбило, проехать нельзя. Я бы могла пешком, но бабушка не дойдёт. А я не оставлю бабушку».
Больше писем от Лары не было. В это же лето Пустошенский район заняли гитлеровские войска.
Девочка видела, как по просёлочным дорогам брели беженцы из сожжённых немцами деревень. У Лары сжималось сердце, но она ничем не могла им помочь — у неё самой лицо стало прозрачным от голода.
Она слышала плач деревенских девушек, которых разлучали с родными, увозили в рабство на чужбину. Видела, как повели на казнь учителя из деревни Тимоново Синицына Николая Максимовича и его дочку, тоже учительницу. Они не сдали немцам радиоприёмник и продолжали слушать Москву. Синицыных расстреляли на окраине Пустоши, где уже было расстреляно много советских людей.
«Разве можно это забыть? Разве можно это простить?» — так думала и Лара, и её печеневские подружки Рая Михеенко и Фрося Конруненко.
Весной 1943 года на деревенской сходке прочитали список, кому из молодёжи явиться в лагерь для отправки в Германию. Все три подружки были в списке. На сборы полагался один день.
* * *
Последний вечер Лара с бабушкой долго не ложились спать. Они сидели на дворе перед банькой, в которой жили, тесно прижавшись друг к другу. Бабушка крепко держала внучку за руку, словно боялась, что если она выпустит Ларину руку, девочку тут же уведут. Лицо бабушки было мокро от слёз. — Дай погляжу на тебя в последний раз, лапушка! — Не надо так говорить. Я не хочу, чтоб в последний. Ты знаешь, как я тебя люблю. Когда совсем стемнело, они вернулись в свою избушку и там говорили друг другу ласковые и грустные слова. Наконец бабушка уснула. Девочка осторожно подошла к спящей и прошептала: — Прощай, милая бабушка! Я не виновата, что тебя оставляю. Это враги разлучили нас. Они не угонят меня в Германию. Пионерка не будет служить фашистам! Я ухожу воевать. В темноте смутно белел платок, которым бабушка повязывала на ночь голову. Девочка покивала этому платку и бесшумно вылезла в окно. Так в одну весеннюю ночь из деревни Печенево исчезли три девочки. Они решили стать партизанами, как и Петя, Фросин брат. На рассвете беглянки встретили в лесу приятеля Пети, знакомого парня, он стал их проводником. Озеро Язно как бы служило границей: по одну сторону озера — земля, захваченная фашистами, по другую сторону — партизанский край. В спрятавшейся среди лесов деревне Кривицы стоял штаб 6-й Калининской бригады майора Рындина. Трёх девочек — двух беленьких и одну темноволосую — привели в штабную избу. Как огорчилась Лара, услышав от командира бригады, что в четырнадцать лет в партизаны не берут. Но он отказал и её подружкам, хотя Рае было шестнадцать, а Фросе пятнадцать лет. Он не верил, что девочки смогут работать разведчицами: возможно, что местность они узнают, но силёнок не хватит, а партизанский разведчик всё время находится в пути. Тут в штабную избу вошли ещё двое партизан, и девочки были забыты. Стоя в сторонке, они внимательно прислушивались к разговору, который вели между собой комбриг, командир одного из отрядов Карпенко и начальник разведки Котляров. Они говорили о деревне Орехово, куда немцы согнали крестьянский скот. Карпенко брался отбить у грабителей их добычу, но для этого ему нужно было знать, где в Орехове расположены немецкие орудия, где расставлены часовые. А послать в разведку, как доложил Котляров, было некого: все девушки-разведчицы на заданиях, а парню не пройти. В военное время каждый мужчина на счету. Чужого узнают сразу. — Так у меня же есть тётя в Орехове! — Это сказала Рая. — Одной не справиться, — сказал Котляров, — надо идти вдвоём. А если вас спросят, почему именно сейчас вы решили навестить свою тётю? Что вы на это ответите? — Скажем, что за семенами, — быстро нашлась Лара. — Сейчас все на огородах садят, и мы хотим садить. «Хоть ты всех моложе, а смышлёная!» — подумал Котляров. Он посмотрел на командира бригады, и тот кивнул головой. Заходило солнце, когда начальник разведки на вороном коне подъехал к озеру Язно. Переправу день и ночь охраняли часовые. На плот мог попасть только тот, кто знал пароль. Может, девочки забыли пароль? Может, девочек задержали? Почему их нет? Котляров раздвинул ветки ивняка и увидел, что по озеру движется плот. Позади перевозчика, ёжась от ветра, стояли Лара и Рая. Разведчицы вернулись! Котляров встретил их у причала. Они прошли по берегу несколько шагов и остановились. Рая высыпала из платка семена: свёклу, бобы, горох… А Лара провела прутиком длинную черту. Котляров нахмурился: их в штабе ждут, а они играются… Но рядом с первой чертой Лара провела другую, получилась дорожка. Котляров понял: дорожка — это деревенская улица, а квадратики по обе её стороны — это дома. — Горошина будет часовой, — Лара положила горошину в конце дорожки. — И ещё здесь и здесь стоят часовые. Тыквенное семечко будет пушка. Она вот за этим домом. А бобы — пулемёты. Видите, где я их кладу? Начальник разведки вынул из полевой сумки карандаш и бумагу и стал перерисовывать план. В этот весенний вечер решилась судьба Лары и её подружек. Партизаны приняли их в свою боевую семью. Теперь домом для Лары стала изба разведчик в, где спали по-походному, не раздеваясь, чтоб вскочить сразу же, как только позовут. В этом доме надо забыть детские капризные слова: «не хочу!», «не могу!», «не буду!». Здесь знали только одно слово: «нужно». Нужно для Родины, для победы над врагом. Нужно разведать расположение орудий в деревне Могильное. Три девочки стучатся в дверь избы: — Дорогая тётенька! Пустите переночевать беженцев… Вечером «беженки» носятся по деревне, играя в салки с хозяйскими детьми. Одна из «беженок», кудрявая, темноглазая, всё норовит прошмыгнуть мимо замаскированных орудий. — Тю-тю! — прикрикивает на неё немецкий часовой. — Тю-тю! — весело отвечает хитрая девочка. И часовой отворачивается. Нужно разведать, какие немецкие поезда и с каким грузом приходят на станцию Пустошка. За поездами из окошка своего дома наблюдает старик Гультяев, незаметно ведёт подсчёт. Но Гультяеву не верится, что партизаны могли прислать к нему в качестве связного девочку. Старик молчит, угрюмо перебирая слесарный инструмент. И вдруг девочка, наклонившись, тоже начинает рыться в ящике. — Это рашпиль, это сверло. А где у вас штангенциркуль? — Да откуда ты это слово знаешь: «штанген»? — От папы. Он был слесарем на заводе «Красная заря» в Ленинграде. Моего папу убили в финскую войну. — Голубушка! Чего же ты сразу не сказала, что ты наша рабочая косточка, слесарева дочь? Нужно разведать, какие немецкие машины движутся по большаку Идрица — Пустошка. И девочка нанимается в няньки в деревне Луги, поближе к большаку. Семья Антона Кравцова довольна нянькой. Уж такая усердная, уж такая учёная! Песни поёт, сказки сказывает, не ленится гулять с малышом в поле. Говорит: «Там воздух чище, а ребёнку нужен кислород!» Если бы видели Кравцовы, что делает в поле их учёная нянька! Лёжа в густой траве, она незаметно зарисовывает оленей и тигров — опознавательные знаки немецких машин. Кем только не приходилось быть девочке: и беженкой, и нянькой, и пастушкой, и даже… кукушкой: сидеть на дереве, подавать партизанам сигнал. Если на дороге показался мотоцикл — «кукушка» кукует протяжно и медленно, если подвода — «кукушка» кукует отрывисто, скороговоркой. Сколько раз повторит своё «ку-ку!» партизанская кукушка, столько, значит, движется по дороге машин или подвод.* * *
Очень часто девочке приходилось быть нищенкой. В то время много голодных ребят просило под окнами: — Подайте хлебушка, добрые люди! Подайте сироте! Эти же слова повторяла кареглазая нищенка в деревне Сельцы перед домом Ивана Сморыги. Для партизан это был свой человек. Чтоб добыть нужные партизанам сведения, он поддерживал знакомство с полицаями. И сейчас два немецких изрядно выпивших солдата и два полицая сидели у него за столом. Пожилой полицай первым заметил нищенку. — Иван! К тебе гостья. Да какая хорошенькая! Сморыга быстро взглянул в окно. — Ты что смеёшься надо мной? Это же нищенка, попрошайка. Надо поскорей её отправить, как бы не украла чего. Сморыга вышел на крыльцо и бросил в Ларину сумку несколько хлебных корок. Нищенка поклонилась. — Спасибо, дяденька! Дай бог тебе здоровья. Глаза девочки блеснули. Она успела расслышать шёпот Сморыги: «Приходи вечером, сейчас ко мне нельзя». Вечером в дверь раздался условный стук. Маленькая нищенка проскользнула в избу и уселась у печки. — Была в Чернецове? — спросил Сморыга. — Была, дядя Ваня. Как немцы запоганили школу, устроили там казарму! Я всё высмотрела: где у них стоит пулемёт, на какую сторону выходят двери и окна. А вот когда сменяются часовые, я не смогла проследить. — Часовые заступают на пост вечером, в восемь часов, — сказал Сморыга, — и меняются через два часа. Немец проболтался спьяну. Через два дня отряд Карпенко, проводниками которого были Лара и дядя Ваня Сморыга, незаметно окружил чернецовскую школу. Застигнутый врасплох, немецкий гарнизон был уничтожен.* * *
И в Усть-Долыссах появилась кудрявая девочка-нищенка. — Беги! — кричали мальчишки, увидев, что нищенку задержали два полицая. — Они тебя не догонят, беги! Но она не убежала, а покорно последовала за полицаями. Никто не видел, как в укромном месте полицаи передали нищенке пачку писем. — Какие вы молодцы, Коля и Вася! — сказала девочка. Ведь она знала, что Коля Шарковский и Вася Новак нарочно поступили в полицаи, чтоб помогать партизанам. Письма, которые они похитили из немецкой полевой почты, девочка спрятала на дно нищенской сумы под корками хлеба и доставила их в партизанский штаб. Каждая воинская часть имеет свой номер полевой почты. По номерам на конвертах, которые принесла Лара, нашему командованию стало известно, что две немецкие дивизии переброшены с Карельского фронта в псковские леса… И опять дороги, дороги, дороги… Опять шагают по дорожной пыли маленькие ноги, загрубевшие от долгой ходьбы босиком. Где-то на перепутье кончилось её детство: пионерку Пару Михеенко приняли в комсомол. В конце лета Лару перевели в 21-ю бригаду. В характеристике, данной командиром 21-й бригады капитаном Археменковым на разведчицу партизанского отряда № 3 Ларису Михеенко, говорится, что она участвовала в подрыве поездов на станции Железница, что за операцию по разведке и взрыву железнодорожного моста через реку Дрисса, так называемого «Савкиного моста», Лариса была представлена к правительственной награде. Осенним днём вместе с новой — подругой Валей Лара пришла в деревню Игнатово. Здесь она знала дом, где можно было отдохнуть с дороги. Сюда же зашли два вооружённых автоматами партизана — Николай и Геннадий. Хозяйка всех пригласила за стол. — Встретим наступающий праздник. Ведь сегодня четвёртое ноября. Парни, улыбаясь, ответили, что надеются встретить праздник вместе с Советской Армией на освобождённой от врага земле. — Наши войска уже близко, — сказал Геннадий. — Понятно, мы, мужчины, пойдём до Берлина, а вы, девчата, вернётесь домой. — Домой! — как эхо, повторила Лара и, смутившись, отвернулась к окну. Ещё раньше её хотели отправить на Большую землю на самолёте, но она не соглашалась; пока самолёт не улетел, пряталась в лесу. Но теперь, когда партизаны соединяются с Советской Армией, она согласна. Сперва в Печенево за бабушкой, а потом вместе с бабушкой в Ленинград! Она увидит маму, друзей, увидит родной, бесконечно любимый город и скажет ему: «Ленинград, я тоже тебя защищала! А сейчас я вернулась домой!» Она снова будет учиться. Как хорошо!
Но за окном на улице мелькнули солдатские каски.
— Немцы! — крикнула девочка.
Загремели выстрелы. Во время перестрелки оба партизана были убиты. Лара из автомата стреляла по фашистам из окна. А когда кончились патроны, она попросила Валю:
— У тебя естьграната. Дай её мне.
Едва Лара успела спрятать гранату под курткой, как немцы ворвались в избу. Хозяйка пыталась спасти девочек, говорила, что это её дочки, что они не виноваты: стреляли парни, которых она пустила в дом, потому что они ей самой угрожали оружием.
Но с немцами был предатель.
— Партизанка, — сказал он, показывая на Пару.
Её повели обыскивать в другую избу. Там никого не было, кроме лежавшей на печи старухи.
«Надо бросить гранату так, чтоб не убило бабушку, а только их и меня», — подумала Лара и отошла в угол к окну.
— Ну, показывай, что у тебя в карманах! — приказал девочке немецкий офицер.
— Гляди! — размахнувшись, девочка швырнула гранату.
Но… граната не взорвалась.
Фашисты расстреляли партизанку Лару.
Она снова будет учиться. Как хорошо!
Но за окном на улице мелькнули солдатские каски.
— Немцы! — крикнула девочка.
Загремели выстрелы. Во время перестрелки оба партизана были убиты. Лара из автомата стреляла по фашистам из окна. А когда кончились патроны, она попросила Валю:
— У тебя естьграната. Дай её мне.
Едва Лара успела спрятать гранату под курткой, как немцы ворвались в избу. Хозяйка пыталась спасти девочек, говорила, что это её дочки, что они не виноваты: стреляли парни, которых она пустила в дом, потому что они ей самой угрожали оружием.
Но с немцами был предатель.
— Партизанка, — сказал он, показывая на Пару.
Её повели обыскивать в другую избу. Там никого не было, кроме лежавшей на печи старухи.
«Надо бросить гранату так, чтоб не убило бабушку, а только их и меня», — подумала Лара и отошла в угол к окну.
— Ну, показывай, что у тебя в карманах! — приказал девочке немецкий офицер.
— Гляди! — размахнувшись, девочка швырнула гранату.
Но… граната не взорвалась.
Фашисты расстреляли партизанку Лару.
* * *
Сейчас на месте её расстрела, на окраине Пустошки, поставлен обелиск. А в городе на Неве в музее Обороны Ленинграда хранится орден «Отечественной войны I степени», которым Советское правительство наградило посмертно Ларису Михеенко за мужество и отвагу. Её имя присвоено кораблю. В Ленинграде, в Москве, на Урале, в Сибире, на Кавказе — по всей стране пылают знамёна пионерских дружин имени Лары Михеенко. Девочка с отважным сердцем будет жить в зареве пионерских знамён, в песнях, которые поют про неё ребята, в юных горячих и смелых сердцах. Сотни ребят хотят быть похожими на Лару.ЛЕНЯ ГОЛИКОВ Корольков Юрий Михайлович
 Не далеко от озера, на крутом берегу реки Полы, стоит деревня Лукино, в которой жил плотовщик Голиков с женой и тремя детьми. Каждый год ранней весной дядя Саша уходил на сплав, перегонял по рекам большие плоты, связанные из брёвен, и только осенью возвращался в свою деревню.
А дома с ребятишками — двумя дочками и младшим сыном Лёнькой— оставалась мать Екатерина Алексеевна. С утра и до вечера занималась она хозяйством или работала в колхозе. И детей своих приучала она к труду, ребята во всём помогали матери. Лёнька носил из колодца воду, ухаживал за коровой, овцами. Он умел поправить забор, починить себе валенки.
В школу ребята ходили за реку в соседнее село, а в свободное время любили слушать сказки. Мать знала их много и рассказывать было мастерица.
Ленька был невысокого роста, куда меньше своих однолеток-товарищей, но в силе и ловкости редко кто мог с ним сравниться.
Прыгнуть ли со всего разбега через ручей, зайти в глушь леса, забраться ли на самое высокое дерево или переплыть речку — во всех этих делах Лёнька мало кому уступал.
Так и жил Лёнька на приволье среди лесов, и всё милее становились ему родные края. Жил счастливо и думал, что всегда будет такой его привольная жизнь. Но вот однажды, когда Лёнька был уже пионером, в семье Голиковых случилось несчастье. Отец провалился в холодную воду, простудился и тяжело заболел. Он пролежал в постели много месяцев, а когда встал, не мог уже работать плотовщиком. Позвал он Лёньку, посадил перед собой и сказал:
— Вот что, Леонид, надо тебе семье помогать. Плох я стал, болезнь совсем замучила, иди на работу…
И отец устроил его учеником на подъёмном кране, который грузил на реке дрова, брёвна. Грузили их на речные баржи, отправляли куда-то за озеро Ильмень. Лёньке всё было здесь интересно: и паровая машина, в которой гудел огонь, а пар вырывался большими белыми облаками, и могучий кран, поднимавший, как пёрышки, тяжёлые брёвна. Но недолго Лёньке пришлось работать.
Не далеко от озера, на крутом берегу реки Полы, стоит деревня Лукино, в которой жил плотовщик Голиков с женой и тремя детьми. Каждый год ранней весной дядя Саша уходил на сплав, перегонял по рекам большие плоты, связанные из брёвен, и только осенью возвращался в свою деревню.
А дома с ребятишками — двумя дочками и младшим сыном Лёнькой— оставалась мать Екатерина Алексеевна. С утра и до вечера занималась она хозяйством или работала в колхозе. И детей своих приучала она к труду, ребята во всём помогали матери. Лёнька носил из колодца воду, ухаживал за коровой, овцами. Он умел поправить забор, починить себе валенки.
В школу ребята ходили за реку в соседнее село, а в свободное время любили слушать сказки. Мать знала их много и рассказывать было мастерица.
Ленька был невысокого роста, куда меньше своих однолеток-товарищей, но в силе и ловкости редко кто мог с ним сравниться.
Прыгнуть ли со всего разбега через ручей, зайти в глушь леса, забраться ли на самое высокое дерево или переплыть речку — во всех этих делах Лёнька мало кому уступал.
Так и жил Лёнька на приволье среди лесов, и всё милее становились ему родные края. Жил счастливо и думал, что всегда будет такой его привольная жизнь. Но вот однажды, когда Лёнька был уже пионером, в семье Голиковых случилось несчастье. Отец провалился в холодную воду, простудился и тяжело заболел. Он пролежал в постели много месяцев, а когда встал, не мог уже работать плотовщиком. Позвал он Лёньку, посадил перед собой и сказал:
— Вот что, Леонид, надо тебе семье помогать. Плох я стал, болезнь совсем замучила, иди на работу…
И отец устроил его учеником на подъёмном кране, который грузил на реке дрова, брёвна. Грузили их на речные баржи, отправляли куда-то за озеро Ильмень. Лёньке всё было здесь интересно: и паровая машина, в которой гудел огонь, а пар вырывался большими белыми облаками, и могучий кран, поднимавший, как пёрышки, тяжёлые брёвна. Но недолго Лёньке пришлось работать.
 Было воскресенье, тёплый и солнечный день. Все отдыхали, и Лёнька тоже пошёл с товарищами на речку. Возле парома, перевозившего на другой берег людей, грузовики и повозки, ребята услышали, как шофёр грузовой машины, только что подъехавшей к реке, тревожно спросил:
— Про войну слыхали?
— Про какую войну?
— Гитлер на нас напал. Сейчас я сам по радио слышал. Фашисты бомбят наши города.
Мальчики видели, как у всех помрачнели лица. Ребята почувствовали, что произошло что-то страшное. Плакали женщины, вокруг шофёра собиралось всё больше людей, и все повторяли: война, война.
У Лёньки где-то в старом учебнике была карта. Он вспомнил: книжка лежит на чердаке, и ребята отправились к Голиковым. Здесь же, на чердаке, склонились над картой и увидели, что фашистская Германия расположена далеко от озера Ильмень. Ребята немного поуспокоились.
На другой день почти все мужчины ушли в армию. В деревне остались только женщины, старики, дети.
Мальчикам теперь было не до игр. Они всё время проводили на поле, заменяли взрослых.
Прошло уже несколько недель, как началась война. В жаркий августовский день ребята возили с поля снопы, разговаривали о войне.
— Гитлер-то к Старой Руссе подходит, — сказал белоголовый Только, укладывая на возу снопы. — Бойцы ехали, говорили, от Руссы до нас всего ничего.
— Ну, здесь-то ему не быть. — уверенно ответил Лёнька.
— А если придут, что ты сделаешь? — спросил самый младший из ребят, Валька, по прозвищу Ягодой.
— Что-нибудь сделаю. — неопределённо ответил Лёнька.
Мальчики увязали снопы на возу и двинулись к деревне…
Но получилось, что маленький Валька оказался прав. Фашистские войска подходили всё ближе к деревне, где жил Лёнька. Не сегодня-завтра они могли захватить Лукино. Жители деревни раздумывали, как им быть, и решили всей деревней уйти в лес, в самые глухие места, где фашисты не смогут их найти. Так и сделали.
В лесу было много работы. На первое время строили шалаши, но кое-кто уже вырыл землянки. Лёнька с отцом тоже копали землянку.
Как только у Лёньки высвободилось время, он решил побывать в деревне. Как там?
Лёнька забежал за ребятами, и они втроём пошли в Лукино. Стрельба то затихала, то начиналась снова. Решили, что каждый пойдёт своей дорогой, а на огородах, перед деревней, встретятся.
Крадучись, прислушиваясь к малейшему шороху, Лёнька благополучно дошёл до речки. Тропинкой поднялся к своему дому и осторожно выглянул из-за бугра. Деревня была пустая. Солнце било в глаза, и Лёнька приложил ладонь к козырьку кепки. Кругом ни единого человека. Но что это? За деревней на дороге появились солдаты.
Ленька сразу увидел, что солдаты не наши.
«Немцы! — решил он. — Вот попал!»
Солдаты стояли на опушке леса и смотрели на Лукино.
«Вот попал! — снова подумал Лёнька. — Зря я от ребят отбился.
Надо бежать!..» В голове его созрел план: пока фашисты будут идти дорогой, он спустится обратно к реке и вдоль ручья уйдёт в лес. Иначе…
Лёньке даже страшно было представить, что будет иначе…
Лёнька сделал несколько шагов, и вдруг немую тишину осеннего дня прорезала дробь пулемёта. Он взглянул на дорогу. Фашисты бежали к лесу, на земле осталось несколько убитых. Лёнька никак не мог понять, откуда же это стреляет наш пулемётчик. И тут же увидел его.
Он стрелял из неглубокой ямы. Немцы тоже открыли стрельбу.
Лёнька незаметно подошёл к пулемётчику сзади и смотрел на его стоптанные каблуки, на спину, потемневшую от пота.
— А здорово вы их! — сказал Лёнька, когда солдат стал перезаряжать пулемёт.
Пулемётчик вздрогнул и оглянулся.
— А чтоб тебя! — воскликнул он, увидев перед собой мальчугана.
— Тебе что здесь надо?
— Здешний я… Деревню свою хотел поглядеть.
Пулемётчик снова выпустил очередь и повернулся к Лёньке.
— А зовут тебя как?
— Лёнька… Дядь, может, вам помочь чем?
— Ишь ты, какой шустрый. Что ж, помоги. Водички бы принёс, во рту всё пересохло.
— А чем?
Было воскресенье, тёплый и солнечный день. Все отдыхали, и Лёнька тоже пошёл с товарищами на речку. Возле парома, перевозившего на другой берег людей, грузовики и повозки, ребята услышали, как шофёр грузовой машины, только что подъехавшей к реке, тревожно спросил:
— Про войну слыхали?
— Про какую войну?
— Гитлер на нас напал. Сейчас я сам по радио слышал. Фашисты бомбят наши города.
Мальчики видели, как у всех помрачнели лица. Ребята почувствовали, что произошло что-то страшное. Плакали женщины, вокруг шофёра собиралось всё больше людей, и все повторяли: война, война.
У Лёньки где-то в старом учебнике была карта. Он вспомнил: книжка лежит на чердаке, и ребята отправились к Голиковым. Здесь же, на чердаке, склонились над картой и увидели, что фашистская Германия расположена далеко от озера Ильмень. Ребята немного поуспокоились.
На другой день почти все мужчины ушли в армию. В деревне остались только женщины, старики, дети.
Мальчикам теперь было не до игр. Они всё время проводили на поле, заменяли взрослых.
Прошло уже несколько недель, как началась война. В жаркий августовский день ребята возили с поля снопы, разговаривали о войне.
— Гитлер-то к Старой Руссе подходит, — сказал белоголовый Только, укладывая на возу снопы. — Бойцы ехали, говорили, от Руссы до нас всего ничего.
— Ну, здесь-то ему не быть. — уверенно ответил Лёнька.
— А если придут, что ты сделаешь? — спросил самый младший из ребят, Валька, по прозвищу Ягодой.
— Что-нибудь сделаю. — неопределённо ответил Лёнька.
Мальчики увязали снопы на возу и двинулись к деревне…
Но получилось, что маленький Валька оказался прав. Фашистские войска подходили всё ближе к деревне, где жил Лёнька. Не сегодня-завтра они могли захватить Лукино. Жители деревни раздумывали, как им быть, и решили всей деревней уйти в лес, в самые глухие места, где фашисты не смогут их найти. Так и сделали.
В лесу было много работы. На первое время строили шалаши, но кое-кто уже вырыл землянки. Лёнька с отцом тоже копали землянку.
Как только у Лёньки высвободилось время, он решил побывать в деревне. Как там?
Лёнька забежал за ребятами, и они втроём пошли в Лукино. Стрельба то затихала, то начиналась снова. Решили, что каждый пойдёт своей дорогой, а на огородах, перед деревней, встретятся.
Крадучись, прислушиваясь к малейшему шороху, Лёнька благополучно дошёл до речки. Тропинкой поднялся к своему дому и осторожно выглянул из-за бугра. Деревня была пустая. Солнце било в глаза, и Лёнька приложил ладонь к козырьку кепки. Кругом ни единого человека. Но что это? За деревней на дороге появились солдаты.
Ленька сразу увидел, что солдаты не наши.
«Немцы! — решил он. — Вот попал!»
Солдаты стояли на опушке леса и смотрели на Лукино.
«Вот попал! — снова подумал Лёнька. — Зря я от ребят отбился.
Надо бежать!..» В голове его созрел план: пока фашисты будут идти дорогой, он спустится обратно к реке и вдоль ручья уйдёт в лес. Иначе…
Лёньке даже страшно было представить, что будет иначе…
Лёнька сделал несколько шагов, и вдруг немую тишину осеннего дня прорезала дробь пулемёта. Он взглянул на дорогу. Фашисты бежали к лесу, на земле осталось несколько убитых. Лёнька никак не мог понять, откуда же это стреляет наш пулемётчик. И тут же увидел его.
Он стрелял из неглубокой ямы. Немцы тоже открыли стрельбу.
Лёнька незаметно подошёл к пулемётчику сзади и смотрел на его стоптанные каблуки, на спину, потемневшую от пота.
— А здорово вы их! — сказал Лёнька, когда солдат стал перезаряжать пулемёт.
Пулемётчик вздрогнул и оглянулся.
— А чтоб тебя! — воскликнул он, увидев перед собой мальчугана.
— Тебе что здесь надо?
— Здешний я… Деревню свою хотел поглядеть.
Пулемётчик снова выпустил очередь и повернулся к Лёньке.
— А зовут тебя как?
— Лёнька… Дядь, может, вам помочь чем?
— Ишь ты, какой шустрый. Что ж, помоги. Водички бы принёс, во рту всё пересохло.
— А чем?
 — Чем, чем? Кепкой хоть зачерпни…
Лёнька спустился к реке, погрузил кепку в прохладную воду. Пока он добежал до пулемётчика, в кепке осталось совсем немного воды.
Солдат жадно приник к Лёнькиной кепке…
— Тащи ещё, — сказал он.
Со стороны леса по берегу стали бить из миномёта.
— Ну, теперь отходить надо, — сказал пулемётчик. — Приказано было деревню держать до полудня, а теперь скоро уже вечер. Деревня-то как называется?
— Лукино…
— Лукино? Хоть знать буду, где бой держали. А это что — кровь?
Где ж тебя зацепило? Дай перевяжу.
Лёнька и сам только сейчас заметил, что нога его была в крови.
Видно, и вправду зацепило пулей.
Солдат разорвал рубаху и забинтовал Лёнькину ногу.
— Вот так… А теперь пошли. — Солдат взвалил пулемёт на плечи. — Ещё у меня к тебе дело есть, Леонид, — сказал пулемётчик. — Товарища моего фашисты убили. Утром ещё. Так ты схорони его.
Вон там под кустами лежит. Звали его Олегом…
Когда Лёнька встретился с ребятами, он рассказал им обо всём, что произошло. Решили той же ночью похоронить убитого.
В лесу сгустились сумерки, солнце уже село, когда ребята подошли к ручью. Крадучись, вышли на опушку и скрылись в кустах. Лёнька шёл первым, указывая дорогу. Убитый лежал на траве. Рядом — его пулемёт, валялись диски с патронами.
Вскоре на этом месте вырос холмик. Ребята стояли молча. Босыми ногами они ощущали свежесть вырытой земли. Кто-то всхлипнул, не выдержали и остальные. Тая свои слёзы друг от друга, ребята ещё ниже склонили головы.
Из деревни доносились голоса, рокот моторов. Фашисты заняли Лукино.
Ребята взвалили на плечи ручной пулемёт и исчезли в темноте леса.
Лёнька надел на голову пилотку Олега, которую подобрал на земле.
Ранним утром ребята пошли делать тайник. Делали его по всем правилам. Сначала расстелили рогожу и на неё бросали землю, чтобы не оставлять следов. На месте тайника накидали сухих веток, и Лёнька сказал:
— Теперь чтобы никому ни единого слова. Как военная тайна.
— Надо бы клятву дать, чтобы крепче было.
Все согласились. Ребята подняли руки и дали торжественное обещание хранить тайну. Теперь у них было оружие. Теперь они могли бороться с врагами.
Время шло. Как ни таились жители деревни, ушедшие в лес, фашисты всё же узнали, где они находятся. Однажды, возвращаясь в лесной лагерь, мальчики ещё издали услышали, что из леса доносятся неясные крики, чей-то грубый смех, громкий плач женщин.
Среди землянок с хозяйским видом расхаживали гитлеровские солдаты. Из заплечных мешков у них торчали разные вещи, которые они успели награбить. Два немца прошли мимо Лёньки, потом один из них оглянулся, вернулся и, топая ногами, стал что-то кричать, указывая на Лёнькину пилотку и на его грудь, где был приколот пионерский значок. Второй немец был переводчиком. Он сказал:
— Господин ефрейтор велел тебя повесить, если ты не выбросишь эту шапку и ещё значок.
Не успел Лёнька опомниться, как пионерский значок очутился в руках долговязого ефрейтора. Он бросил значок на землю и раздавил его каблуком. Потом сорвал с Лёньки пилотку, больно хлестнул его по щекам, швырнул пилотку на землю и принялся её топтать, стараясь раздавить звёздочку.
— В другой раз повесим тебя, — сказал переводчик.
Немцы пошли, унося награбленные вещи.
Тяжело было на душе у Лёньки. Нет, не пилотку со звёздочкой, не пионерский значок растоптал этот долговязый фашист, Лёньке казалось, будто гитлеровец наступил ему на грудь своим каблуком и давит так, что невозможно вздохнуть. Лёнька ушёл в землянку, лёг на нары и пролежал до вечера.
В лесу с каждым днём становилось всё неприютнее и холоднее.
Усталая, замёрзшая, пришла как-то вечером мать. Она рассказала, что её остановил немец и велел идти в деревню. Там, в хате, он вытащил из-под лавки ворох грязного белья и приказал постирать на реке.
Вода ледяная, руки стынут, пальцы нельзя разогнуть…
— Не знаю, как уж и достирала, — тихо говорила мать. — Сил моих не было. А немец мне за эту стирку ломтик хлеба дал, расщедрился.
Лёнька вскочил с лавки, глаза у него горели.
— Брось ты этот хлеб, мама!.. Помру с голода, крошки ихней в рот не возьму. Не могу я так больше. Бить их надо! Вот уйду в партизаны…
Отец строго посмотрел на Лёньку:
— Ты чего удумал, куда собрался? Мал ты ещё! Терпеть надо, мы теперь пленные.
— А я не буду терпеть, не могу! — Лёнька вышел из землянки и, не разбирая дороги, пошёл в темноту леса.
А Екатерина Алексеевна, мать Лёньки, сильно простудилась после той стирки в ледяной воде. Два дня она терпела, на третий сказала Лёньке: «Лёнюшка, сходим в Лукино, погреемся в нашей избе, может, мне лучше станет. Одной-то мне боязно».
И Лёнька пошёл проводить мать.
Вскоре немцы выгнали жителей из леса. Пришлось им снова вернуться в деревню. Жили теперь тесно, по нескольку семей в одной избе.
Наступила зима, говорили, что в лесах появились партизаны, но Лёнька и его товарищи ни разу их не видели.
Однажды прибежал Только и, отозвав в сторону Лёньку, шёпотом сказал:
— Я у партизан был.
— Брось ты! — не поверил Лёнька.
— Честное пионерское, не вру!
Только рассказал, что ходил в лес и встретился там с партизанами.
Они расспросили, кто он, откуда. Спросили, где можно достать сена для лошадей. Только пообещал им привезти.
Через несколько дней ребята отправились выполнять партизанское задание. Рано утром на четырёх подводах они поехали на луга, где ещё с лета стояли высокие стога сена. Глухой дорогой ребята повезли сено в лес — туда, где Только сговорился встретиться с партизанами. Пионеры медленно шли за возами, то и дело оглядывались, но кругом никого не было.
Вдруг передняя лошадь остановилась. Ребята и не заметили, как неизвестно откуда появившийся человек взял её под уздцы.
— Приехали всё-таки! — весело сказал он. — Я за вами давно слежу.
Партизан заложил в рот два пальца и громко свистнул. Ему ответили таким же свистом.
— Ну, а теперь быстро! Сворачивайте в лес!
В глухом лесу горели костры, около которых сидели партизаны.
Навстречу поднялся человек в полушубке с пистолетом за поясом.
— Мы вам, ребята, другие сани дадим, — сказал он, — а ваши с сеном оставим, чтобы быстрее было.
Пока перепрягали лошадей, командир отряда расспросил ребят, что делается в деревне. Прощаясь, он сказал:
— Ну, ещё раз спасибо, а вот эти листочки возьмите с собой. Отдайте их взрослым, да глядите, чтобы фашисты не пронюхали, иначе застрелят.
На листовках партизаны призывали советских людей бороться с оккупантами, вступать в отряды, чтобы фашистам не было ни днем ни ночью покоя…
Вскоре Лёнька встретился со своим учителем Василием Григорьевичем. Он был партизаном и привёл Лёньку к себе в отряд.
Лёнька не мог прийти в себя. Он с любопытством оглядывался вокруг. Вот бы его сюда приняли. Видать, храбрый народ, весёлый.
Одно слово: партизаны!
Кто-то предложил взять его в разведку, но Ленька воспринял это сначала как шутку, а потом подумал, может, и правда возьмут… Нет, об этом и думать нечего. Скажут — мал, подрасти надо. Но всё же спросил учителя:
— Василий Григорьевич, а мне в партизаны можно?
— Тебе? — удивился учитель. — Вот уж не знаю…
— Возьмите, Василий Григорьевич, не подведу!..
— А может, и правда взять, в школе-то, помню, молодцом был…
С этого дня пионера Леню Голикова зачислили в партизанский отряд, а через неделю отряд ушёл в другие места воевать с немцами.
Вскоре в отряде появился ещё один паренек — Митяйка. Лёнька сразу подружился с Митяйкой. Они даже спали на одних нарах. Сначала ребятам не давали никаких поручений. Они только работали на кухне: пилили и кололи дрова, чистили картошку… Но как-то раз зашёл в землянку усатый партизан и сказал:
— Ну, орлы, командир вызывает, задание для вас есть.
С того дня Лёнька с Митяйкой стали ходить в разведку. Они узнавали и рассказывали командиру отряда, где расположились фашистские солдаты, где стоят их пушки, пулемёты.
Ребята, когда шли в разведку, одевались в лохмотья, брали старые сумки. Они ходили по селам, будто нищие, выпрашивали кусочки хлеба, а сами глядели во все глаза, всё примечали: сколько где солдат, сколько автомашин, пушек…
Однажды пришли они в большое село и остановились перед крайней избой.
— Подайте милостыньку на пропитание, — затянули они на разные голоса.
Из дому вышел немецкий офицер. Ребята к нему:
— Пан, дай брод… Пан…
Офицер даже не глянул на ребят.
— Вот жадный, не смотрит, — прошептал Митяйка.
— Вот и хорошо, — сказал Лёнька. — Значит, думает, что мы в самом деле нищие.
Разведка была удачной. Лёнька с Митяйкой узнали, что в село только что прибыли новые войска фашистов. Ребята даже пробрались в офицерскую столовую, где им дали поесть. Когда Лёнька доел всё, что им дали, он хитро подмигнул Митяйке — видно, что-то придумал.
Пошарив в кармане, он достал огрызок карандаша и, оглянувшись, быстро написал что-то на бумажной салфетке.
— Ты чего это, — тихо спросил Митяйка.
— Поздравление фашистам. Теперь скорей уходить надо. Читай!
На бумажном обрывке Митяйка прочитал: «Здесь обедал партизан Голиков. Трепещите, гады!»
Ребята положили свою записку под тарелку и выскользнули из столовой.
С каждым разом ребята получали всё более трудные задания.
Теперь у Лёньки был свой автомат, который он добыл в бою. Как опытного партизана его брали даже для взрыва вражеских поездов.
Подкравшись как-то ночью к железной дороге, партизаны заложили большую мину и стали ждать, когда пойдёт поезд. Ждали почти до рассвета. Наконец увидели платформы, гружённые пушками, танками; вагоны, в которых сидели фашистские солдаты. Когда паровоз подошёл к тому месту, где партизаны заложили мину, старший группы Степан скомандовал Лёньке:
— Давай!
Лёнька рванул шнур. Под паровозом взметнулся столб огня, вагоны полезли один на другой, начали рваться боеприпасы.
Когда партизаны бежали от железной дороги в сторону леса, они услышали за спиной винтовочные выстрелы.
— Погоню начали, — сказал Степан, — теперь уноси ноги.
Они бежали вдвоем. До леса оставалось совсем немного. Вдруг Степан вскрикнул.
— Ранили меня, теперь не уйти… Беги один.
— Уйдём, Степан, — уговаривал его Лёнька, — в лесу не найдут нас. Ты обопрись на меня, пойдём…
Степан с трудом пошёл вперёд. Выстрелы стихли. Степан почти падал, и Лёнька с трудом тащил его на себе.
— Нет, больше не могу, — сказал раненый Степан и опустился на землю.
Лёнька перевязал его и снова повёл раненого. Степану становилось всё хуже, он уже терял сознание и не мог двигаться дальше. Выбиваясь из сил, Лёнька потащил Степана к лагерю…
За спасение раненого товарища Лёню Голикова наградили медалью «За боевые заслуги».
Но самое необычайное произошло с Лёнькой 13 августа 1942 года.
Накануне вечером разведчики-партизаны ушли на задание — к шоссейной дороге километров за пятнадцать от лагеря. Всю ночь пролежали они у дороги. Машины не ходили, дорога была пустынной. Что делать? Командир группы приказал отходить. Партизаны отошли к опушке леса. Лёнька немного от них приотстал. Он собрался догонять своих, но, оглянувшись на дорогу, увидел, что по шоссе приближается легковая машина.
Он бросился вперёд и залёг у моста за кучей камней.
Машина подошла к мостику, притормозила, и Лёнька, размахнувшись, бросил в неё гранату. Грохнул взрыв. Лёнька увидел, как из автомобиля выскочил гитлеровец в белом кителе с красным портфелем и автоматом.
Лёнька выстрелил, но не попал. Фашист убегал. Лёнька погнался за ним. Офицер оглянулся и увидел, что за ним бежит какой-то мальчишка. Совсем маленький. Если бы их поставить рядом, мальчишка едва бы достал ему до пояса. Офицер остановился и выстрелил. Мальчишка упал. Фашист побежал дальше.
Но Лёнька не был ранен. Он быстро отполз в сторону и сделал несколько выстрелов. Офицер убегал…
Уже целый километр гнался Лёнька. А гитлеровец, отстреливаясь, приближался к лесу. Он на ходу сбросил белый китель и остался в тёмной сорочке. Целиться в него стало труднее.
Лёнька начал отставать. Сейчас фашист скроется в лесу, тогда всё пропало. В автомате оставалось лишь несколько патронов. Тогда Лёнька сбросил тяжёлые сапоги и побежал босиком, не пригибаясь под пулями, которыми посылал в него враг.
В диске автомата оставался последний патрон, и этим последним выстрелом Лёнька поразил врага. Он взял его автомат, портфель и, тяжело дыша, пошёл назад. По дороге он подобрал брошенный фашистом белый китель и только тогда разглядел на нём генеральские витые погоны.
— Эге!.. А птица-то, оказывается, важная, — сказал он вслух.
Лёнька напялил на себя генеральский китель, застегнул его на все пуговицы, засучил рукава, свисавшие ниже колен, поверх пилотки нахлобучил фуражку с золотыми разводами, которую нашёл в разбитой машине, и побежал догонять товарищей…
Учитель Василий Григорьевич уже беспокоился, хотел посылать группу на поиски Лёньки, когда тот вдруг неожиданно появился около костра. Лёнька вышел на свет костра в белом генеральском кителе с золотыми погонами. На шее у него висели два автомата — свой и трофейный. Под мышкой он держал красный портфель. Вид у Лёньки был такой уморительный, что грянул громкий хохот.
— А это что у тебя? — спросил учитель, указывая на портфель.
— Немецкие документы, у генерала взял, — ответил Лёнька.
Учитель взял документы и пошёл с ними к начальнику штаба отряда.
Туда же срочно вызвали переводчика, потом радиста. Бумаги сказались очень важные. Потом Василий Григорьевич вышел из штабной землянки и подозвал Лёньку.
— Ну, молодец, — сказал он. — Такие документы и опытные разведчики раз в сто лет добывают. Сейчас про них в Москву сообщать будут.
Через некоторое время из Москвы пришла радиограмма, в ней говорилось, что надо представить к самой высшей награде всех, кто захватил такие важные документы. В Москве, конечно, не знали, что захватил их один Лёня Голиков, которому было всего четырнадцать лет.
Так пионер Лёня Голиков стал героем Советского Союза.
— Чем, чем? Кепкой хоть зачерпни…
Лёнька спустился к реке, погрузил кепку в прохладную воду. Пока он добежал до пулемётчика, в кепке осталось совсем немного воды.
Солдат жадно приник к Лёнькиной кепке…
— Тащи ещё, — сказал он.
Со стороны леса по берегу стали бить из миномёта.
— Ну, теперь отходить надо, — сказал пулемётчик. — Приказано было деревню держать до полудня, а теперь скоро уже вечер. Деревня-то как называется?
— Лукино…
— Лукино? Хоть знать буду, где бой держали. А это что — кровь?
Где ж тебя зацепило? Дай перевяжу.
Лёнька и сам только сейчас заметил, что нога его была в крови.
Видно, и вправду зацепило пулей.
Солдат разорвал рубаху и забинтовал Лёнькину ногу.
— Вот так… А теперь пошли. — Солдат взвалил пулемёт на плечи. — Ещё у меня к тебе дело есть, Леонид, — сказал пулемётчик. — Товарища моего фашисты убили. Утром ещё. Так ты схорони его.
Вон там под кустами лежит. Звали его Олегом…
Когда Лёнька встретился с ребятами, он рассказал им обо всём, что произошло. Решили той же ночью похоронить убитого.
В лесу сгустились сумерки, солнце уже село, когда ребята подошли к ручью. Крадучись, вышли на опушку и скрылись в кустах. Лёнька шёл первым, указывая дорогу. Убитый лежал на траве. Рядом — его пулемёт, валялись диски с патронами.
Вскоре на этом месте вырос холмик. Ребята стояли молча. Босыми ногами они ощущали свежесть вырытой земли. Кто-то всхлипнул, не выдержали и остальные. Тая свои слёзы друг от друга, ребята ещё ниже склонили головы.
Из деревни доносились голоса, рокот моторов. Фашисты заняли Лукино.
Ребята взвалили на плечи ручной пулемёт и исчезли в темноте леса.
Лёнька надел на голову пилотку Олега, которую подобрал на земле.
Ранним утром ребята пошли делать тайник. Делали его по всем правилам. Сначала расстелили рогожу и на неё бросали землю, чтобы не оставлять следов. На месте тайника накидали сухих веток, и Лёнька сказал:
— Теперь чтобы никому ни единого слова. Как военная тайна.
— Надо бы клятву дать, чтобы крепче было.
Все согласились. Ребята подняли руки и дали торжественное обещание хранить тайну. Теперь у них было оружие. Теперь они могли бороться с врагами.
Время шло. Как ни таились жители деревни, ушедшие в лес, фашисты всё же узнали, где они находятся. Однажды, возвращаясь в лесной лагерь, мальчики ещё издали услышали, что из леса доносятся неясные крики, чей-то грубый смех, громкий плач женщин.
Среди землянок с хозяйским видом расхаживали гитлеровские солдаты. Из заплечных мешков у них торчали разные вещи, которые они успели награбить. Два немца прошли мимо Лёньки, потом один из них оглянулся, вернулся и, топая ногами, стал что-то кричать, указывая на Лёнькину пилотку и на его грудь, где был приколот пионерский значок. Второй немец был переводчиком. Он сказал:
— Господин ефрейтор велел тебя повесить, если ты не выбросишь эту шапку и ещё значок.
Не успел Лёнька опомниться, как пионерский значок очутился в руках долговязого ефрейтора. Он бросил значок на землю и раздавил его каблуком. Потом сорвал с Лёньки пилотку, больно хлестнул его по щекам, швырнул пилотку на землю и принялся её топтать, стараясь раздавить звёздочку.
— В другой раз повесим тебя, — сказал переводчик.
Немцы пошли, унося награбленные вещи.
Тяжело было на душе у Лёньки. Нет, не пилотку со звёздочкой, не пионерский значок растоптал этот долговязый фашист, Лёньке казалось, будто гитлеровец наступил ему на грудь своим каблуком и давит так, что невозможно вздохнуть. Лёнька ушёл в землянку, лёг на нары и пролежал до вечера.
В лесу с каждым днём становилось всё неприютнее и холоднее.
Усталая, замёрзшая, пришла как-то вечером мать. Она рассказала, что её остановил немец и велел идти в деревню. Там, в хате, он вытащил из-под лавки ворох грязного белья и приказал постирать на реке.
Вода ледяная, руки стынут, пальцы нельзя разогнуть…
— Не знаю, как уж и достирала, — тихо говорила мать. — Сил моих не было. А немец мне за эту стирку ломтик хлеба дал, расщедрился.
Лёнька вскочил с лавки, глаза у него горели.
— Брось ты этот хлеб, мама!.. Помру с голода, крошки ихней в рот не возьму. Не могу я так больше. Бить их надо! Вот уйду в партизаны…
Отец строго посмотрел на Лёньку:
— Ты чего удумал, куда собрался? Мал ты ещё! Терпеть надо, мы теперь пленные.
— А я не буду терпеть, не могу! — Лёнька вышел из землянки и, не разбирая дороги, пошёл в темноту леса.
А Екатерина Алексеевна, мать Лёньки, сильно простудилась после той стирки в ледяной воде. Два дня она терпела, на третий сказала Лёньке: «Лёнюшка, сходим в Лукино, погреемся в нашей избе, может, мне лучше станет. Одной-то мне боязно».
И Лёнька пошёл проводить мать.
Вскоре немцы выгнали жителей из леса. Пришлось им снова вернуться в деревню. Жили теперь тесно, по нескольку семей в одной избе.
Наступила зима, говорили, что в лесах появились партизаны, но Лёнька и его товарищи ни разу их не видели.
Однажды прибежал Только и, отозвав в сторону Лёньку, шёпотом сказал:
— Я у партизан был.
— Брось ты! — не поверил Лёнька.
— Честное пионерское, не вру!
Только рассказал, что ходил в лес и встретился там с партизанами.
Они расспросили, кто он, откуда. Спросили, где можно достать сена для лошадей. Только пообещал им привезти.
Через несколько дней ребята отправились выполнять партизанское задание. Рано утром на четырёх подводах они поехали на луга, где ещё с лета стояли высокие стога сена. Глухой дорогой ребята повезли сено в лес — туда, где Только сговорился встретиться с партизанами. Пионеры медленно шли за возами, то и дело оглядывались, но кругом никого не было.
Вдруг передняя лошадь остановилась. Ребята и не заметили, как неизвестно откуда появившийся человек взял её под уздцы.
— Приехали всё-таки! — весело сказал он. — Я за вами давно слежу.
Партизан заложил в рот два пальца и громко свистнул. Ему ответили таким же свистом.
— Ну, а теперь быстро! Сворачивайте в лес!
В глухом лесу горели костры, около которых сидели партизаны.
Навстречу поднялся человек в полушубке с пистолетом за поясом.
— Мы вам, ребята, другие сани дадим, — сказал он, — а ваши с сеном оставим, чтобы быстрее было.
Пока перепрягали лошадей, командир отряда расспросил ребят, что делается в деревне. Прощаясь, он сказал:
— Ну, ещё раз спасибо, а вот эти листочки возьмите с собой. Отдайте их взрослым, да глядите, чтобы фашисты не пронюхали, иначе застрелят.
На листовках партизаны призывали советских людей бороться с оккупантами, вступать в отряды, чтобы фашистам не было ни днем ни ночью покоя…
Вскоре Лёнька встретился со своим учителем Василием Григорьевичем. Он был партизаном и привёл Лёньку к себе в отряд.
Лёнька не мог прийти в себя. Он с любопытством оглядывался вокруг. Вот бы его сюда приняли. Видать, храбрый народ, весёлый.
Одно слово: партизаны!
Кто-то предложил взять его в разведку, но Ленька воспринял это сначала как шутку, а потом подумал, может, и правда возьмут… Нет, об этом и думать нечего. Скажут — мал, подрасти надо. Но всё же спросил учителя:
— Василий Григорьевич, а мне в партизаны можно?
— Тебе? — удивился учитель. — Вот уж не знаю…
— Возьмите, Василий Григорьевич, не подведу!..
— А может, и правда взять, в школе-то, помню, молодцом был…
С этого дня пионера Леню Голикова зачислили в партизанский отряд, а через неделю отряд ушёл в другие места воевать с немцами.
Вскоре в отряде появился ещё один паренек — Митяйка. Лёнька сразу подружился с Митяйкой. Они даже спали на одних нарах. Сначала ребятам не давали никаких поручений. Они только работали на кухне: пилили и кололи дрова, чистили картошку… Но как-то раз зашёл в землянку усатый партизан и сказал:
— Ну, орлы, командир вызывает, задание для вас есть.
С того дня Лёнька с Митяйкой стали ходить в разведку. Они узнавали и рассказывали командиру отряда, где расположились фашистские солдаты, где стоят их пушки, пулемёты.
Ребята, когда шли в разведку, одевались в лохмотья, брали старые сумки. Они ходили по селам, будто нищие, выпрашивали кусочки хлеба, а сами глядели во все глаза, всё примечали: сколько где солдат, сколько автомашин, пушек…
Однажды пришли они в большое село и остановились перед крайней избой.
— Подайте милостыньку на пропитание, — затянули они на разные голоса.
Из дому вышел немецкий офицер. Ребята к нему:
— Пан, дай брод… Пан…
Офицер даже не глянул на ребят.
— Вот жадный, не смотрит, — прошептал Митяйка.
— Вот и хорошо, — сказал Лёнька. — Значит, думает, что мы в самом деле нищие.
Разведка была удачной. Лёнька с Митяйкой узнали, что в село только что прибыли новые войска фашистов. Ребята даже пробрались в офицерскую столовую, где им дали поесть. Когда Лёнька доел всё, что им дали, он хитро подмигнул Митяйке — видно, что-то придумал.
Пошарив в кармане, он достал огрызок карандаша и, оглянувшись, быстро написал что-то на бумажной салфетке.
— Ты чего это, — тихо спросил Митяйка.
— Поздравление фашистам. Теперь скорей уходить надо. Читай!
На бумажном обрывке Митяйка прочитал: «Здесь обедал партизан Голиков. Трепещите, гады!»
Ребята положили свою записку под тарелку и выскользнули из столовой.
С каждым разом ребята получали всё более трудные задания.
Теперь у Лёньки был свой автомат, который он добыл в бою. Как опытного партизана его брали даже для взрыва вражеских поездов.
Подкравшись как-то ночью к железной дороге, партизаны заложили большую мину и стали ждать, когда пойдёт поезд. Ждали почти до рассвета. Наконец увидели платформы, гружённые пушками, танками; вагоны, в которых сидели фашистские солдаты. Когда паровоз подошёл к тому месту, где партизаны заложили мину, старший группы Степан скомандовал Лёньке:
— Давай!
Лёнька рванул шнур. Под паровозом взметнулся столб огня, вагоны полезли один на другой, начали рваться боеприпасы.
Когда партизаны бежали от железной дороги в сторону леса, они услышали за спиной винтовочные выстрелы.
— Погоню начали, — сказал Степан, — теперь уноси ноги.
Они бежали вдвоем. До леса оставалось совсем немного. Вдруг Степан вскрикнул.
— Ранили меня, теперь не уйти… Беги один.
— Уйдём, Степан, — уговаривал его Лёнька, — в лесу не найдут нас. Ты обопрись на меня, пойдём…
Степан с трудом пошёл вперёд. Выстрелы стихли. Степан почти падал, и Лёнька с трудом тащил его на себе.
— Нет, больше не могу, — сказал раненый Степан и опустился на землю.
Лёнька перевязал его и снова повёл раненого. Степану становилось всё хуже, он уже терял сознание и не мог двигаться дальше. Выбиваясь из сил, Лёнька потащил Степана к лагерю…
За спасение раненого товарища Лёню Голикова наградили медалью «За боевые заслуги».
Но самое необычайное произошло с Лёнькой 13 августа 1942 года.
Накануне вечером разведчики-партизаны ушли на задание — к шоссейной дороге километров за пятнадцать от лагеря. Всю ночь пролежали они у дороги. Машины не ходили, дорога была пустынной. Что делать? Командир группы приказал отходить. Партизаны отошли к опушке леса. Лёнька немного от них приотстал. Он собрался догонять своих, но, оглянувшись на дорогу, увидел, что по шоссе приближается легковая машина.
Он бросился вперёд и залёг у моста за кучей камней.
Машина подошла к мостику, притормозила, и Лёнька, размахнувшись, бросил в неё гранату. Грохнул взрыв. Лёнька увидел, как из автомобиля выскочил гитлеровец в белом кителе с красным портфелем и автоматом.
Лёнька выстрелил, но не попал. Фашист убегал. Лёнька погнался за ним. Офицер оглянулся и увидел, что за ним бежит какой-то мальчишка. Совсем маленький. Если бы их поставить рядом, мальчишка едва бы достал ему до пояса. Офицер остановился и выстрелил. Мальчишка упал. Фашист побежал дальше.
Но Лёнька не был ранен. Он быстро отполз в сторону и сделал несколько выстрелов. Офицер убегал…
Уже целый километр гнался Лёнька. А гитлеровец, отстреливаясь, приближался к лесу. Он на ходу сбросил белый китель и остался в тёмной сорочке. Целиться в него стало труднее.
Лёнька начал отставать. Сейчас фашист скроется в лесу, тогда всё пропало. В автомате оставалось лишь несколько патронов. Тогда Лёнька сбросил тяжёлые сапоги и побежал босиком, не пригибаясь под пулями, которыми посылал в него враг.
В диске автомата оставался последний патрон, и этим последним выстрелом Лёнька поразил врага. Он взял его автомат, портфель и, тяжело дыша, пошёл назад. По дороге он подобрал брошенный фашистом белый китель и только тогда разглядел на нём генеральские витые погоны.
— Эге!.. А птица-то, оказывается, важная, — сказал он вслух.
Лёнька напялил на себя генеральский китель, застегнул его на все пуговицы, засучил рукава, свисавшие ниже колен, поверх пилотки нахлобучил фуражку с золотыми разводами, которую нашёл в разбитой машине, и побежал догонять товарищей…
Учитель Василий Григорьевич уже беспокоился, хотел посылать группу на поиски Лёньки, когда тот вдруг неожиданно появился около костра. Лёнька вышел на свет костра в белом генеральском кителе с золотыми погонами. На шее у него висели два автомата — свой и трофейный. Под мышкой он держал красный портфель. Вид у Лёньки был такой уморительный, что грянул громкий хохот.
— А это что у тебя? — спросил учитель, указывая на портфель.
— Немецкие документы, у генерала взял, — ответил Лёнька.
Учитель взял документы и пошёл с ними к начальнику штаба отряда.
Туда же срочно вызвали переводчика, потом радиста. Бумаги сказались очень важные. Потом Василий Григорьевич вышел из штабной землянки и подозвал Лёньку.
— Ну, молодец, — сказал он. — Такие документы и опытные разведчики раз в сто лет добывают. Сейчас про них в Москву сообщать будут.
Через некоторое время из Москвы пришла радиограмма, в ней говорилось, что надо представить к самой высшей награде всех, кто захватил такие важные документы. В Москве, конечно, не знали, что захватил их один Лёня Голиков, которому было всего четырнадцать лет.
Так пионер Лёня Голиков стал героем Советского Союза.
 Юный пионер-герой погиб смертью храбрых 24 января 1943 года в неравном бою под селом Острая Лука.
Юный пионер-герой погиб смертью храбрых 24 января 1943 года в неравном бою под селом Острая Лука.
* * *
На могиле Лёни Голикова, в селе Острая Лука Дедовического района, рыбаки Новгородской области поставили обелиск, а на берегу реки Полы юному герою воздвигнут памятник. В июне 1960 года Лёне Голикову открыт памятник в Москве на ВДНХ у входа в павильон «Юные натуралисты и техники». Установлен памятник юному герою и в городе Новгороде на средства пионеров за собранный ими металлолом.* * *
Имя отважного партизана Лёни Голикова занесено в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Постановлением Совета Министров РСФСР одному из кораблей Советского флота присвоено имя Лёни Голикова.
ЛЮСЯ ГЕРАСИМЕНКО Ткачёв Павел Иванович
 Она не спускала под откос вражеские эшелоны, не взрывала цистерны с горючим, не стреляла в гитлеровцев…
Она была ещё маленькой, пионеркой. Звали её Люсей Герасименко.
Но всё, что она делала, приближало день нашей победы над фашистскими захватчиками.
О ней, славной белорусской пионерке, наш рассказ.
Засыпая, Люся напомнила отцу:
— Папка, не забудь: разбуди меня пораньше. Пешком пойдём.
Я цветов соберу. Два букета — тебе и маме.
— Хорошо, хорошо. Спи! — Николай Евстафьевич поправил простыню и, поцеловав дочку, погасил свет.
Минск не спал. В открытое окно тёплый июньский ветер доносил музыку, смех, стук проходящих трамваев.
Николаю Евстафьевичу нужно было подготовить документы о проверке работы партийной организации завода им. Мясникова. В понедельник бюро райкома. Он захватил папку и пошёл на кухню. Там хозяйничала жена: завтра всей семьёй собирались побывать за городом. 22 июня — открытие Минского озера.
— Ну, у меня всё готово, — сказала Татьяна Даниловна. — А ты что, ещё работать будешь?
— Немножко посижу. Иди отдыхай… — Николай Евстафьевич раскрыл папку.
Побывать семье Герасименко на открытии озера не удалось.
Утром, когда они уже вышли из дома, их нагнал мотоциклист:
— Товарищ Герасименко! Николай Евстафьевич! Вас срочно вызывают в райком.
— Почему? — удивился Николай Евстафьевич. — Ведь сегодня воскресенье?
— Причины вызова не знаю. — Мотоциклист надвинул на глаза очки. — До свидания.
— Папка, а как же озеро? — на глазах Люси стояли слёзы.
— Я скоро, дочка, вернусь, и мы ещё успеем.
Но вернулся домой Николай Евстафьевич только поздней ночью.
Люся и Татьяна Даниловна были во дворе, где собрались почти все жильцы их дома. Люди тихо переговаривались. Всех ошеломила, придавила страшная весть: «Гитлеровская Германия напала на СССР».
И, хотя в Минске пока было спокойно, все знали: там, на границе, идут тяжёлые бои, там сражаются, погибают сыновья, мужья, братья, там умирают близкие люди.
С особым вниманием отнеслись и взрослые и дети к старушке Прасковье Николаевне. Её сын, которого все звали Петей, был командиром Красной Армии и служил в Брестской крепости, а там, как передавали по радио, шли жестокие бои. И, может, вот сейчас, когда они мирно разговаривают, Пётр Иванович подымает в атаку бойцов.
— Люся! — тихо позвал Николай Евстафьевич. — Скажи маме, что я пошёл домой.
Вскоре вся семья, не зажигая огня, ужинала на кухне. Ужинали молча. Даже Люся, любившая поговорить с отцом о том, что её волновало, притихла, как-то в один день стала не по годам серьёзной и задумчивой.
— Вот что, мать, — сказал Николай Евстафьевич, вставая из-за стола, — подготовь необходимое тебе и Люсе, и нужно эвакуироваться.
Мама чуть слышно заплакала. А Люся спросила:
— Теперь, мама, я, наверно, в лагерь не поеду?
— Разобьём фашистов, дочка, тогда пошлём тебя в самый лучший лагерь.
— В Артек?
— Конечно, в Артек. Помогай тут маме. Может, завтра машина подбросит вас за Минск. Мне пора. Ночевать буду в райкоме.
Стукнула дверь. Было слышно, как Николай Евстафьевич сходил по ступенькам. Вскоре всё стихло.
И вдруг совсем непривычным голосом заговорило радио:
— Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога!
Где-то на окраине Минска загрохотали зенитки, тёмное небо прорезали лучи прожекторов.
Люся с мамой спустились в бомбоубежище.
На следующий день радио без конца повторяло эти слова. А в воздухе над Минском наши истребители вели бои с фашистскими самолётами. Бои продолжались и ночью, и на следующий день.
Семья Герасименко не смогла эвакуироваться.
Город заняли гитлеровцы.
Наступили чёрные дни фашистской неволи. Они тянулись долго.
День казался месяцем, месяц — годом.
Минск не узнать. Многие здания разрушены, сожжены. Кругом горы битого кирпича, руины, огромные воронки от бомб, снарядов.
Город вымер, притих, но не покорился.
Взлетают на воздух цистерны с горючим.
Летят под откос вражеские эшелоны.
Раздаются выстрелы из руин.
Из лагерей убегают военнопленные.
На столбах, заборах, стенах уцелевших домов появляются листовки… Взрослые, старики и дети поднялись на борьбу с ненавистным врагом.
Уже в самом начале оккупации в Минске начал действовать подпольный горком партии. Его возглавил Исай Павлович Казинец — Победит, как звали его в народе.
Одной из подпольных групп руководил Николай Евстафьевич Герасименко.
…В тот год в сентябре стояли тёплые дни. Только что прошёл небольшой дождик и прибил пыль. Воздух стал немного чище. Николай Евстафьевич открыл окно. Потянуло свежестью и запахом от недавно потушенного пожарища. На улице показался гитлеровский патруль — солдаты с автоматами на груди. Руки на спусковых крючках. Вот повстречали они старушку. Окружили. Лезут в корзинку, а один наводит автомат и кричит:
— Пук! Пук!
Старушка испуганно крестится, а немцы, уходя, гогочут.
До Николая Евстафьевича доносится чуть шепелявый голос старушки:
— Ироды! Душегубы!
«Пора», — думает Николай Евстафьевич и зовёт Люсю:
— Дочка! В добрый час! Ничего не забыла?
— Нет, папка!
Она не спускала под откос вражеские эшелоны, не взрывала цистерны с горючим, не стреляла в гитлеровцев…
Она была ещё маленькой, пионеркой. Звали её Люсей Герасименко.
Но всё, что она делала, приближало день нашей победы над фашистскими захватчиками.
О ней, славной белорусской пионерке, наш рассказ.
Засыпая, Люся напомнила отцу:
— Папка, не забудь: разбуди меня пораньше. Пешком пойдём.
Я цветов соберу. Два букета — тебе и маме.
— Хорошо, хорошо. Спи! — Николай Евстафьевич поправил простыню и, поцеловав дочку, погасил свет.
Минск не спал. В открытое окно тёплый июньский ветер доносил музыку, смех, стук проходящих трамваев.
Николаю Евстафьевичу нужно было подготовить документы о проверке работы партийной организации завода им. Мясникова. В понедельник бюро райкома. Он захватил папку и пошёл на кухню. Там хозяйничала жена: завтра всей семьёй собирались побывать за городом. 22 июня — открытие Минского озера.
— Ну, у меня всё готово, — сказала Татьяна Даниловна. — А ты что, ещё работать будешь?
— Немножко посижу. Иди отдыхай… — Николай Евстафьевич раскрыл папку.
Побывать семье Герасименко на открытии озера не удалось.
Утром, когда они уже вышли из дома, их нагнал мотоциклист:
— Товарищ Герасименко! Николай Евстафьевич! Вас срочно вызывают в райком.
— Почему? — удивился Николай Евстафьевич. — Ведь сегодня воскресенье?
— Причины вызова не знаю. — Мотоциклист надвинул на глаза очки. — До свидания.
— Папка, а как же озеро? — на глазах Люси стояли слёзы.
— Я скоро, дочка, вернусь, и мы ещё успеем.
Но вернулся домой Николай Евстафьевич только поздней ночью.
Люся и Татьяна Даниловна были во дворе, где собрались почти все жильцы их дома. Люди тихо переговаривались. Всех ошеломила, придавила страшная весть: «Гитлеровская Германия напала на СССР».
И, хотя в Минске пока было спокойно, все знали: там, на границе, идут тяжёлые бои, там сражаются, погибают сыновья, мужья, братья, там умирают близкие люди.
С особым вниманием отнеслись и взрослые и дети к старушке Прасковье Николаевне. Её сын, которого все звали Петей, был командиром Красной Армии и служил в Брестской крепости, а там, как передавали по радио, шли жестокие бои. И, может, вот сейчас, когда они мирно разговаривают, Пётр Иванович подымает в атаку бойцов.
— Люся! — тихо позвал Николай Евстафьевич. — Скажи маме, что я пошёл домой.
Вскоре вся семья, не зажигая огня, ужинала на кухне. Ужинали молча. Даже Люся, любившая поговорить с отцом о том, что её волновало, притихла, как-то в один день стала не по годам серьёзной и задумчивой.
— Вот что, мать, — сказал Николай Евстафьевич, вставая из-за стола, — подготовь необходимое тебе и Люсе, и нужно эвакуироваться.
Мама чуть слышно заплакала. А Люся спросила:
— Теперь, мама, я, наверно, в лагерь не поеду?
— Разобьём фашистов, дочка, тогда пошлём тебя в самый лучший лагерь.
— В Артек?
— Конечно, в Артек. Помогай тут маме. Может, завтра машина подбросит вас за Минск. Мне пора. Ночевать буду в райкоме.
Стукнула дверь. Было слышно, как Николай Евстафьевич сходил по ступенькам. Вскоре всё стихло.
И вдруг совсем непривычным голосом заговорило радио:
— Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога!
Где-то на окраине Минска загрохотали зенитки, тёмное небо прорезали лучи прожекторов.
Люся с мамой спустились в бомбоубежище.
На следующий день радио без конца повторяло эти слова. А в воздухе над Минском наши истребители вели бои с фашистскими самолётами. Бои продолжались и ночью, и на следующий день.
Семья Герасименко не смогла эвакуироваться.
Город заняли гитлеровцы.
Наступили чёрные дни фашистской неволи. Они тянулись долго.
День казался месяцем, месяц — годом.
Минск не узнать. Многие здания разрушены, сожжены. Кругом горы битого кирпича, руины, огромные воронки от бомб, снарядов.
Город вымер, притих, но не покорился.
Взлетают на воздух цистерны с горючим.
Летят под откос вражеские эшелоны.
Раздаются выстрелы из руин.
Из лагерей убегают военнопленные.
На столбах, заборах, стенах уцелевших домов появляются листовки… Взрослые, старики и дети поднялись на борьбу с ненавистным врагом.
Уже в самом начале оккупации в Минске начал действовать подпольный горком партии. Его возглавил Исай Павлович Казинец — Победит, как звали его в народе.
Одной из подпольных групп руководил Николай Евстафьевич Герасименко.
…В тот год в сентябре стояли тёплые дни. Только что прошёл небольшой дождик и прибил пыль. Воздух стал немного чище. Николай Евстафьевич открыл окно. Потянуло свежестью и запахом от недавно потушенного пожарища. На улице показался гитлеровский патруль — солдаты с автоматами на груди. Руки на спусковых крючках. Вот повстречали они старушку. Окружили. Лезут в корзинку, а один наводит автомат и кричит:
— Пук! Пук!
Старушка испуганно крестится, а немцы, уходя, гогочут.
До Николая Евстафьевича доносится чуть шепелявый голос старушки:
— Ироды! Душегубы!
«Пора», — думает Николай Евстафьевич и зовёт Люсю:
— Дочка! В добрый час! Ничего не забыла?
— Нет, папка!
 — Хорошо. А ты, мать, чай готовь. В случае чего — праздник у нас. День твоего ангела отмечаем.
Люся выходит во двор. Присаживается на приступках и раскладывает свои игрушки: куклы, ваньку-встаньку, разноцветные лоскутки.
Какое ей дело до того, что в другом конце двора появились мальчишки, а мимо проходят взрослые люди. Со стороны может показаться, что, кроме вот этих игрушек, ничего не интересует девчонку.
Но это не так. Люся внимательно следит за всем, что происходит вокруг. Она не просто играет, она на посту.
Вот показался знакомый их семьи, дядя Саша — Александр Никифорович Дементьев. Он вместе с папой работает на заводе.
— На отремонтированных нами машинах фашисты дальше могилы не уедут, — сказал однажды Люсиной маме дядя Саша, — утильсырьё делаем, Татьяна Даниловна.
Но папа не сказал, должен ли быть дядя Саша.
— Как дела, Люся? — спросил Александр Никифорович.
— Ничего, — девочка поднялась. — А дома… — Но не успела Люся сказать, что в квартире никого нет, дядя Саша перебил:
— Мама мне нужна, может, она муку покупать будет.
Это был пароль.
— Она дома…
Подошла незнакомая тётя. Остановилась.
— Девочка, муку мама покупать не собирается?
— Собирается. Зайдите в двадцать третью…
Потом снова тёти, дяди…
«Восемь — кажется, все», — Люся облегчённо вздохнула и принялась расплетать правую косичку.
Девочка знала, что за ней сейчас наблюдает из окна папа. А она сообщает ему: никого нет, занимайтесь своим делом. А вот если Люся возьмётся за левую косичку, тогда опасность: во дворе чужие, незнакомые люди — будьте осторожны!
Но пока никого нет, и она старательно заплетает правую косичку.
А в квартире Герасименко шло совещание подпольной группы.
Коммунисты решали, как лучше вести борьбу с фашистами. Пусть захватчики не знают покоя ни днём ни ночью.
Во дворе послышались голоса. Николай Евстафьевич выглянул в окно: Люси на приступках не было. Она стояла посредине двора в окружении девчонок и мальчишек и держала в руках правую косичку.
Вот она повернула голову, взгляды их встретились.
Николай Евстафьевич кивнул: молодец, мол. Совещание продолжалось, а Люся со своими подружками играла в классы.
— Вот, товарищи, пожалуй, и всё. Значит, наладить выпуск листовок— раз, подготовить документы для военнопленных — два, снабдить их оружием — три… — Но не успел закончить Николай Евстафьевич, как послышалась невинная детская песенка:
— Баба сеяла горох: прыг-скок, прыг-скок.
— Жена! Быстро на стол всё, что есть. — А заметив удивлённый взгляд Александра Никифоровича Дементьева, пояснил: — Во дворе появились гитлеровцы. Люся сигнал подаёт. Волноваться не стоит — мы отмечаем, как теперь говорят, день ангела Татьяны Даниловны…
И так было всякий раз, когда в квартире Герасименко проводились совещания подпольщиков или печатались листовки.
— Хорошо. А ты, мать, чай готовь. В случае чего — праздник у нас. День твоего ангела отмечаем.
Люся выходит во двор. Присаживается на приступках и раскладывает свои игрушки: куклы, ваньку-встаньку, разноцветные лоскутки.
Какое ей дело до того, что в другом конце двора появились мальчишки, а мимо проходят взрослые люди. Со стороны может показаться, что, кроме вот этих игрушек, ничего не интересует девчонку.
Но это не так. Люся внимательно следит за всем, что происходит вокруг. Она не просто играет, она на посту.
Вот показался знакомый их семьи, дядя Саша — Александр Никифорович Дементьев. Он вместе с папой работает на заводе.
— На отремонтированных нами машинах фашисты дальше могилы не уедут, — сказал однажды Люсиной маме дядя Саша, — утильсырьё делаем, Татьяна Даниловна.
Но папа не сказал, должен ли быть дядя Саша.
— Как дела, Люся? — спросил Александр Никифорович.
— Ничего, — девочка поднялась. — А дома… — Но не успела Люся сказать, что в квартире никого нет, дядя Саша перебил:
— Мама мне нужна, может, она муку покупать будет.
Это был пароль.
— Она дома…
Подошла незнакомая тётя. Остановилась.
— Девочка, муку мама покупать не собирается?
— Собирается. Зайдите в двадцать третью…
Потом снова тёти, дяди…
«Восемь — кажется, все», — Люся облегчённо вздохнула и принялась расплетать правую косичку.
Девочка знала, что за ней сейчас наблюдает из окна папа. А она сообщает ему: никого нет, занимайтесь своим делом. А вот если Люся возьмётся за левую косичку, тогда опасность: во дворе чужие, незнакомые люди — будьте осторожны!
Но пока никого нет, и она старательно заплетает правую косичку.
А в квартире Герасименко шло совещание подпольной группы.
Коммунисты решали, как лучше вести борьбу с фашистами. Пусть захватчики не знают покоя ни днём ни ночью.
Во дворе послышались голоса. Николай Евстафьевич выглянул в окно: Люси на приступках не было. Она стояла посредине двора в окружении девчонок и мальчишек и держала в руках правую косичку.
Вот она повернула голову, взгляды их встретились.
Николай Евстафьевич кивнул: молодец, мол. Совещание продолжалось, а Люся со своими подружками играла в классы.
— Вот, товарищи, пожалуй, и всё. Значит, наладить выпуск листовок— раз, подготовить документы для военнопленных — два, снабдить их оружием — три… — Но не успел закончить Николай Евстафьевич, как послышалась невинная детская песенка:
— Баба сеяла горох: прыг-скок, прыг-скок.
— Жена! Быстро на стол всё, что есть. — А заметив удивлённый взгляд Александра Никифоровича Дементьева, пояснил: — Во дворе появились гитлеровцы. Люся сигнал подаёт. Волноваться не стоит — мы отмечаем, как теперь говорят, день ангела Татьяны Даниловны…
И так было всякий раз, когда в квартире Герасименко проводились совещания подпольщиков или печатались листовки.
 С каждым днём труднее становилось вести подпольную работу.
Гитлеровцы свирепствовали: непрестанно проводились облавы, аресты. Взрослому человеку трудно было пройти по городу, чтобы не подвергнуться обыску. А уж если ты несёшь какой-то свёрток или в руках сумка — развернут, всё перероют.
Люся стала незаменимым помощником. Она выполняла самые различные поручения отца.
То относила листовки или медикаменты в условное место, то передавала донесения, то расклеивала листовки на столбах, заборах, стенах домов. Всё просто и в то же время сложно. Один неосторожный шаг, только один, — и смерть. От гитлеровцев пощады не ожидай…
Люся это прекрасно понимала. И не только понимала — она видела собственными глазами…
Как-то перед Октябрьскими праздниками девчонки во дворе шёпотом передали:
— В Центральном сквере немцы партизан повесили. Один, говорят, совсем ещё мальчик.
И никто не заметил, как побледнело Люсино лицо, а кулачки сами по себе сжались…
Вечером Люся слышала, как папа говорил маме:
— Повесили Ольгу Щербацевич и её сына Володю. Она лечила раненых военнопленных, а затем вместе с сыном переправляла их к партизанам… Выдал предатель.
Люся понимала, что подобное может случиться и с ней, понимала и всё-таки шла выполнять новые задания подпольщиков. Так нужно было, нужно было для победы над ненавистными фашистами. Только надо быть осторожной. Об этом её без конца предупреждают мать и отец. Люся соглашается, но про себя добавляет: «И находчивой». Как она за нос водит охранников завода, где работают её отец и дядя Саша.
Раньше они сами проносили на завод листовки. Тогда гитлеровцы стали проводить усиленный обыск всех, кто шёл на завод. Дальше рисковать было опасно.
— Что нам предпринять? — говорил отец Александру Никифоровичу на следующий день, когда тот зашёл за ним. — Что? Ведь после листовок люди воспрянули духом!..
Но взрослые ничего не придумали. Придумала Люся. Иногда она носила на завод отцу обед. Обед не ахти какой — каша там или картошка в кастрюльке. Охранники к Люсе хотя и привыкли, но почти каждый раз обыскивали её довольно тщательно.
Так было и на этот раз. Полицай презрительно выплюнул окурок и спросил:
— Что несёшь?
— Обед отцу, дяденька, — ответила спокойно Люся. — Посмотрите. — И она раскрыла корзину — В кастрюльке каша, а вот хлебушек. Больше ничего нет.
В корзинке действительно больше ничего не было.
Полицай пошарил в карманах — кроме двух цветных стёклышек, тоже ничего не нашёл.
— Ну, иди! — грубо сказал он. — Болтаются тут всякие.
Люся облегчённо вздохнула и направилась в цех, где работал её отец. Перерыв только начался. Николай Евстафьевич удивился, ведь сегодня обед он взял с собой.
— Что случилось, Люся? — взволнованно спросил он.
— А ничего. Кашу вот принесла, — и тихонько добавила: — На дне кастрюли…
На дне кастрюли в целлофановой бумаге лежала пачка листовок.
И что потом ни делали гитлеровцы — листовки регулярно появлялись на заводе.
А Александр Никифорович при каждой встрече как бы в шутку говорил:
— Вкусная, дочка, каша и сытная. Очень! Полкастрюльки, а почти весь завод сыт. Ещё и другим перепадает…
Смелость, находчивость не раз выручали Люсю. И не только её, а и тех людей, которым она передавала листовки, документы, оружие.
Однажды вечером отец сказал ей:
— Завтра, дочка, отнесёшь вот эти документы и листовки Александру Никифоровичу. Он тебя будет ждать на мосту в 3 часа дня.
К нам зайти он не успеет.
И вот Люся идёт по набережной. Затем поворачивает к улице Красноармейской. Так ближе. Уже и мост виден. Сейчас она встретит Александра Никифоровича и всё передаст. А вот и он идёт. Люся ускоряет шаг, но тут же замечает: шагах в пятидесяти за Александром Никифоровичем идёт фашистский патруль.
Что делать? Сейчас они встретятся. Передать она не сможет — это ясно. Фашисты заметят и сразу же арестуют. А не передать— нельзя. Ведь эти документы нужны людям. Что делать? Что? Бешено колотится сердце, в голове один за другим созревают планы. Но они совершенно не реальны… Ага… Люся ставит корзинку на землю: у неё расплелась косичка. Левая. Надо ведь заплести её. Нехорошо, когда девочка неаккуратная.
С каждым днём труднее становилось вести подпольную работу.
Гитлеровцы свирепствовали: непрестанно проводились облавы, аресты. Взрослому человеку трудно было пройти по городу, чтобы не подвергнуться обыску. А уж если ты несёшь какой-то свёрток или в руках сумка — развернут, всё перероют.
Люся стала незаменимым помощником. Она выполняла самые различные поручения отца.
То относила листовки или медикаменты в условное место, то передавала донесения, то расклеивала листовки на столбах, заборах, стенах домов. Всё просто и в то же время сложно. Один неосторожный шаг, только один, — и смерть. От гитлеровцев пощады не ожидай…
Люся это прекрасно понимала. И не только понимала — она видела собственными глазами…
Как-то перед Октябрьскими праздниками девчонки во дворе шёпотом передали:
— В Центральном сквере немцы партизан повесили. Один, говорят, совсем ещё мальчик.
И никто не заметил, как побледнело Люсино лицо, а кулачки сами по себе сжались…
Вечером Люся слышала, как папа говорил маме:
— Повесили Ольгу Щербацевич и её сына Володю. Она лечила раненых военнопленных, а затем вместе с сыном переправляла их к партизанам… Выдал предатель.
Люся понимала, что подобное может случиться и с ней, понимала и всё-таки шла выполнять новые задания подпольщиков. Так нужно было, нужно было для победы над ненавистными фашистами. Только надо быть осторожной. Об этом её без конца предупреждают мать и отец. Люся соглашается, но про себя добавляет: «И находчивой». Как она за нос водит охранников завода, где работают её отец и дядя Саша.
Раньше они сами проносили на завод листовки. Тогда гитлеровцы стали проводить усиленный обыск всех, кто шёл на завод. Дальше рисковать было опасно.
— Что нам предпринять? — говорил отец Александру Никифоровичу на следующий день, когда тот зашёл за ним. — Что? Ведь после листовок люди воспрянули духом!..
Но взрослые ничего не придумали. Придумала Люся. Иногда она носила на завод отцу обед. Обед не ахти какой — каша там или картошка в кастрюльке. Охранники к Люсе хотя и привыкли, но почти каждый раз обыскивали её довольно тщательно.
Так было и на этот раз. Полицай презрительно выплюнул окурок и спросил:
— Что несёшь?
— Обед отцу, дяденька, — ответила спокойно Люся. — Посмотрите. — И она раскрыла корзину — В кастрюльке каша, а вот хлебушек. Больше ничего нет.
В корзинке действительно больше ничего не было.
Полицай пошарил в карманах — кроме двух цветных стёклышек, тоже ничего не нашёл.
— Ну, иди! — грубо сказал он. — Болтаются тут всякие.
Люся облегчённо вздохнула и направилась в цех, где работал её отец. Перерыв только начался. Николай Евстафьевич удивился, ведь сегодня обед он взял с собой.
— Что случилось, Люся? — взволнованно спросил он.
— А ничего. Кашу вот принесла, — и тихонько добавила: — На дне кастрюли…
На дне кастрюли в целлофановой бумаге лежала пачка листовок.
И что потом ни делали гитлеровцы — листовки регулярно появлялись на заводе.
А Александр Никифорович при каждой встрече как бы в шутку говорил:
— Вкусная, дочка, каша и сытная. Очень! Полкастрюльки, а почти весь завод сыт. Ещё и другим перепадает…
Смелость, находчивость не раз выручали Люсю. И не только её, а и тех людей, которым она передавала листовки, документы, оружие.
Однажды вечером отец сказал ей:
— Завтра, дочка, отнесёшь вот эти документы и листовки Александру Никифоровичу. Он тебя будет ждать на мосту в 3 часа дня.
К нам зайти он не успеет.
И вот Люся идёт по набережной. Затем поворачивает к улице Красноармейской. Так ближе. Уже и мост виден. Сейчас она встретит Александра Никифоровича и всё передаст. А вот и он идёт. Люся ускоряет шаг, но тут же замечает: шагах в пятидесяти за Александром Никифоровичем идёт фашистский патруль.
Что делать? Сейчас они встретятся. Передать она не сможет — это ясно. Фашисты заметят и сразу же арестуют. А не передать— нельзя. Ведь эти документы нужны людям. Что делать? Что? Бешено колотится сердце, в голове один за другим созревают планы. Но они совершенно не реальны… Ага… Люся ставит корзинку на землю: у неё расплелась косичка. Левая. Надо ведь заплести её. Нехорошо, когда девочка неаккуратная.
 Александр Никифорович понял: опасность. Остановиться нельзя.
Проходит мимо неё и в это же время слышит шёпот.
— На Фабричной, третье дерево… третье дерево.
«Фабричная, третье дерево», — повторил мысленно Александр Никифорович и прошёл дальше.
Потом, на Фабричной улице, он без всякого труда находит третье дерево — невысокую кучерявую липку, а под ней закопанные в земле документы и листовки.
В тот же день, как и было решено подпольным комитетом, пленные красноармейцы, получив документы, беспрепятственно покинули Минск и направились в партизанский отряд.
Так шёл день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем, пока провокатор не выдал семью Герасименко. Это случилось 26 декабря 1942 года…
Уже третьи сутки Григорий Смоляр, секретарь подпольного райкома партии, действовавшего в районе гетто, уходил от погони. На квартире, где он жил, фашисты устроили засаду, но старушка-соседка успела предупредить. Пришлось вернуться. Но куда идти? Есть ещё явочная квартира — в районе Червеньского рынка, да скоро 9 часов вечера— полицейский час! Не успеть! Оставалось одно — забраться в подвал какого-нибудь разрушенного дома и там скоротать до утра время. Не впервой. Правда, холодно — на дворе декабрь, но что поделаешь.
Вторую ночь тоже пришлось коротать в подвале. На явочной квартире, на которую он рассчитывал, ему грозила опасность. Об этом говорил условный сигнал — на подоконнике не было цветов.
Надо что-то предпринимать, что-то решать.
Был ещё один адрес — улица Немига, дом 25, квартира 23. Спросить: «Тут живёт Люся?» Но его предупредили: этот адрес на самый крайний случай, когда уже нет никакого выхода. Иного выхода у Смоляра не было.
Дверь открыла невысокая девочка с косичками.
— Вам кого? — спросила.
— Тут живёт Люся?
— Да, это я, проходите, — Люся улыбнулась. — Только сейчас никого нет. — Мама ушла в город, а папа на работе.
— Ничего… Я немного отдохну, да вот побриться бы мне, — и Григорий показал на свою бороду.
Люся быстро согрела воды, приготовила бритву. За трое суток Григорий Смоляр основательно зарос. Вскоре вернулся Николай Евстафьевич.
— А, товарищ Скромный! Здравствуй!
Потом они ужинали, а Люся гуляла во дворе. Но не просто она гуляла: нужно было узнать, не вызвал ли у кого из соседей подозрения приход товарища Скромного. Люди, знакомые и незнакомые, проходили мимо Люси, и никто не спрашивал ничего. Значит, всё в порядке.
Прошло уже порядочно времени — можно возвращаться домой.
А на кухне в это время шёл разговор:
— Вам надо, товарищ Скромный, день-два переждать: подготовим надёжные документы, а тогда переправим в партизанский отряд.
Только вот где вас устроить — ума не приложу. Наши явочные квартиры заполнены— готовим партизанским отрядам пополнение.
— Папка, всё в порядке, — сказала, входя в кухню, Люся. — Никто ничего не спрашивал.
— Хорошо. И всё-таки, куда вас определить?
Александр Никифорович понял: опасность. Остановиться нельзя.
Проходит мимо неё и в это же время слышит шёпот.
— На Фабричной, третье дерево… третье дерево.
«Фабричная, третье дерево», — повторил мысленно Александр Никифорович и прошёл дальше.
Потом, на Фабричной улице, он без всякого труда находит третье дерево — невысокую кучерявую липку, а под ней закопанные в земле документы и листовки.
В тот же день, как и было решено подпольным комитетом, пленные красноармейцы, получив документы, беспрепятственно покинули Минск и направились в партизанский отряд.
Так шёл день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем, пока провокатор не выдал семью Герасименко. Это случилось 26 декабря 1942 года…
Уже третьи сутки Григорий Смоляр, секретарь подпольного райкома партии, действовавшего в районе гетто, уходил от погони. На квартире, где он жил, фашисты устроили засаду, но старушка-соседка успела предупредить. Пришлось вернуться. Но куда идти? Есть ещё явочная квартира — в районе Червеньского рынка, да скоро 9 часов вечера— полицейский час! Не успеть! Оставалось одно — забраться в подвал какого-нибудь разрушенного дома и там скоротать до утра время. Не впервой. Правда, холодно — на дворе декабрь, но что поделаешь.
Вторую ночь тоже пришлось коротать в подвале. На явочной квартире, на которую он рассчитывал, ему грозила опасность. Об этом говорил условный сигнал — на подоконнике не было цветов.
Надо что-то предпринимать, что-то решать.
Был ещё один адрес — улица Немига, дом 25, квартира 23. Спросить: «Тут живёт Люся?» Но его предупредили: этот адрес на самый крайний случай, когда уже нет никакого выхода. Иного выхода у Смоляра не было.
Дверь открыла невысокая девочка с косичками.
— Вам кого? — спросила.
— Тут живёт Люся?
— Да, это я, проходите, — Люся улыбнулась. — Только сейчас никого нет. — Мама ушла в город, а папа на работе.
— Ничего… Я немного отдохну, да вот побриться бы мне, — и Григорий показал на свою бороду.
Люся быстро согрела воды, приготовила бритву. За трое суток Григорий Смоляр основательно зарос. Вскоре вернулся Николай Евстафьевич.
— А, товарищ Скромный! Здравствуй!
Потом они ужинали, а Люся гуляла во дворе. Но не просто она гуляла: нужно было узнать, не вызвал ли у кого из соседей подозрения приход товарища Скромного. Люди, знакомые и незнакомые, проходили мимо Люси, и никто не спрашивал ничего. Значит, всё в порядке.
Прошло уже порядочно времени — можно возвращаться домой.
А на кухне в это время шёл разговор:
— Вам надо, товарищ Скромный, день-два переждать: подготовим надёжные документы, а тогда переправим в партизанский отряд.
Только вот где вас устроить — ума не приложу. Наши явочные квартиры заполнены— готовим партизанским отрядам пополнение.
— Папка, всё в порядке, — сказала, входя в кухню, Люся. — Никто ничего не спрашивал.
— Хорошо. И всё-таки, куда вас определить?
 — А пусть дядя Скромный со мной поживёт. Мы поместимся. — Люся внимательно смотрела на отца.
— Ну что ж, — раздумывая, сказал Николай Евстафьевич, — пусть. — И, обращаясь к Григорию Смоляру, добавил: —Эта комната выходит на другую улицу — Революционную. Имейте это в виду.
Несколько дней пришлось прожить Григорию Смоляру на квартире Герасименко. За это время он написал несколько листовок, которые тут же были отпечатаны на пишущей машинке и с помощью Люси отправлены по назначению — в гетто. Подготовил два материала для подпольной газеты «Звезда». Люся тоже смогла передать их по адресу.
Благодаря Люсе он смог также связаться с членами подпольного райкома.
На четвёртый день пребывания Григория Смоляра на квартире Герасименко вечером в комнату вошла радостная Люся.
— Вот, — протянула она пакет. — Папа передал. Завтра на Сторожевом рынке встретитесь с одним человеком…
Григорий развернул пакет — там были немецкие документы на его имя. Глядя на неё, невысокую, белокурую, с большими голубыми глазами, он восхищался: сколько выдержки, смелости и энергии у этой одиннадцатилетней девочки.
Ему захотелось обнять её и сказать:
«Ты же не знаешь, Люся, какая ты героиня!» — но он сдержался и сказал просто:
— Спасибо тебе, Люся!
…Ночью раздался страшный стук в дверь. Григорий вскочил с кровати, выхватил из-под подушки пистолет.
— Передайте вот это Николаю или его товарищам. Тут документы, листовки… Уходите через окно, — шёпотом сказала Татьяна Даниловна.
— А вы?..
— Уходите, дядя! — послышался голос Люси. — Они скоро ворвутся!
…Через некоторое время, подталкивая прикладами автоматов, гитлеровцы вывели во двор Татьяну Даниловну и Люсю. Девочка была почти раздета. Прижимая к себе, мать заботливо укутывала её платком.
За ними один гитлеровец нёс пишущую машинку, другой — радиоприёмник, а третий, в штатском, мелко семеня ногами, подбежал к длинному в очках офицеру, что-то сказал, а затем протянул ему…
При свете фонарика Люся увидела галстук. Свой пионерский галстук, тот самый, что ей повязывала вожатая Нина Антоновна.
Люся бросилась к офицеру:
— Отдай, гад!
Но не успела… Ударом сапога фашист сбил Люсю с ног.
— Партизанен! — закричал немец и что-то приказал по-немецки.
Мать и дочь втолкнули в машину…
Всё это видел Григорий Смоляр, видел и ничего не мог сделать.
Один против двух десятков гитлеровцев — тоже воин, но только если в его руках не пистолет, в котором семь патронов, а автомат…
Татьяну Даниловну и Люсю бросили в 88-ю камеру, где уже находилось 50 с лишним женщин.
Это были жёны, родные и близкие минских подпольщиков.
Женщины подвинулись — в углу освободили местечко.
— Присаживайтесь, — сказала невысокая черноволосая женщина, — в ногах правды нет.
Чтобы согреться, Люся прижалась к маме.
— За что вас? — спросила одна из соседок.
— В город вышли без пропуска, — ответила Люся.
Мама чуть заметно улыбнулась — дочка хорошо запомнила наказ отца: чем меньше в тюрьме будут знать, за что сидишь, тем лучше.
Гестаповцы могут и провокатора подослать.
Через несколько дней Татьяну Даниловну вызвали на допрос.
Люся попыталась было кинуться вслед за мамой, но её грубо оттолкнул конвоир. Девочка упала на цементный пол. К ней подошла женщина, которую все уважительно звали Надеждой Тимофеевной Цветковой. Она была женой коммуниста-подпольщика Петра Михайловича Цветкова.
— Успокойся, дочка, — тихо сказала Надежда Тимофеевна, — успокойся. Не надо…
Это были первые и последние Люсины слёзы в тюрьме. Больше она никогда не плакала.
Прошло часа два. Люсе показались они вечностью. Наконец дверь открылась — ввели Татьяну Даниловну. Она прислонилась к стене. Одежда была изорвана — на теле видны кровавые следы побоев.
Люся бросилась к маме и помогла ей сесть. Никто ни о чём не спрашивал.
Женщины молча освободили место на нарах.
Вскоре дверь снова открылась:
— Людмила Герасименко, на допрос!
Люся сначала не поняла, что вызывают её.
— Люся, тебя! — подсказала Надежда Тимофеевна.
— О, боже! Хоть бы она выдержала, — шептала Татьяна Даниловна.
Её повели тёмным длинным коридором и втолкнули в какую-то дверь. Лучи яркого зимнего солнца больно ударили по глазам.
— Подходи ближе, девочка, — послышался очень ласковый голос. — Не беспокойся.
У окна стоял невысокий человек в штатском. Онвнимательно смотрел на Люсю, как бы изучал её.
— Ну что ты такая несмелая. Садись вот сюда, — человек указал на стул. — Вот конфеты. Бери. — И он подвинул к ней красивую коробку.
Девочка посмотрела на конфеты, потом на человека.
Сколько ненависти было в её глазах. Человек как-то съёжился, сел за стол и спросил:
— Скажи, кто передал вам машинку?
— Купили до войны ещё.
— А откуда радиоприёмник?
— Он поломан. Только коробка…
— А кто приходил к вам?
— Многие.
Человек оживился.
— Назови мне имена, фамилии. И расскажи, что они делали у вас.
— Алик, Катя, Аня… мы играли в куклы. Фамилии Алика — Шурпо, а Кати…
— Я не о них спрашиваю! — заорал человек. — Кто из взрослых? Взрослых называй!
— Взрослых?.. Взрослые не приходили.
— Врёшь!
Человек выскочил из-за стола и начал бить её по лицу.
— Отвечай! Отвечай! Отвечай!
Но она молчала. Молчала и тогда, когда гестаповец, избивая её плетью, вырывал волосы, топтал ногами.
…В камеру она вошла, еле передвигая ноги, но с высоко поднятой головой и чуть заметно улыбалась. Все видели, что нелегко ей давалась эта улыбка.
Татьяну Даниловну и Люсю на допросы вызывали почти каждый день и почти каждый раз страшно избивали. А после одного допроса в камеру Люсю внесли почти без сознания. Внесли и кинули на пол.
Женщины заботливо уложили её на нары. Внутри всё горело. Очень хотелось пить. Очень хотелось кушать. Хотя бы маленький кусочек хлеба. Совсем маленький. Арестованных почти не кормили — в день давали ложек десять какой-то баланды…
И ещё очень хотелось спать. В камере арестованных набито битком.
Ночи коротали полусидя, прислонясь один к другому. Только слабые и больные лежали на нарах.
— Отсюда нам всем, родненькие, одна дорога — на виселицу, — словно сквозь сон слышала Люся чей-то горячий шёпот. — Одна…
Нет, была и другая — надо рассказать фашистам о том, что знаешь.
Будешь жить, кушать, спать, любоваться синим небом, загорать на солнышке, собирать цветы. А как их Люся любила собирать! Ранней весной на лесных полянках голубыми глазами смотрят на тебя подснежники, а ближе к лету весь луг усеян колокольчиками…
— Не хочу цветов, — шепчут потрескавшиеся губы девочки. — Не хочу! Не надо их. Пусть будут на свободе папа и его друзья. А если они там будут, на воздух будут взлетать фашистские составы, по ночам раздаваться выстрелы. Минск будет жить и бороться!
— Наверно, бредит, — над Люсей кто-то склоняется и гладит запёкшиеся от крови волосы.
Люся хочет поднять голову и крикнуть, что она не бредит, но голова почему-то очень тяжёлая, и страшно горит тело.
— А пусть дядя Скромный со мной поживёт. Мы поместимся. — Люся внимательно смотрела на отца.
— Ну что ж, — раздумывая, сказал Николай Евстафьевич, — пусть. — И, обращаясь к Григорию Смоляру, добавил: —Эта комната выходит на другую улицу — Революционную. Имейте это в виду.
Несколько дней пришлось прожить Григорию Смоляру на квартире Герасименко. За это время он написал несколько листовок, которые тут же были отпечатаны на пишущей машинке и с помощью Люси отправлены по назначению — в гетто. Подготовил два материала для подпольной газеты «Звезда». Люся тоже смогла передать их по адресу.
Благодаря Люсе он смог также связаться с членами подпольного райкома.
На четвёртый день пребывания Григория Смоляра на квартире Герасименко вечером в комнату вошла радостная Люся.
— Вот, — протянула она пакет. — Папа передал. Завтра на Сторожевом рынке встретитесь с одним человеком…
Григорий развернул пакет — там были немецкие документы на его имя. Глядя на неё, невысокую, белокурую, с большими голубыми глазами, он восхищался: сколько выдержки, смелости и энергии у этой одиннадцатилетней девочки.
Ему захотелось обнять её и сказать:
«Ты же не знаешь, Люся, какая ты героиня!» — но он сдержался и сказал просто:
— Спасибо тебе, Люся!
…Ночью раздался страшный стук в дверь. Григорий вскочил с кровати, выхватил из-под подушки пистолет.
— Передайте вот это Николаю или его товарищам. Тут документы, листовки… Уходите через окно, — шёпотом сказала Татьяна Даниловна.
— А вы?..
— Уходите, дядя! — послышался голос Люси. — Они скоро ворвутся!
…Через некоторое время, подталкивая прикладами автоматов, гитлеровцы вывели во двор Татьяну Даниловну и Люсю. Девочка была почти раздета. Прижимая к себе, мать заботливо укутывала её платком.
За ними один гитлеровец нёс пишущую машинку, другой — радиоприёмник, а третий, в штатском, мелко семеня ногами, подбежал к длинному в очках офицеру, что-то сказал, а затем протянул ему…
При свете фонарика Люся увидела галстук. Свой пионерский галстук, тот самый, что ей повязывала вожатая Нина Антоновна.
Люся бросилась к офицеру:
— Отдай, гад!
Но не успела… Ударом сапога фашист сбил Люсю с ног.
— Партизанен! — закричал немец и что-то приказал по-немецки.
Мать и дочь втолкнули в машину…
Всё это видел Григорий Смоляр, видел и ничего не мог сделать.
Один против двух десятков гитлеровцев — тоже воин, но только если в его руках не пистолет, в котором семь патронов, а автомат…
Татьяну Даниловну и Люсю бросили в 88-ю камеру, где уже находилось 50 с лишним женщин.
Это были жёны, родные и близкие минских подпольщиков.
Женщины подвинулись — в углу освободили местечко.
— Присаживайтесь, — сказала невысокая черноволосая женщина, — в ногах правды нет.
Чтобы согреться, Люся прижалась к маме.
— За что вас? — спросила одна из соседок.
— В город вышли без пропуска, — ответила Люся.
Мама чуть заметно улыбнулась — дочка хорошо запомнила наказ отца: чем меньше в тюрьме будут знать, за что сидишь, тем лучше.
Гестаповцы могут и провокатора подослать.
Через несколько дней Татьяну Даниловну вызвали на допрос.
Люся попыталась было кинуться вслед за мамой, но её грубо оттолкнул конвоир. Девочка упала на цементный пол. К ней подошла женщина, которую все уважительно звали Надеждой Тимофеевной Цветковой. Она была женой коммуниста-подпольщика Петра Михайловича Цветкова.
— Успокойся, дочка, — тихо сказала Надежда Тимофеевна, — успокойся. Не надо…
Это были первые и последние Люсины слёзы в тюрьме. Больше она никогда не плакала.
Прошло часа два. Люсе показались они вечностью. Наконец дверь открылась — ввели Татьяну Даниловну. Она прислонилась к стене. Одежда была изорвана — на теле видны кровавые следы побоев.
Люся бросилась к маме и помогла ей сесть. Никто ни о чём не спрашивал.
Женщины молча освободили место на нарах.
Вскоре дверь снова открылась:
— Людмила Герасименко, на допрос!
Люся сначала не поняла, что вызывают её.
— Люся, тебя! — подсказала Надежда Тимофеевна.
— О, боже! Хоть бы она выдержала, — шептала Татьяна Даниловна.
Её повели тёмным длинным коридором и втолкнули в какую-то дверь. Лучи яркого зимнего солнца больно ударили по глазам.
— Подходи ближе, девочка, — послышался очень ласковый голос. — Не беспокойся.
У окна стоял невысокий человек в штатском. Онвнимательно смотрел на Люсю, как бы изучал её.
— Ну что ты такая несмелая. Садись вот сюда, — человек указал на стул. — Вот конфеты. Бери. — И он подвинул к ней красивую коробку.
Девочка посмотрела на конфеты, потом на человека.
Сколько ненависти было в её глазах. Человек как-то съёжился, сел за стол и спросил:
— Скажи, кто передал вам машинку?
— Купили до войны ещё.
— А откуда радиоприёмник?
— Он поломан. Только коробка…
— А кто приходил к вам?
— Многие.
Человек оживился.
— Назови мне имена, фамилии. И расскажи, что они делали у вас.
— Алик, Катя, Аня… мы играли в куклы. Фамилии Алика — Шурпо, а Кати…
— Я не о них спрашиваю! — заорал человек. — Кто из взрослых? Взрослых называй!
— Взрослых?.. Взрослые не приходили.
— Врёшь!
Человек выскочил из-за стола и начал бить её по лицу.
— Отвечай! Отвечай! Отвечай!
Но она молчала. Молчала и тогда, когда гестаповец, избивая её плетью, вырывал волосы, топтал ногами.
…В камеру она вошла, еле передвигая ноги, но с высоко поднятой головой и чуть заметно улыбалась. Все видели, что нелегко ей давалась эта улыбка.
Татьяну Даниловну и Люсю на допросы вызывали почти каждый день и почти каждый раз страшно избивали. А после одного допроса в камеру Люсю внесли почти без сознания. Внесли и кинули на пол.
Женщины заботливо уложили её на нары. Внутри всё горело. Очень хотелось пить. Очень хотелось кушать. Хотя бы маленький кусочек хлеба. Совсем маленький. Арестованных почти не кормили — в день давали ложек десять какой-то баланды…
И ещё очень хотелось спать. В камере арестованных набито битком.
Ночи коротали полусидя, прислонясь один к другому. Только слабые и больные лежали на нарах.
— Отсюда нам всем, родненькие, одна дорога — на виселицу, — словно сквозь сон слышала Люся чей-то горячий шёпот. — Одна…
Нет, была и другая — надо рассказать фашистам о том, что знаешь.
Будешь жить, кушать, спать, любоваться синим небом, загорать на солнышке, собирать цветы. А как их Люся любила собирать! Ранней весной на лесных полянках голубыми глазами смотрят на тебя подснежники, а ближе к лету весь луг усеян колокольчиками…
— Не хочу цветов, — шепчут потрескавшиеся губы девочки. — Не хочу! Не надо их. Пусть будут на свободе папа и его друзья. А если они там будут, на воздух будут взлетать фашистские составы, по ночам раздаваться выстрелы. Минск будет жить и бороться!
— Наверно, бредит, — над Люсей кто-то склоняется и гладит запёкшиеся от крови волосы.
Люся хочет поднять голову и крикнуть, что она не бредит, но голова почему-то очень тяжёлая, и страшно горит тело.
Однажды, когда Люсю вели на очередной допрос, по коридору гнали арестованных мужчин. Среди них девочка с трудом узнала Александра Никифоровича Дементьева. Поравнявшись с ним, Люся шепнула: — Когда увидите папу — передайте, что я и мама ничего не сказали. Через несколько дней после встречи с Александром Никифоровичем Люсе и Татьяне Даниловне приказали собираться с вещами. Их вывели во двор тюрьмы. Ярко светило солнце. Было очень холодно. Но ни Люся, ни мама холода не замечали. Их подвели к чёрной крытой машине — «ворону», как её называли. Значит, повезут на расстрел. — Ироды! Хоть ребёнка пожалейте! — закричала Татьяна Даниловна. Заволновались и другие арестованные. — Шнель! Шнель! — орали гитлеровцы, загоняя в машину людей прикладами. Девочка взялась за поручни, не спеша влезла по железной лесенке и шагнула в машину… Так погибла Люся Герасименко. Имя юной патриотки Люси Герасименко навечно занесено в Книгу почёта Белорусской республиканской пионерской организации имени В. И. Ленина. В одном из залов музея Великой Отечественной войны, что находится в Минске, висит её портрет. Имя юной героини носят многие пионерские отряды республики.
МАРАТ КАЗЕЙ Морозов Вячеслав Николаевич



 В первый же день войны Марат увидел двоих на кладбище. Один, в форме танкиста Красной Армии, заговорил с деревенским мальчиком:
— Послушай, где тут у вас…
Глаза незнакомца беспокойно бегали по сторонам.
Марат обратил внимание ещё на то, что пистолет висел у танкиста почти на самом животе. «Наши так не носят оружие», — мелькнуло в голове мальчика.
— Я принесу… молоко и хлеб. Сейчас. — Он кивнул в сторону деревни. — А то пойдёмте к нам. Наша хата на краю, близенько…
— Неси сюда! — уже совсем осмелев, приказал танкист.
«Наверное, немцы, — подумал Марат, — парашютисты…»
Немцы не сбрасывали на их деревню бомбы. Вражеские самолёты пролетали дальше на восток. Вместо бомб свалился фашистский десант. Парашютистов вылавливали, но никто не знал, сколько их сброшено…
…В хате отдыхало несколько наших пограничников. Анна Александровна, мама Марата, поставила перед ними чугун со щами, кринку молока.
Марат влетел в хату с таким видом, что все сразу почувствовали неладное.
— На кладбище — они!
Пограничники бежали к кладбищу за Маратом, который вёл их короткой тропкой.
Заметив вооружённых людей, переодетые фашисты бросились в кусты. Марат — за ними. Добежав до опушки леса, «танкисты» начали отстреливаться…
…Вечером к хате Казеев подкатил грузовик. В нём сидели пограничники и двое пленных. Анна Александровна со слезами бросилась к сыну — он стоял на ступеньке кабины, ноги у мальчика были в крови, рубашка изодрана.
— Спасибо вам, мамаша! — пожимали воины по очереди руку женщине. — Смелого сына вырастили. Хорошего бойца!
В первый же день войны Марат увидел двоих на кладбище. Один, в форме танкиста Красной Армии, заговорил с деревенским мальчиком:
— Послушай, где тут у вас…
Глаза незнакомца беспокойно бегали по сторонам.
Марат обратил внимание ещё на то, что пистолет висел у танкиста почти на самом животе. «Наши так не носят оружие», — мелькнуло в голове мальчика.
— Я принесу… молоко и хлеб. Сейчас. — Он кивнул в сторону деревни. — А то пойдёмте к нам. Наша хата на краю, близенько…
— Неси сюда! — уже совсем осмелев, приказал танкист.
«Наверное, немцы, — подумал Марат, — парашютисты…»
Немцы не сбрасывали на их деревню бомбы. Вражеские самолёты пролетали дальше на восток. Вместо бомб свалился фашистский десант. Парашютистов вылавливали, но никто не знал, сколько их сброшено…
…В хате отдыхало несколько наших пограничников. Анна Александровна, мама Марата, поставила перед ними чугун со щами, кринку молока.
Марат влетел в хату с таким видом, что все сразу почувствовали неладное.
— На кладбище — они!
Пограничники бежали к кладбищу за Маратом, который вёл их короткой тропкой.
Заметив вооружённых людей, переодетые фашисты бросились в кусты. Марат — за ними. Добежав до опушки леса, «танкисты» начали отстреливаться…
…Вечером к хате Казеев подкатил грузовик. В нём сидели пограничники и двое пленных. Анна Александровна со слезами бросилась к сыну — он стоял на ступеньке кабины, ноги у мальчика были в крови, рубашка изодрана.
— Спасибо вам, мамаша! — пожимали воины по очереди руку женщине. — Смелого сына вырастили. Хорошего бойца!
* * *
Рос Марат без отца — он умер, когда мальчику не было и семи лет. Но отца, конечно, Марат помнил: бывший балтийский матрос! Служил на корабле «Марат» и имя сынишке захотел дать в честь своего корабля. Анна Александровна, старшая сестра комсомолка Ада и сам Марат — вот и вся семья Казеев. Дом их — на краю села Станьково, у шоссейной дороги, что ведёт в Минск. Днём и ночью по этой дороге громыхают вражеские танки. Дзержинск, районный городок, занят фашистами. Уже несколько раз наведывались они и в Станьково. Ворвались в хату к Анне Александровне. Перерыли всё, что-то искали. Счастье для Казеев, что не догадались поднять половицу в сенях. Там Марат запрятал патроны и гранаты. Целыми днями он пропадал где-то и возвращался то с обоймой патронов, то с какой-нибудь частью от оружия. Осенью Марату не пришлось бегать в школу, в пятый класс. Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. Многих учителей арестовали, отправили в Германию. Фашисты схватили и Анну Александровну. Пронюхали враги, что она держит связь с партизанами, помогает им. А через несколько месяцев Марат с сестрой узнали: их маму гитлеровские палачи повесили в Минске, на площади Свободы. Марат ушёл к партизанам в Станьковский лес. …Шагает по заснеженной дороге маленький человек. На нём драная фуфайка, лапти с онучами. Через плечо перекинута холщовая сума. По сторонам — печи сожжённых хат. Каркают над ними голодные вороны. Проходят по дороге немецкие военные машины, попадаются навстречу и пешие гитлеровцы. Никому из них и в голову не может прийти, что по дороге идёт партизан-разведчик. У него боевое, немного даже грозное имя — Марат. Нет в отряде такого ловкого разведчика, как он. Мальчишка с нищенской сумой идёт в Дзержинск, где очень много фашистов. Марат хорошо знает улицы и здания, потому что бывал до войны в городке не один раз. Но сейчас каким-то чужим, неузнаваемым стал городок. На главной улице немецкие вывески, флаги. Перед школой раньше была гипсовая фигурка пионера-горниста. На его месте теперь стоит виселица. На улицах много гитлеровцев. Шагают, надвинув каски на лоб. По-своему приветствуют друг друга, выбрасывают правую руку вперёд: «Хайль Гитлер!» Увлечённый выполнением задания, он не заметил, как наскочил на немецкого офицера. Поднимая оброненную перчатку, офицер брезгливо поморщился. — Дяденька! — застонал Марат. — Подайте что-нибудь, дяденька! Гитлеровец прошагал дальше. Теперь уже Марат стал осторожнее. …Через несколько дней партизанский отряд ночью разгромил фашистов в Дзержинске. И партизаны благодарили Марата: помогла разведка. А он уже готовился в другую дорогу, такую же опасную и такую же дальнюю. Ходить хлопчику приходилось гораздо больше, чем остальным бойцам. А опасности… Ходил Марат в разведку и один и вместе с опытными бойцами. Наряжался подпаском или нищим и отправлялся на задание, забыв про отдых, про сон, про боль в натёртых до крови ногах. И не было случая, чтобы пионер-разведчик возвратился ни с чем, с пустыми, как говорят, руками. Обязательно принесёт важные сведения. Марат узнавал, куда и по каким дорогам пойдут вражеские солдаты. Он замечал, где расположены немецкие посты, запоминал, где замаскированы вражеские пушки, расставлены пулемёты.
Марат узнавал, куда и по каким дорогам пойдут вражеские солдаты. Он замечал, где расположены немецкие посты, запоминал, где замаскированы вражеские пушки, расставлены пулемёты.

* * *
Зимой партизанская бригада разместилась в деревне Румок. Каждый день шли и шли в Румок советские люди — старики, подростки. Они просили дать им оружие. Получив винтовку или автомат, принимали партизанскую клятву. Приходили в отряды и женщины. Дозорные посты пропускали их без задержки. Морозным утром 8 марта по дорогам, что вели в Румок, двигались большие группы женщин. Многие несли ребятишек на руках. Женщины уже были у леса, когда к штабу на взмыленных конях подлетело трое всадников. — Товарищ командир! Подходят не женщины — переодетые немцы! Тревога, товарищи! Тревога! Конники понеслись вдоль деревни, поднимая бойцов. Впереди скакал Марат. Полы его широкой, не по росту, шинели развевались по ветру. И от этого казалось, будто всадник летит на крыльях. Послышались выстрелы. Почуяв опасность, «женщины» начали падать в снег. Падали так, как это могут делать хорошо обученные солдаты. Распеленали они и своих «младенцев»: то были автоматы. Начался бой. Над Маратом не раз проносились пули, пока он доскакал до командного пункта и укрыл коня за хатой. Здесь же беспокойно топтались ещё две оседланные лошади. Их хозяева, связные, лежали рядом с командиром бригады Барановым, ждали его приказаний.
Мальчик снял автомат, подполз к командиру. Тот оглянулся:
— А, Марат! Плохи наши дела, браток. Близко подошли, гады! Сейчас бы отряду Фурманова им с тыла ударить.
Марат знал, что фурмановцы километрах в семи от Румка. Они действительно могли бы зайти немцам в тыл. «Надо им сообщить!» Мальчик уже хотел было ползти к коню. Но комбриг обратился к другому партизану:
— Давай, Георгий! Скачи, пусть не мешкают ни минуты!..
Но связному не удалось даже выбраться из деревни. Он упал с коня — скосила пулемётная очередь. Не суждено было проскочить и второму связному.
Не спрашивая ни о чём командира, Марат пополз к своему Орлику.
— Подожди! — Баранов подошёл к нему. — Береги себя, слышишь? Скачи прямиком, так вернее будет. Мы тебя прикроем. Ну!.. — Марат почувствовал, как к его лицу прижалась колючая щека командира. — Сынок…
Стреляя по врагу, командир то и дело поднимал голову, чтобы посмотреть на поле, по которому летел крылатый конь. Всадника почти не видно. Он прижался к лошадиной шее, словно слился с Орликом. До спасительного леса оставались считанные метры. Внезапно конь споткнулся, и сердце у командира сжалось, глаза невольно закрылись. «Неужели всё?» Комбриг открыл глаза. Нет, показалось, Марат продолжал стремительно лететь вперёд. Ещё рывок! Ещё…
Все, кто наблюдал за Маратом, закричали «ура».
И всё же бригаде пришлось уйти из сожжённого села: партизанская разведка донесла, что немцы решили двинуть на Румок танки и самолёты.
Отряды покинули старые места.
Но через несколько месяцев партизаны вернулись в Станьковский лес.
Начался бой. Над Маратом не раз проносились пули, пока он доскакал до командного пункта и укрыл коня за хатой. Здесь же беспокойно топтались ещё две оседланные лошади. Их хозяева, связные, лежали рядом с командиром бригады Барановым, ждали его приказаний.
Мальчик снял автомат, подполз к командиру. Тот оглянулся:
— А, Марат! Плохи наши дела, браток. Близко подошли, гады! Сейчас бы отряду Фурманова им с тыла ударить.
Марат знал, что фурмановцы километрах в семи от Румка. Они действительно могли бы зайти немцам в тыл. «Надо им сообщить!» Мальчик уже хотел было ползти к коню. Но комбриг обратился к другому партизану:
— Давай, Георгий! Скачи, пусть не мешкают ни минуты!..
Но связному не удалось даже выбраться из деревни. Он упал с коня — скосила пулемётная очередь. Не суждено было проскочить и второму связному.
Не спрашивая ни о чём командира, Марат пополз к своему Орлику.
— Подожди! — Баранов подошёл к нему. — Береги себя, слышишь? Скачи прямиком, так вернее будет. Мы тебя прикроем. Ну!.. — Марат почувствовал, как к его лицу прижалась колючая щека командира. — Сынок…
Стреляя по врагу, командир то и дело поднимал голову, чтобы посмотреть на поле, по которому летел крылатый конь. Всадника почти не видно. Он прижался к лошадиной шее, словно слился с Орликом. До спасительного леса оставались считанные метры. Внезапно конь споткнулся, и сердце у командира сжалось, глаза невольно закрылись. «Неужели всё?» Комбриг открыл глаза. Нет, показалось, Марат продолжал стремительно лететь вперёд. Ещё рывок! Ещё…
Все, кто наблюдал за Маратом, закричали «ура».
И всё же бригаде пришлось уйти из сожжённого села: партизанская разведка донесла, что немцы решили двинуть на Румок танки и самолёты.
Отряды покинули старые места.
Но через несколько месяцев партизаны вернулись в Станьковский лес.
* * *
Однажды пошёл Марат в разведку с комсомольцем Александром Райковичем. Ушли разведчики, да что-то долго не возвращались. В отряде забеспокоились: уж не случилось ли что? Вдруг слышат: по лесной просеке мчится машина. Партизаны схватились за оружие, думали — фашисты. А как увидели, в чём дело, рассмеялись. В офицерской штабной машине восседали Марат с Александром. Разведчики сумели в тот раз добыть ценные сведения и у врага из-под носа угнали машину. Но когда уходили «на работу» подрывники во главе с Михаилом Павловичем, бывшим станьковским учителем, Марат сам провожал их завистливыми глазами. Давно хотелось ему сходить с Михаилом Павловичем на железную дорогу.
— Пристал ты ко мне, как репей! — сказал однажды минёр. — Вот идём сейчас к товарищу Баранову. Что он решит.
Однако и от Михаила Павловича зависело многое. Он повернул разговор так, что Баранов ответил:
— Что ж, я не возражаю, — и, обращаясь уже к Марату, сказал: — Ты, сынок, передай своему взводному наше решение и собирайся. Дорога у вас впереди нелёгкая.
Но когда уходили «на работу» подрывники во главе с Михаилом Павловичем, бывшим станьковским учителем, Марат сам провожал их завистливыми глазами. Давно хотелось ему сходить с Михаилом Павловичем на железную дорогу.
— Пристал ты ко мне, как репей! — сказал однажды минёр. — Вот идём сейчас к товарищу Баранову. Что он решит.
Однако и от Михаила Павловича зависело многое. Он повернул разговор так, что Баранов ответил:
— Что ж, я не возражаю, — и, обращаясь уже к Марату, сказал: — Ты, сынок, передай своему взводному наше решение и собирайся. Дорога у вас впереди нелёгкая.
 В группе Михаила Павловича десять человек. Всю дорогу приходилось быть очень осторожным, пробираясь мимо вражеских постов и застав.
На второй день пути группа вышла к деревне Глубокий Лог. Там жил партизанский связной. Чтобы двигаться дальше, надо было узнать у него, не грозит ли подрывникам опасность. Идти в Глубокий Лог днём было слишком рискованно. А ждать до темноты — значило потерять много времени.
И тут Марат неожиданно предложил:
— Я схожу!
Вытащил из рюкзака лапти с онучами, изодранную шапку. Всё это он прихватил с собой на всякий случай.
Быстро переодевшись, Марат пошёл в тихую, безлюдную деревню. Партизаны старались не выпускать его из виду, в случае чего готовы были сразу прийти на выручку. Но всё обошлось хорошо. Через полчаса Марат возвратился к своим товарищам.
— Михаил Павлович! Через Глубокий Лог утром немцы проезжали. Человек сорок. Они в Васильевке теперь. На Мостищи идти нельзя: засады.
В группе Михаила Павловича десять человек. Всю дорогу приходилось быть очень осторожным, пробираясь мимо вражеских постов и застав.
На второй день пути группа вышла к деревне Глубокий Лог. Там жил партизанский связной. Чтобы двигаться дальше, надо было узнать у него, не грозит ли подрывникам опасность. Идти в Глубокий Лог днём было слишком рискованно. А ждать до темноты — значило потерять много времени.
И тут Марат неожиданно предложил:
— Я схожу!
Вытащил из рюкзака лапти с онучами, изодранную шапку. Всё это он прихватил с собой на всякий случай.
Быстро переодевшись, Марат пошёл в тихую, безлюдную деревню. Партизаны старались не выпускать его из виду, в случае чего готовы были сразу прийти на выручку. Но всё обошлось хорошо. Через полчаса Марат возвратился к своим товарищам.
— Михаил Павлович! Через Глубокий Лог утром немцы проезжали. Человек сорок. Они в Васильевке теперь. На Мостищи идти нельзя: засады.
 Из донесения разведки подрывники поняли: шагать и шагать им теперь обходными путями.
Шли партизаны шагом — гуськом, на расстоянии двух-трёх метров друг от друга. Ступали точно след в след. Марату приходилось прыгать, чтобы попасть в след.
Апрельский снег на дорогах стал водянистый. И ноги часто проваливались до самой воды.
Завечерело. Время от времени в небо взлетали ракеты, освещая всю округу. Тогда бойцы падали на мёрзлую землю. Марат повредил себе руку. Было больно. Он едва не вскрикнул. Лёжа на талом снегу, Марат ясно услышал метрах в десяти немецкую речь. Становилось всё холодней. Мокрые ветви обмёрзли. Когда партизаны отводили их рукой, они звенели.
Спина у Марата стала мокрой от пота, ноги подкашивались. Думал он только об одном: «Скорей бы взорвать».
Какой же счастливой показалась мальчику та минута, когда увидел он сноп искр, вылетавших из трубы паровоза. Михаил Павлович крепко стиснул мальчику локоть.
Тяжело дыша, вынырнули из темноты партизаны — они закладывали взрывчатку. Один из них передал Михаилу Павловичу что-то в руки и лёг. Рядом расположились остальные.
— Так, — произнёс полушёпотом Михаил Павлович, — так… теперь можно… Марат, держи-ка! — протянул мальчику подрывную машинку, от которой тянулся электропровод к минам. — Когда скажу— крутнёшь ручку, как я тебя учил…
Поезд шёл на большой скорости. Рявкнул гудок паровоза, и почти в тот же миг Михаил Павлович крикнул:
— Давай, Марат!
Мальчик повернул рукоятку подрывной машинки. Короткая вспышка озарила платформы и стоящие на них орудия. Гул пронёсся по лесу.
Горячей воздушной волной Марата оттолкнуло назад. Но он не отрывал взгляда от железнодорожного полотна. Вагоны с грохотом катились под откос, натыкаясь друг на друга.
— Отходи! — прозвучала команда Михаила Павловича. Пробираясь цепочкой к условленному месту, партизаны отчётливо слышали вопли искалеченных фашистских солдат.
Радость не покидала Марата всю дорогу. «Сегодня и я отомстил им!» — думал мальчик, шагая за Михаилом Павловичем.
Михаил Павлович точно видел под талым снегом все лесные тропинки. Выбирал из них те, что вели к партизанскому лагерю. Под сапогами хрустел ледок. Подмораживало. Опять хотела взять верх зима. Но уже было видно: весна скоро осилит её.
И осилила!
Из донесения разведки подрывники поняли: шагать и шагать им теперь обходными путями.
Шли партизаны шагом — гуськом, на расстоянии двух-трёх метров друг от друга. Ступали точно след в след. Марату приходилось прыгать, чтобы попасть в след.
Апрельский снег на дорогах стал водянистый. И ноги часто проваливались до самой воды.
Завечерело. Время от времени в небо взлетали ракеты, освещая всю округу. Тогда бойцы падали на мёрзлую землю. Марат повредил себе руку. Было больно. Он едва не вскрикнул. Лёжа на талом снегу, Марат ясно услышал метрах в десяти немецкую речь. Становилось всё холодней. Мокрые ветви обмёрзли. Когда партизаны отводили их рукой, они звенели.
Спина у Марата стала мокрой от пота, ноги подкашивались. Думал он только об одном: «Скорей бы взорвать».
Какой же счастливой показалась мальчику та минута, когда увидел он сноп искр, вылетавших из трубы паровоза. Михаил Павлович крепко стиснул мальчику локоть.
Тяжело дыша, вынырнули из темноты партизаны — они закладывали взрывчатку. Один из них передал Михаилу Павловичу что-то в руки и лёг. Рядом расположились остальные.
— Так, — произнёс полушёпотом Михаил Павлович, — так… теперь можно… Марат, держи-ка! — протянул мальчику подрывную машинку, от которой тянулся электропровод к минам. — Когда скажу— крутнёшь ручку, как я тебя учил…
Поезд шёл на большой скорости. Рявкнул гудок паровоза, и почти в тот же миг Михаил Павлович крикнул:
— Давай, Марат!
Мальчик повернул рукоятку подрывной машинки. Короткая вспышка озарила платформы и стоящие на них орудия. Гул пронёсся по лесу.
Горячей воздушной волной Марата оттолкнуло назад. Но он не отрывал взгляда от железнодорожного полотна. Вагоны с грохотом катились под откос, натыкаясь друг на друга.
— Отходи! — прозвучала команда Михаила Павловича. Пробираясь цепочкой к условленному месту, партизаны отчётливо слышали вопли искалеченных фашистских солдат.
Радость не покидала Марата всю дорогу. «Сегодня и я отомстил им!» — думал мальчик, шагая за Михаилом Павловичем.
Михаил Павлович точно видел под талым снегом все лесные тропинки. Выбирал из них те, что вели к партизанскому лагерю. Под сапогами хрустел ледок. Подмораживало. Опять хотела взять верх зима. Но уже было видно: весна скоро осилит её.
И осилила!
* * *
В мае, когда Марат Казей отправился в новую разведку, берёзы стояли усыпанные зелёным пушком. Впереди ехал начальник разведки Михаил Ларин. …Выехали на опушку. — На-ка, глянь, — Ларин протянул свой бинокль пареньку. — У тебя глаза поострее… Пока разведчики ехали лесом, заметно стемнело. Выехали на опушку леса. Марат сразу же залез на дерево. Ему удалось разглядеть лежащую впереди деревеньку. По всем приметам, фашистов в ней не было. Но всё-таки Ларин решил переждать в лесу и ночью пробраться в деревню. Деревня, казалось, вымерла: ни звука, ни огонька. Но разведчики знали: тишина бывает обманчива, особенно ночью. Марат нащупывал гранаты за поясом. А бывалый конь его ступал осторожно. Задворками партизаны подъехали к хате, которая ничем не выделялась среди других хат. Ларин постучал рукояткой плети в окно. Никто не ответил. Было слышно, как в хлеву вздыхал телёнок. Постучали ещё. В темноте окна проплыл огонёк свечи. Дверь отпер старик в холщовой рубахе. Не спрашивая, кто пожаловал к нему в такой поздний час, он пропустил гостей вперёд. — Дед, на заре подымешь нас, — сказал Ларин старому белорусу, молча стоящему перед ним с огарком свечи. — Устали мы… Да и кони пусть передохнут. Ты уж покорми их чем-нибудь. Хозяин кивнул. Марата неудержимо тянуло ко сну. Не раздеваясь, улёгся он на жёсткой лавке. Лишь только закрыл глаза, как Ларин затряс его: — Скорее! Фашисты! Марат вскочил, нашарил автомат. — На коней и к лесу! — командовал Ларин. — Держи прямо к бору! А я правее… Низко пригнувшись к лошадиной гриве, Марат смотрел только вперёд, на зубчатый край леса, чуть видный в предрассветной мгле. А вдогонку уже летели вражеские пули. Вдруг неожиданно застрекотал пулемёт, и конь под Маратом рухнул на землю. Не чувствуя боли от падения, Марат побежал по полю к кустам. Они были совсем близко, высокие, густые. «Только бы добежать!» Оставшуюся сотню метров мальчик уже полз — пули свистели с разных сторон.
Марат вытащил из-за пояса две гранаты, положил их перед собой.
По полю длинной цепью двигались фашисты. Шли смело: знали — в кустах всего-навсего один партизан.
Низко пригнувшись к лошадиной гриве, Марат смотрел только вперёд, на зубчатый край леса, чуть видный в предрассветной мгле. А вдогонку уже летели вражеские пули. Вдруг неожиданно застрекотал пулемёт, и конь под Маратом рухнул на землю. Не чувствуя боли от падения, Марат побежал по полю к кустам. Они были совсем близко, высокие, густые. «Только бы добежать!» Оставшуюся сотню метров мальчик уже полз — пули свистели с разных сторон.
Марат вытащил из-за пояса две гранаты, положил их перед собой.
По полю длинной цепью двигались фашисты. Шли смело: знали — в кустах всего-навсего один партизан.
 Марат не знал, что Ларин не успел добраться до леса, что убит он с конём посреди поля.
У мальчика была ещё надежда, что вот сейчас вместе с ним застрочит по фашистам ещё один автомат. Выпустив длинную очередь, Марат прислушался. Нет, он остался один. Надо экономить патроны.
Враги залегли, но почему-то не стреляли. А через несколько минут цепь поднялась.
Вот она приближается к укрытию юного партизана. Уже можно различить, что в центре вышагивает офицер. Марат долго целился в него. Автомат, казалось, застрочил сам, злобно и метко. Фашисты снова ткнулись в землю. А когда они поднялись, офицера уже не было. Да и цепь заметно поредела.
Марат припал к дрожащему автомату. И тут кончились патроны! Фашисты словно почувствовали это. Они уже бежали, обходя кустарник с обеих сторон. И только теперь Марат понял: его хотят схватить живым.
Марат выждал, пока гитлеровцы подбежали совсем близко. Швырнул в них гранату. Послышались дикие крики и стоны. Теперь мальчик поднялся во весь рост:
— Берите же меня! Ну!
В кулаке Марат зажал вторую, вот-вот готовую разорваться гранату. Но не выпустил её из рук. Раздался взрыв!
От взрыва полегло ещё несколько гитлеровцев.
Это случилось 11 мая 1944 года.
Марат не знал, что Ларин не успел добраться до леса, что убит он с конём посреди поля.
У мальчика была ещё надежда, что вот сейчас вместе с ним застрочит по фашистам ещё один автомат. Выпустив длинную очередь, Марат прислушался. Нет, он остался один. Надо экономить патроны.
Враги залегли, но почему-то не стреляли. А через несколько минут цепь поднялась.
Вот она приближается к укрытию юного партизана. Уже можно различить, что в центре вышагивает офицер. Марат долго целился в него. Автомат, казалось, застрочил сам, злобно и метко. Фашисты снова ткнулись в землю. А когда они поднялись, офицера уже не было. Да и цепь заметно поредела.
Марат припал к дрожащему автомату. И тут кончились патроны! Фашисты словно почувствовали это. Они уже бежали, обходя кустарник с обеих сторон. И только теперь Марат понял: его хотят схватить живым.
Марат выждал, пока гитлеровцы подбежали совсем близко. Швырнул в них гранату. Послышались дикие крики и стоны. Теперь мальчик поднялся во весь рост:
— Берите же меня! Ну!
В кулаке Марат зажал вторую, вот-вот готовую разорваться гранату. Но не выпустил её из рук. Раздался взрыв!
От взрыва полегло ещё несколько гитлеровцев.
Это случилось 11 мая 1944 года.
* * *
На то место, где «держал оборону» юный партизан-разведчик, приходят новые вёсны. Над весело зеленеющей поляной стоит лёгкий дымок. О чём-то хлопочут в берёзах птицы. Там жители окрестных деревень поставили памятник. На родину Марата, в деревню Станьково, идут и идут отряды пионеров. Много километров проходят ребята, чтобы посмотреть на старый Станьковский парк, на реку и на хатку за рекой. В ней жил тот самый мальчик, что в свои 14 лет стал Героем Советского Союза,* * *
За участие в боевых операциях юный партизан награждён медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени. 9 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Марату Казею посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Славное имя Марата Казея носят многие пионерские отряды. Ежегодно 11 мая, в день гибели Марата, у его могилы собираются боевые друзья, родные, представители различных делегаций, приезжающие почтить память героя. В Станьково в этот день приезжают пионеры школы № 54 г. Минска. Пионерской дружине этой школы первой в Белоруссии присвоено имя Марата Казея. В городе Минске открыт памятник юному герою.* * *
Постановлением Совета Министров РСФСР одному из кораблей Советского флота присвоено имя Марата Казея.

МУСЯ ПИНКЕНЗОН Ицкович Саул Наумович
 Мусик помогал матери укладывать вещи в чемодан.
— Мама! А мы вернёмся обратно?..
— Конечно, вернёмся! — Феня Моисеевна посмотрела на сына.
Как он вырос… Ещё вроде совсем недавно ему было четыре года, когда она впервые повела его к учителю музыки…
Как-то на прогулке с отцом Мусик в одном из окон дома услышал скрипку. Невидимый скрипач играл пьесу Паганини.
Мусик остановился и застыл. Музыка словно зачаровала его.
Владимир Борисович посмотрел на сына и увидел, как губы его повторяли услышанную мелодию.
Потом, дома, Мусик разыскал во дворе две палочки и стал «наигрывать» на палочках запомнившуюся мелодию, напевая её. За этим занятием и застала его мать.
Вечером, когда Владимир Борисович пришёл из больницы, она всё ему рассказала.
Он подозвал к себе Мусика.
— Купить тебе скрипку, сынок? Будешь играть?
— Буду, буду! — радостно запрыгал Мусик.
И вот первый урок…
Учитель музыки, маэстро Эккельринг, увидел в своём маленьком ученике очень одарённого ребёнка и уделял ему много внимания…
Пяти лет Мусик впервые выступил в концерте, и в газете города Бельцы отметили игру пятилетнего вундеркинда…
Это было тогда…
Феня Моисеевна смотрела на сына, и в глазах её были слёзы. Теперь надо уезжать из города.
Всё чаще и чаще гудели фашистские самолёты над Бельцами.
Где-то на границе, на берегах Прута, шли ожесточённые бои…
«Срочно эвакуировать из города женщин и детей!» — такое решение приняли в городском комитете партии.
— Мама, ты зачем плачешь?
— Я не плачу, — Феня Моисеевна нагнулась к раскрытому чемодану и стала продолжать укладывать вещи.
В комнату вбежал Владимир Борисович.
— Через час уходит последний поезд. Собирайтесь. Я получил направление в военный госпиталь в Усть-Лабинскую. Бабушку и дедушку я уже отправил на вокзал.
— Папа, а скрипку брать?
Отец не успел ответить, его опередила Феня Моисеевна.
— И скрипку, и пижамку тоже…
Мусик утомлённо опустился на стул. Скрипичные концерты Баха, Паганини, Чайковского никак не могли уместиться в его нотной папке.
Неужели придётся их оставить? И вдруг его осенило. Дождавшись, пока мать вышла в другую комнату, он незаметно для отца вытащил из чемодана свою пижамку, свитер и уложил на самое дно, под отцовские брюки, пачку нотных тетрадей. А на полках ещё оставались пьесы Сен-Санса, Дворжака, Моцарта…
Моцарт… Сколько сил было затрачено, пока он вместе с маэстро разучил его Второй концерт. Как он мечтал сыграть эту интереснейшую вещь на олимпиаде в Кишинёве. Всю ночь перед выступлением Мусик провёл без сна, у открытого окна гостиницы, где остановилась делегация бельцких школьников. Рядом на столике отдыхала скрипка, уставшая, как и её хозяин, после трудных, но радостных репетиций.
— Моцарта, как и Баха, нельзя играть небрежно, — говорил ему маэстро.
Но сыграть моцартовский концерт Мусику не удалось. 22 июня 1941 года не состоялось торжественное открытие первой республиканской олимпиады художественной самодеятельности школьников Молдавии. В то утро пришла война.
Они торопливо шагали по улицам города. Мусик еле-еле поспевал за отцом.
На улицах не горел ни один фонарь. Город словно притаился, замер. В темноте трудно было различить дома. Всё слилось в ночь.
Только изредка вспыхивали фары машин и освещали мостовые и тротуары, по которым торопились люди на вокзал. Поскрипывали тачки и детские коляски; нагруженные домашним скарбом. Повсюду слышались крики кто-то кого-то терял и вновь находил в этой суматохе и темноте…
— Мусик! Му-сик! — вскрикивала Феня Моисеевна, боясь потерять сына…
— Здесь я, ма-ма! И папа тоже здесь, рядом…
На вокзале они с трудом втиснулись в переполненную теплушку, на которой мелом было выведено: «До Усть-Лабинской».
Поезд ушёл поздно ночью.
Мусик проснулся и услышал, как стучат о рельсы колёса: «Прощай! Про-щай!..»
Всё дальше увозил поезд его, маму, папу, бабушку, дедушку от родного города, где осталось столько хорошего, радостного, незабываемого…
Мелькали станции, полустанки с незнакомыми названиями, и всё тяжелее и тяжелее было на сердце.
Вторую неделю они в пути. Сколько ещё ехать — неизвестно, а поезд всё идёт и идёт… идёт медленно, с перебоями, останавливаясь по нескольку раз в день. А навстречу им проносятся военные эшелоны, из теплушек глядят красноармейцы, на платформах замаскированные танки, орудия…
На одной из станций во время длительной стоянки Владимир Борисович побежал за кипятком.
Мусик подошёл к двери теплушки, чтобы подышать свежим воздухом— в теплушке было душно.
Мальчик сделал несколько шагов, и ноги его подкосились.
Феня Моисеевна подскочила к сыну, удержала его.
— Мама, дай скрипку… Я поиграю…
Феня Моисеевна отошла и тут же вернулась.
Мусик взял скрипку, дотронулся смычком до струн. Смычок прошёлся по струнам, и скрипка ответила лёгким неуверенным звуком.
Пересилив слабость, Мусик снова поднял руку со смычком и коснулся струн. Скрипка запела.
Её звуки привлекли внимание пассажиров в теплушке и на перроне станции.
Люди останавливались, смотрели на маленького музыканта и слушали. Они словно забыли, что позади была трудная дорога и что впереди ещё неизвестно, сколько ехать, и неизвестно, что ожидает на новом месте.
Мусик помогал матери укладывать вещи в чемодан.
— Мама! А мы вернёмся обратно?..
— Конечно, вернёмся! — Феня Моисеевна посмотрела на сына.
Как он вырос… Ещё вроде совсем недавно ему было четыре года, когда она впервые повела его к учителю музыки…
Как-то на прогулке с отцом Мусик в одном из окон дома услышал скрипку. Невидимый скрипач играл пьесу Паганини.
Мусик остановился и застыл. Музыка словно зачаровала его.
Владимир Борисович посмотрел на сына и увидел, как губы его повторяли услышанную мелодию.
Потом, дома, Мусик разыскал во дворе две палочки и стал «наигрывать» на палочках запомнившуюся мелодию, напевая её. За этим занятием и застала его мать.
Вечером, когда Владимир Борисович пришёл из больницы, она всё ему рассказала.
Он подозвал к себе Мусика.
— Купить тебе скрипку, сынок? Будешь играть?
— Буду, буду! — радостно запрыгал Мусик.
И вот первый урок…
Учитель музыки, маэстро Эккельринг, увидел в своём маленьком ученике очень одарённого ребёнка и уделял ему много внимания…
Пяти лет Мусик впервые выступил в концерте, и в газете города Бельцы отметили игру пятилетнего вундеркинда…
Это было тогда…
Феня Моисеевна смотрела на сына, и в глазах её были слёзы. Теперь надо уезжать из города.
Всё чаще и чаще гудели фашистские самолёты над Бельцами.
Где-то на границе, на берегах Прута, шли ожесточённые бои…
«Срочно эвакуировать из города женщин и детей!» — такое решение приняли в городском комитете партии.
— Мама, ты зачем плачешь?
— Я не плачу, — Феня Моисеевна нагнулась к раскрытому чемодану и стала продолжать укладывать вещи.
В комнату вбежал Владимир Борисович.
— Через час уходит последний поезд. Собирайтесь. Я получил направление в военный госпиталь в Усть-Лабинскую. Бабушку и дедушку я уже отправил на вокзал.
— Папа, а скрипку брать?
Отец не успел ответить, его опередила Феня Моисеевна.
— И скрипку, и пижамку тоже…
Мусик утомлённо опустился на стул. Скрипичные концерты Баха, Паганини, Чайковского никак не могли уместиться в его нотной папке.
Неужели придётся их оставить? И вдруг его осенило. Дождавшись, пока мать вышла в другую комнату, он незаметно для отца вытащил из чемодана свою пижамку, свитер и уложил на самое дно, под отцовские брюки, пачку нотных тетрадей. А на полках ещё оставались пьесы Сен-Санса, Дворжака, Моцарта…
Моцарт… Сколько сил было затрачено, пока он вместе с маэстро разучил его Второй концерт. Как он мечтал сыграть эту интереснейшую вещь на олимпиаде в Кишинёве. Всю ночь перед выступлением Мусик провёл без сна, у открытого окна гостиницы, где остановилась делегация бельцких школьников. Рядом на столике отдыхала скрипка, уставшая, как и её хозяин, после трудных, но радостных репетиций.
— Моцарта, как и Баха, нельзя играть небрежно, — говорил ему маэстро.
Но сыграть моцартовский концерт Мусику не удалось. 22 июня 1941 года не состоялось торжественное открытие первой республиканской олимпиады художественной самодеятельности школьников Молдавии. В то утро пришла война.
Они торопливо шагали по улицам города. Мусик еле-еле поспевал за отцом.
На улицах не горел ни один фонарь. Город словно притаился, замер. В темноте трудно было различить дома. Всё слилось в ночь.
Только изредка вспыхивали фары машин и освещали мостовые и тротуары, по которым торопились люди на вокзал. Поскрипывали тачки и детские коляски; нагруженные домашним скарбом. Повсюду слышались крики кто-то кого-то терял и вновь находил в этой суматохе и темноте…
— Мусик! Му-сик! — вскрикивала Феня Моисеевна, боясь потерять сына…
— Здесь я, ма-ма! И папа тоже здесь, рядом…
На вокзале они с трудом втиснулись в переполненную теплушку, на которой мелом было выведено: «До Усть-Лабинской».
Поезд ушёл поздно ночью.
Мусик проснулся и услышал, как стучат о рельсы колёса: «Прощай! Про-щай!..»
Всё дальше увозил поезд его, маму, папу, бабушку, дедушку от родного города, где осталось столько хорошего, радостного, незабываемого…
Мелькали станции, полустанки с незнакомыми названиями, и всё тяжелее и тяжелее было на сердце.
Вторую неделю они в пути. Сколько ещё ехать — неизвестно, а поезд всё идёт и идёт… идёт медленно, с перебоями, останавливаясь по нескольку раз в день. А навстречу им проносятся военные эшелоны, из теплушек глядят красноармейцы, на платформах замаскированные танки, орудия…
На одной из станций во время длительной стоянки Владимир Борисович побежал за кипятком.
Мусик подошёл к двери теплушки, чтобы подышать свежим воздухом— в теплушке было душно.
Мальчик сделал несколько шагов, и ноги его подкосились.
Феня Моисеевна подскочила к сыну, удержала его.
— Мама, дай скрипку… Я поиграю…
Феня Моисеевна отошла и тут же вернулась.
Мусик взял скрипку, дотронулся смычком до струн. Смычок прошёлся по струнам, и скрипка ответила лёгким неуверенным звуком.
Пересилив слабость, Мусик снова поднял руку со смычком и коснулся струн. Скрипка запела.
Её звуки привлекли внимание пассажиров в теплушке и на перроне станции.
Люди останавливались, смотрели на маленького музыканта и слушали. Они словно забыли, что позади была трудная дорога и что впереди ещё неизвестно, сколько ехать, и неизвестно, что ожидает на новом месте.
 Люди слушали музыку, и она уводила их из теплушки, с перрона станции куда-то в иной мир, в их светлую и радостную жизнь, о которой они теперь только могли вспоминать.
Всё кругом говорило о войне, о большом несчастье, которое обрушилось на их Родину, а музыка пела о том, что счастье будет, будет…
Мусик играл, и звуки лились легко и свободно. Вот последний взмах смычка, и звуки повисли в воздухе, словно застыли. Застыли и слушатели.
Мусик закончил играть. Никто не расходился. Все молчали. Каждый думал о своём: о том, что где-то далеко идут бои и чей-то отец или сын борется с гитлеровскими захватчиками, отдаёт свою жизнь, чтоб вновь вернуть свободу своей Родине.
— Мальчик, мальчик! — послышался голос.
Мусик обернулся — солдат из соседнего воинского эшелона махал ему рукой и звал к себе.
Феня Моисеевна ухватила сына за рукав курточки.
— Что вы испугались, мамаша, — сказал солдат, подходя к их вагону. — Пусть малец сыграет нам…
Мусик спрыгнул на перрон и подошёл вместе с солдатом к воинскому эшелону.
Около одного из вагонов стояли полукругом красноармейцы и ждали.
— Сыграй, мальчик! На фронт едем!..
И Мусик заиграл. Скрипка то пела о девушке Сулико, то о широком полюшке-поле, то о весёлом ветре.
Владимир Борисович с чайником в руках остановился у вагона и смотрел на сына.
Внезапно отрывистый гудок паровоза заглушил мелодию скрипки.
— По вагонам! — раздалась команда.
— Живи, малец! Играй! — бросил на ходу солдат и сунул мальчику буханку хлеба и кусок сахара.
Мусик глядел вслед уходящему эшелону. Вот последний вагон скрылся за кирпичным зданием станции, увозя солдат на войну.
«Возвращайтесь скорее, — подумал Мусик, — и обязательно с победой!»
На двадцатый день поезд с эвакуированными остановился на станции Усть-Лабинская. Эвакуированных разместили на телегах и повезли степью. В станице всех распределили по домам станичников.
Владимир Борисович сразу же вечером пошёл в госпиталь. Феня Моисеевна разбирала хозяйство и устраивалась на новом месте.
Был уже сентябрь месяц, и Мусик начал учиться в пятом классе местной школы.
Когда Мусик вошёл в свой класс, ребята весело закричали:
— Галина Васильевна, это Мусик Пинкензон! Он из Молдавии приехал. У него папа работает в госпитале, где мы выступали. Они живут у Полины Ивановны Калёновой.
— Тише, ребята! Мы сейчас познакомимся, — она ласково посмотрела на нового ученика. — Проходи, Мусик, садись. Не стесняйся. Проходи. Ребята у нас дружные, не обидят.
На перемене ребята окружили Мусика:
— Ты в каком городе жил?
— А ты с нами пойдёшь в госпиталь к раненым?
— Мы там выступаем!
— Пойдёшь? А что ты умеешь играть?..
Люди слушали музыку, и она уводила их из теплушки, с перрона станции куда-то в иной мир, в их светлую и радостную жизнь, о которой они теперь только могли вспоминать.
Всё кругом говорило о войне, о большом несчастье, которое обрушилось на их Родину, а музыка пела о том, что счастье будет, будет…
Мусик играл, и звуки лились легко и свободно. Вот последний взмах смычка, и звуки повисли в воздухе, словно застыли. Застыли и слушатели.
Мусик закончил играть. Никто не расходился. Все молчали. Каждый думал о своём: о том, что где-то далеко идут бои и чей-то отец или сын борется с гитлеровскими захватчиками, отдаёт свою жизнь, чтоб вновь вернуть свободу своей Родине.
— Мальчик, мальчик! — послышался голос.
Мусик обернулся — солдат из соседнего воинского эшелона махал ему рукой и звал к себе.
Феня Моисеевна ухватила сына за рукав курточки.
— Что вы испугались, мамаша, — сказал солдат, подходя к их вагону. — Пусть малец сыграет нам…
Мусик спрыгнул на перрон и подошёл вместе с солдатом к воинскому эшелону.
Около одного из вагонов стояли полукругом красноармейцы и ждали.
— Сыграй, мальчик! На фронт едем!..
И Мусик заиграл. Скрипка то пела о девушке Сулико, то о широком полюшке-поле, то о весёлом ветре.
Владимир Борисович с чайником в руках остановился у вагона и смотрел на сына.
Внезапно отрывистый гудок паровоза заглушил мелодию скрипки.
— По вагонам! — раздалась команда.
— Живи, малец! Играй! — бросил на ходу солдат и сунул мальчику буханку хлеба и кусок сахара.
Мусик глядел вслед уходящему эшелону. Вот последний вагон скрылся за кирпичным зданием станции, увозя солдат на войну.
«Возвращайтесь скорее, — подумал Мусик, — и обязательно с победой!»
На двадцатый день поезд с эвакуированными остановился на станции Усть-Лабинская. Эвакуированных разместили на телегах и повезли степью. В станице всех распределили по домам станичников.
Владимир Борисович сразу же вечером пошёл в госпиталь. Феня Моисеевна разбирала хозяйство и устраивалась на новом месте.
Был уже сентябрь месяц, и Мусик начал учиться в пятом классе местной школы.
Когда Мусик вошёл в свой класс, ребята весело закричали:
— Галина Васильевна, это Мусик Пинкензон! Он из Молдавии приехал. У него папа работает в госпитале, где мы выступали. Они живут у Полины Ивановны Калёновой.
— Тише, ребята! Мы сейчас познакомимся, — она ласково посмотрела на нового ученика. — Проходи, Мусик, садись. Не стесняйся. Проходи. Ребята у нас дружные, не обидят.
На перемене ребята окружили Мусика:
— Ты в каком городе жил?
— А ты с нами пойдёшь в госпиталь к раненым?
— Мы там выступаем!
— Пойдёшь? А что ты умеешь играть?..
 Вечером ребята принарядились и, собравшись в школе все вместе, отправились в госпиталь к раненым.
В сопровождении медсестры они вошли в палату.
Раненые собирались на концерт охотно. Они размещались на койках друг у друга, приносили, кто мог, табуретки.
Когда все расселись, вышла ведущая концерта Ира Семеникина и объявила первый номер:
— Дорогие товарищи раненые, защитники нашей Родины! Начинаем концерт пионеров нашей школы. Выступает Муся Пинкензон.
Он приехал со своими родителями из Молдавии. Его папа работает врачом-хирургом в этом госпитале.
Вышел Муся и стал играть и петь. Песня сменялась песней, а раненые просили ещё и ещё.
Вместе с ребятами Муся переходил из одной палаты в другую, и концерт продолжался до позднего вечера. Усталые и довольные, ребята расходились по домам.
Так началась новая жизнь.
В школе Мусик проводил целые дни, а под вечер он шёл в госпиталь, где допоздна играл раненым Чайковского, Паганини, «Катюшу» и «Сулико»…
Владимир Борисович все дни пропадал в госпитале. Он никак не мог выбраться домой, чтобы повидаться с семьёй.
Однажды он пришёл поздно и попросил Мусика срочно пойти с ним в госпиталь.
— Понимаешь, сынок, ты мне должен помочь! Сегодня привезли к нам тяжелораненого лётчика. Он всё время кричит от диких болей. Поиграй ему.
Когда Мусик вошёл с отцом в палату, лётчик стонал. Стоявшая рядом с ним медсестра старалась его успокоить, но лётчик не слышал её уговоров.
Мусик тронул смычком струны, и раненый лётчик обернулся в сторону звуков, удивлённо посмотрел на появившегося в палате скрипача и затих.
Мелодия сменялась мелодией. Мусик играл, а раненый лежал и слушал.
Когда мальчик кончил играть, лётчик подозвал его к себе и сказал:
— Спасибо, сынок. Я потерплю. Я буду жить! Я обязательно буду жить и буду бить фашистов…
Фронт приблизился к станице Усть-Лабинской.
Всё чаще стали слышаться разрывы снарядов где-то со стороны Кубани.
Госпиталь готовили к эвакуации.
Владимир Борисович занимался отправкой раненых и продолжал делать операции тем, кого ещё не успели вывезти…
Немецкие войска вошли в станицу настолько неожиданно, что многие жители не успели никуда выехать.
Среди оставшихся в станице семей была и семья Пинкензонов.
Когда солдаты вошли в палату, Владимир Борисович делал операцию.
Офицер, говоря по-русски, бросил:
— Прекратите операцию, доктор. Всё равно мы расстреляем вашего пациента. У нас много своих раненых, и они нуждаются в вашей помощи.
Я не могу приостановить операцию, — ответил хирург, — и прошу вас выйти из палаты…
— Вы большевик?
— Нет…
— Тогда почему?..
Вечером ребята принарядились и, собравшись в школе все вместе, отправились в госпиталь к раненым.
В сопровождении медсестры они вошли в палату.
Раненые собирались на концерт охотно. Они размещались на койках друг у друга, приносили, кто мог, табуретки.
Когда все расселись, вышла ведущая концерта Ира Семеникина и объявила первый номер:
— Дорогие товарищи раненые, защитники нашей Родины! Начинаем концерт пионеров нашей школы. Выступает Муся Пинкензон.
Он приехал со своими родителями из Молдавии. Его папа работает врачом-хирургом в этом госпитале.
Вышел Муся и стал играть и петь. Песня сменялась песней, а раненые просили ещё и ещё.
Вместе с ребятами Муся переходил из одной палаты в другую, и концерт продолжался до позднего вечера. Усталые и довольные, ребята расходились по домам.
Так началась новая жизнь.
В школе Мусик проводил целые дни, а под вечер он шёл в госпиталь, где допоздна играл раненым Чайковского, Паганини, «Катюшу» и «Сулико»…
Владимир Борисович все дни пропадал в госпитале. Он никак не мог выбраться домой, чтобы повидаться с семьёй.
Однажды он пришёл поздно и попросил Мусика срочно пойти с ним в госпиталь.
— Понимаешь, сынок, ты мне должен помочь! Сегодня привезли к нам тяжелораненого лётчика. Он всё время кричит от диких болей. Поиграй ему.
Когда Мусик вошёл с отцом в палату, лётчик стонал. Стоявшая рядом с ним медсестра старалась его успокоить, но лётчик не слышал её уговоров.
Мусик тронул смычком струны, и раненый лётчик обернулся в сторону звуков, удивлённо посмотрел на появившегося в палате скрипача и затих.
Мелодия сменялась мелодией. Мусик играл, а раненый лежал и слушал.
Когда мальчик кончил играть, лётчик подозвал его к себе и сказал:
— Спасибо, сынок. Я потерплю. Я буду жить! Я обязательно буду жить и буду бить фашистов…
Фронт приблизился к станице Усть-Лабинской.
Всё чаще стали слышаться разрывы снарядов где-то со стороны Кубани.
Госпиталь готовили к эвакуации.
Владимир Борисович занимался отправкой раненых и продолжал делать операции тем, кого ещё не успели вывезти…
Немецкие войска вошли в станицу настолько неожиданно, что многие жители не успели никуда выехать.
Среди оставшихся в станице семей была и семья Пинкензонов.
Когда солдаты вошли в палату, Владимир Борисович делал операцию.
Офицер, говоря по-русски, бросил:
— Прекратите операцию, доктор. Всё равно мы расстреляем вашего пациента. У нас много своих раненых, и они нуждаются в вашей помощи.
Я не могу приостановить операцию, — ответил хирург, — и прошу вас выйти из палаты…
— Вы большевик?
— Нет…
— Тогда почему?..
 — Я врач, — перебил его Пинкензон.
— И всё-таки я советую вам хорошенько подумать. Это может сохранить вам жизнь.
— Нет!..
Офицер дал знак солдатам, они подскочили к Владимиру Борисовичу и оторвали его от операционного стола.
— Даю вам на обдумку сутки. — Офицер достал пистолет и выстрелил в раненого, лежащего на операционном столе.
Владимир Борисович вздрогнул и двинулся к офицеру.
Фашист навёл пистолет на хирурга, но остановился…
— Вас я ещё успею пристрелить, — бросил он Пинкензону и, кивнув солдатам следовать за ним, вышел из палаты.
Владимир Борисович постоял немного и пошёл, не снимая халата, домой.
Увидев его, идущего по улице в халате и операционных перчатках, Феня Моисеевна догадалась, что произошло что-то страшное. Она разрыдалась. Муся подскочил к ней со стаканом воды.
— Мама! Мамусенька! Не надо так. Успокойся…
Владимир Борисович вошёл в комнату и, снимая перчатки, сказал, что теперь можно ждать всего.
За отцом пришли на другой день.
Офицер повторил свой вопрос.
— Мне нечего обдумывать, — ответил Владимир Борисович и пошёл к выходу.
Муся кинулся было к отцу, но Феня Моисеевна удержала его.
— Феня, береги сына!..
Солдат толкнул Пинкензона в спину к двери. Его отвели к зданию бани, где немцы держали всех арестованных.
Доктора уговаривали согласиться на работу в госпитале, лечить немецких солдат. Грозили расстрелом, но Владимир Борисович был непоколебим.
Тогда его стали выгонять вместе со всеми арестованными на работы — рыть окопы. Когда он возвращался с работ, офицер снова вызызвал Пинкензона и снова предлагал работать в госпитале, но Пинкензон уже ничего не отвечал, лишь отрицательно кивал головой на предложение гитлеровца.
Вскоре арестовали Феню Моисеевну, Мусика.
Когда их ввели в комнату, где помещались арестованные, Владимир Борисович мог только сказать: «Я не мог, Феня, согласиться работать на них как врач!»
Для того чтобы запугать население станицы, фашисты. решили учинить расправу над арестованными. В числе приговорённых к смерти была и семья Пинкензонов.
Арестованных выводили на берег Кубани, туда же фашистские солдаты согнали жителей со всей станицы.
Муся шёл среди арестованных, одной рукой придерживая мать, в другой он нёс скрипку.
Солдаты с криками и бранью расставляли приговорённых к расстрелу вдоль железной ограды перед глубоким рвом.
Офицер поднял руку для сигнала солдатам, но опускать её не торопился.
— Господин офицер… — Владимир Борисович шагнул вперёд к офицеру. — Пощадите сына, он… — пуля оборвала его просьбу.
Мать бросилась к отцу, но автоматная очередь настигла и её.
В этот момент на офицера двинулась маленькая фигурка Муси.
В руках он держал скрипку.
Срывающимся от волнения голосом, мальчик проговорил:
— Разрешите… мне… перед смертью… сыграть мою любимую…песню…
Офицер навёл на мальчика дуло пистолета.
Муся повторил просьбу.
Офицер с любопытством поглядел на мальчика и махнул солдатам, чтобы они опустили автоматы.
— Играй!.. Играй! Понравится — будешь жить!
Муся положил футляр на землю, не торопясь открыл его и достал свою маленькую скрипку. Он бережно прижал её к подбородку, смычок взвился и заскользил по струнам. Сначала неуверенно, но вот мелодия вырвалась и поплыла над Кубанью.
Муся прижал голову к скрипке. И вот с каждым новым взмахом смычка яснее возникала понятная всем с детства мелодия гимна коммунаров. Всё увереннее и громче звучало: «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов»…
Фашистский офицер оцепенел от ярости.
— Перестань! — орал он, потрясая перед скрипачом пистолетом.
Но Муся не обращал на него внимания, он торопился. Надо ещё успеть, ещё немного… Раздался выстрел, за ним второй…
Муся опустился на колени, всё ещё держа в руках скрипку и пытаясь доиграть оборванную мелодию песни.
Автоматная очередь подкосила ноги скрипача, и он упал. Смычок выскользнул из рук, и скрипка замолчала навсегда вместе с прерванной жизнью маленького героя. Но стоявшие перед фашистскими палачами люди подхватили песню, и она продолжала звучать над рекой, пока последний из певших не упал, пробитый пулей.
…В седьмом «Б» 21-й железнодорожной школы города Чарджоу шёл урок русского языка. Ребята готовились к диктанту. Достав из портфеля газету, учительница подошла к той парте, за которой сидела Рузя Гендлер.
— Сегодня мы напишем с вами необычный диктант. Это рассказ о героическом поступке усть-лабинского пионера Мусика Пинкензона.
Текст диктанта из статьи Елены Кононенко в газете «Правда».
Рузе показалось, что она ослышалась.
Мусик?
Пинкензон?
Неужели?
Вот уже два года, как её родители силились хоть что-то узнать о судьбе семьи Пинкензонов, эвакуированных из Бельцов в Усть-Лабинскую.
Переспрашивать учительницу она не решилась.
Внимательно прислушиваясь к тексту, Рузя записывала слово в слово. Но когда она услышала: «В последний раз Мусик взмахнул смычком. Раздался выстрел. Маленький окровавленный скрипач упал», — ручка выскользнула из её рук, и она громко заплакала.
— Что с тобой, Рузя? — спросила учительница. — Успокойся, нельзя же так…
Сдерживая рыдания, девочка произнесла:
— Муся Пинкензон — мой брат, двоюродный…
Поражённые семиклассники в едином порыве поднялись со своих мест, учительница растерянно оглянулась:
— Садитесь, ребята, садитесь. Рузя сейчас успокоится…
Но семиклассники продолжали стоять. Мальчишки и девчонки молчаливо чтили память своего отважного сверстника.
С тех пор прошло много лет.
Никто не может точно указать, где был похоронен скрипач и его скрипка, хотя на месте расстрела и стоит многометровый обелиск.
Но прислушайтесь к посвисту ветра в степи у станицы Усть-Лабинской, к неумолкаемому шуму волн реки Кубани, к шелесту полновесных колосьев, и вы услышите мелодию «Интернационала».
Это звучит в наших сердцах мелодия бесстрашной скрипки двенадцатилетнего музыканта из молдавского города Бельцы — Мусика Пинкензона.
Он не закрыл грудью амбразуру дзота.
Не бросился со связкой гранат под гусеницы вражеского танка.
У него в руках была скрипка, и она поразила врага в самое сердце мелодией «Интернационала».
Смертью смерть поправ, маленький герой проявил великую силу духа.
Именно поэтому его имя стало символом бесстрашия для маленьких граждан нашей страны.
О нём помнят в Сороках и Бельцах, в Челябинской музыкальной школе-интернате, откуда идут письма к врачу Гендлеру, в станицу Усть-Лабинскую, где пионерская дружина школы № 1 носит имя Мусика Пинкензона.
Подвиг маленького скрипача вдохновил скульптора А. Лебедева.
В пятидесятых годах в Краснодарском историко-краеведческом музее экспонировалась его скульптура. Мусик, умирающий Мусик, прижимает к сердцу расстрелянную скрипку.
— Я врач, — перебил его Пинкензон.
— И всё-таки я советую вам хорошенько подумать. Это может сохранить вам жизнь.
— Нет!..
Офицер дал знак солдатам, они подскочили к Владимиру Борисовичу и оторвали его от операционного стола.
— Даю вам на обдумку сутки. — Офицер достал пистолет и выстрелил в раненого, лежащего на операционном столе.
Владимир Борисович вздрогнул и двинулся к офицеру.
Фашист навёл пистолет на хирурга, но остановился…
— Вас я ещё успею пристрелить, — бросил он Пинкензону и, кивнув солдатам следовать за ним, вышел из палаты.
Владимир Борисович постоял немного и пошёл, не снимая халата, домой.
Увидев его, идущего по улице в халате и операционных перчатках, Феня Моисеевна догадалась, что произошло что-то страшное. Она разрыдалась. Муся подскочил к ней со стаканом воды.
— Мама! Мамусенька! Не надо так. Успокойся…
Владимир Борисович вошёл в комнату и, снимая перчатки, сказал, что теперь можно ждать всего.
За отцом пришли на другой день.
Офицер повторил свой вопрос.
— Мне нечего обдумывать, — ответил Владимир Борисович и пошёл к выходу.
Муся кинулся было к отцу, но Феня Моисеевна удержала его.
— Феня, береги сына!..
Солдат толкнул Пинкензона в спину к двери. Его отвели к зданию бани, где немцы держали всех арестованных.
Доктора уговаривали согласиться на работу в госпитале, лечить немецких солдат. Грозили расстрелом, но Владимир Борисович был непоколебим.
Тогда его стали выгонять вместе со всеми арестованными на работы — рыть окопы. Когда он возвращался с работ, офицер снова вызызвал Пинкензона и снова предлагал работать в госпитале, но Пинкензон уже ничего не отвечал, лишь отрицательно кивал головой на предложение гитлеровца.
Вскоре арестовали Феню Моисеевну, Мусика.
Когда их ввели в комнату, где помещались арестованные, Владимир Борисович мог только сказать: «Я не мог, Феня, согласиться работать на них как врач!»
Для того чтобы запугать население станицы, фашисты. решили учинить расправу над арестованными. В числе приговорённых к смерти была и семья Пинкензонов.
Арестованных выводили на берег Кубани, туда же фашистские солдаты согнали жителей со всей станицы.
Муся шёл среди арестованных, одной рукой придерживая мать, в другой он нёс скрипку.
Солдаты с криками и бранью расставляли приговорённых к расстрелу вдоль железной ограды перед глубоким рвом.
Офицер поднял руку для сигнала солдатам, но опускать её не торопился.
— Господин офицер… — Владимир Борисович шагнул вперёд к офицеру. — Пощадите сына, он… — пуля оборвала его просьбу.
Мать бросилась к отцу, но автоматная очередь настигла и её.
В этот момент на офицера двинулась маленькая фигурка Муси.
В руках он держал скрипку.
Срывающимся от волнения голосом, мальчик проговорил:
— Разрешите… мне… перед смертью… сыграть мою любимую…песню…
Офицер навёл на мальчика дуло пистолета.
Муся повторил просьбу.
Офицер с любопытством поглядел на мальчика и махнул солдатам, чтобы они опустили автоматы.
— Играй!.. Играй! Понравится — будешь жить!
Муся положил футляр на землю, не торопясь открыл его и достал свою маленькую скрипку. Он бережно прижал её к подбородку, смычок взвился и заскользил по струнам. Сначала неуверенно, но вот мелодия вырвалась и поплыла над Кубанью.
Муся прижал голову к скрипке. И вот с каждым новым взмахом смычка яснее возникала понятная всем с детства мелодия гимна коммунаров. Всё увереннее и громче звучало: «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов»…
Фашистский офицер оцепенел от ярости.
— Перестань! — орал он, потрясая перед скрипачом пистолетом.
Но Муся не обращал на него внимания, он торопился. Надо ещё успеть, ещё немного… Раздался выстрел, за ним второй…
Муся опустился на колени, всё ещё держа в руках скрипку и пытаясь доиграть оборванную мелодию песни.
Автоматная очередь подкосила ноги скрипача, и он упал. Смычок выскользнул из рук, и скрипка замолчала навсегда вместе с прерванной жизнью маленького героя. Но стоявшие перед фашистскими палачами люди подхватили песню, и она продолжала звучать над рекой, пока последний из певших не упал, пробитый пулей.
…В седьмом «Б» 21-й железнодорожной школы города Чарджоу шёл урок русского языка. Ребята готовились к диктанту. Достав из портфеля газету, учительница подошла к той парте, за которой сидела Рузя Гендлер.
— Сегодня мы напишем с вами необычный диктант. Это рассказ о героическом поступке усть-лабинского пионера Мусика Пинкензона.
Текст диктанта из статьи Елены Кононенко в газете «Правда».
Рузе показалось, что она ослышалась.
Мусик?
Пинкензон?
Неужели?
Вот уже два года, как её родители силились хоть что-то узнать о судьбе семьи Пинкензонов, эвакуированных из Бельцов в Усть-Лабинскую.
Переспрашивать учительницу она не решилась.
Внимательно прислушиваясь к тексту, Рузя записывала слово в слово. Но когда она услышала: «В последний раз Мусик взмахнул смычком. Раздался выстрел. Маленький окровавленный скрипач упал», — ручка выскользнула из её рук, и она громко заплакала.
— Что с тобой, Рузя? — спросила учительница. — Успокойся, нельзя же так…
Сдерживая рыдания, девочка произнесла:
— Муся Пинкензон — мой брат, двоюродный…
Поражённые семиклассники в едином порыве поднялись со своих мест, учительница растерянно оглянулась:
— Садитесь, ребята, садитесь. Рузя сейчас успокоится…
Но семиклассники продолжали стоять. Мальчишки и девчонки молчаливо чтили память своего отважного сверстника.
С тех пор прошло много лет.
Никто не может точно указать, где был похоронен скрипач и его скрипка, хотя на месте расстрела и стоит многометровый обелиск.
Но прислушайтесь к посвисту ветра в степи у станицы Усть-Лабинской, к неумолкаемому шуму волн реки Кубани, к шелесту полновесных колосьев, и вы услышите мелодию «Интернационала».
Это звучит в наших сердцах мелодия бесстрашной скрипки двенадцатилетнего музыканта из молдавского города Бельцы — Мусика Пинкензона.
Он не закрыл грудью амбразуру дзота.
Не бросился со связкой гранат под гусеницы вражеского танка.
У него в руках была скрипка, и она поразила врага в самое сердце мелодией «Интернационала».
Смертью смерть поправ, маленький герой проявил великую силу духа.
Именно поэтому его имя стало символом бесстрашия для маленьких граждан нашей страны.
О нём помнят в Сороках и Бельцах, в Челябинской музыкальной школе-интернате, откуда идут письма к врачу Гендлеру, в станицу Усть-Лабинскую, где пионерская дружина школы № 1 носит имя Мусика Пинкензона.
Подвиг маленького скрипача вдохновил скульптора А. Лебедева.
В пятидесятых годах в Краснодарском историко-краеведческом музее экспонировалась его скульптура. Мусик, умирающий Мусик, прижимает к сердцу расстрелянную скрипку.
НИНА КУКОВЕРОВА Раевский Борис Маркович
 В короткой ветхой шубейке и платке, повязанном глухо, по-деревенски, с залатанной холщовой торбой через плечо, в сумерки возвратилась Нина в занесенную снегом лесную землянку.
В торбе стукались друг о друга, словно камни, черствые куски хлеба, несколько промерзших картофелин, две ссохшиеся свеклы.
Много бездомных голодных мальчишек и девчонок бродили в те тяжелые времена по большакам и проселкам из деревни в деревню, стучали в хмурые, темные окна изб, выпрашивая горсточку пшена, корку хлеба.
И Нина, чтобы не привлекать внимания немцев и полицаев, делала как все.
В партизанской землянке ее встретила подруга Катя:
— Ну как?
— Потом, — устало пробормотала Нина.
В землянке было тепло; иззябшую, голодную Нину сразу разморило. Очень хотелось есть, но еще больше спать. Трое суток скиталась по дорогам.
— Потом, — повторила Нина, легла на широкую скамью возле стены, с головой накрылась шубейкой и сразу заснула, словно провалилась куда-то глубоко-глубоко.
Вот Нина видит маленькую деревушку. Колодец с длинным, воткнутым в небо шестом-журавлем посреди тихой улицы. Нина сразу узнаёт — это же Нечеперть!
Мать всегда на лето вывозила сюда из Ленинграда всех троих детей: Нину и ее младших братишку и сестренку. Пусть досыта надышатся медвяным деревенским воздухом, поваляются на травке, вволю попьют теплого парного молока.
И вдруг — война…
И сейчас, во сне, Нина видит: деревня словно замерла, притаилась. Вот в сумерки приходит бабка Ульяна. Шамкая и крестясь, тревожно шепчет: немцы уже где-то рядом. Уже занята станция Шапки. Внучка уже видела серо-зеленые шинели в соседнем селе.
Нина беспокойно ворочается в землянке на скамье.
Шум, треск… Цепочка немецких мотоциклистов ворвалась в деревню. С грохотом промчались машины мимо молчащих, словно вымерших изб. Сквозь щель в задернутом окошке Нина видела: возле школы немцы остановились, посовещались. Один из них вошел в пустую школу, вскоре вернулся, и все, стрекоча моторами, поднимая пыль, понеслись дальше.
В деревне мотоциклисты не задержались. Толкнулись в несколько изб, подстрелили двух суматошных куриц и, оставив после себя едкую струю бензиновой гари, умчались так же внезапно, как и появились.
А когда стемнело, в избу, где жила Нина, осторожно постучали.
Вошли трое. Во сне Нина и сейчас видит их. Первый — высокий, под самый потолок, в сапогах и выгоревшем пиджачке. Пиджак был ему маловат: казалось, наклонись — треснет в плечах. И руки с большими, широкими, как лопаты, ладонями, далеко вылезали из рукавов.
Двое других были пониже и помоложе. Они не прошли в избу, а остановились у двери, привалившись к косяку.
Первый — его звали Тимофей — обвел Александру Степановну и детей изучающим, внимательным взглядом и негромко, властно, так, словно он здесь был хозяином, а не пришельцем, спросил:
— Куковеровы? Ленинградцы?
Александра Степановна — мать Нины — торопливо объяснила: муж на фронте, а они вот — застряли в деревне.
— Да, знаю. — Огромный Тимофей, шагая удивительно легко, неслышно подошел к окну, поверх занавески долго вглядывался вотьму. Вернулся к столу, сел, выложив на клеенку, словно напоказ, свои красные руки.
«Выйдите», — кивнул детям.
Олешка и Валя вышли в сени. Нина осталась: ей было четырнадцать лет, и она считала себя уже большой.
— Нам нужен хлеб, — сказал Тимофей негромко и весомо и остановился, словно ждал, как примет Александра Степановна его слова.
Она молчала. Молчала и Нина. Тимофей не сказал, кому — «нам», но и так было понятно.
Тимофей коротко объяснил: негде печь хлеб. Пусть Александра Степановна подсобит. Мать кивнула. Быстро договорились: как украдкой доставлять муку, когда удобнее забирать испеченные караваи.
Тимофей встал, шагнул к двери, но вдруг остановился. Спокойно и неторопливо, как все делал, оглядел Нину, подозвал к себе. Спросил, как зовут, в каком классе. Пионерка? А немецкий знает?
Нина отвечала, чуть подумав перед каждой фразой.
Это, видимо, особенно понравилось партизану. «Серьезная. Хоть и маленькая, а серьезная…»
Тимофей не знал, что Нина заикалась. С малых лет выработалась у нее привычка: прежде чем сказать что-то, сосредоточиться, сперва мысленно произнеси ответ и только потом уже вслух. Тогда звуки не цеплялись, не застревали. В школе учителя, прежде чем вызвать Нину к доске, говорили:
— Куковерова, приготовься!
И спрашивали другого. А пока Нина внутренне «собиралась», сосредоточивалась, как перед прыжком. Это ей помогало преодолеть заикание.
— Ваш дом — крайний в деревне. Так? — сказал Нине Тимофей.
Девочка кивнула. Она вообще предпочитала, когда можно, обходиться без слов.
— Издалека виден, — продолжал Тимофей.
Нина снова кивнула, хотя не понимала, куда он клонит.
А дом их крайний, на холме, и виден из-за реки и из лесочка. Это верно. Бывало, далеко уйдет Нина с ребятами по ягоды, по грибы, а нет-нет и мелькнет вдали их красная крыша с облупленной трубой.
— Поручение тебе, — сказал Тимофей и положил свою огромную руку ей на плечо. Нина была худенькой, и плечо утонуло у него в ладони. — Когда немцы в деревне, вывешивай бельишко на плетень. Ну будто стирала. Полотенца там, наволочки… Понятно?
Чего ж тут не понять?! Сигнал! Белье будет служить сигналом партизанам. Висит белье: «Стой! Не входи! В деревне немцы!» Нет белья — «Пожалуйста, рады гостям!»
— Смотри, — строго сказал Тимофей. — Не подведи!
— Не подведу! — твердо пообещала Нина.
С тех пор, как только в деревне появлялись немцы, Нина хватала старенькую скатерть, совала ее в бак с водой и вывешивала, мокрую, на плетень, там, где он был обращен к лесу, к реке. Нина не знала, где скрываются партизаны, но решила — в лесу.
…И сейчас, лежа в землянке на широкой жесткой скамье, Нина видела во сне, как Тимофей подходит к ней, кладет тяжелую руку на плечо и говорит:
— Молодцом!
— Нина, да Нина, проснись же…
Нина с трудом разлепила склеенные веки. Перед нею стояла Катя, осторожно, но настойчиво трясла за плечо.
— Вставай. Часа три уже спишь. Батов зовет.
Нина сразу вскочила. Батов — командир отряда.
Значит, что-то важное… Быстро сполоснула ледяной водой измятое лицо, пригладила волосы.
В командирской землянке было тихо. Батов один сидел у грубо сколоченного стола.
— Ну, дочка, рассказывай.
Нина проглотила комок в горле. У нее всегда слезы подступали, когда Батов называл дочкой. Отец Нины недавно погиб на фронте. И ни мать, ни Нина даже не знали, где могила солдата-артиллериста Куковерова. Да и есть ли она — могила?
Никогда уже отец не назовет ее дочкой. Никогда не споет вместе с Ниной о том, как одиноко стоит, качаясь, тонкая рябина и как в степи глухой замерзает ямщик. А Батов, как нарочно, очень похож на отца. Тоже невысокий, коренастый, простой. Впервые придя в отряд, Нина даже удивилась. Нет, не таким представляла она себе боевого партизанского командира. Ни кожанки, ни револьвера на боку, ни папахи, ни патронных лент на груди. Обычная сатиновая косоворотка, даже не сапоги, а ботинки с калошами, и залысина надо лбом. Худощавое лицо, усталые глаза. Таким вот приходил отец с фабрики после смены.
…Нина подробно рассказывала Батову, где она побывала за эти трое суток, что видела в деревнях, сколько там комсомольцев и что они предпринимают. Сказала, что две девушки просились в партизаны.
— Сводки Совинформбюро рассказывала? — спросил Батов, делая краткие пометки в блокноте.
— Везде, — сказала Нина. — В каждой деревне. Рассказывала, как дела на фронтах…
— Так. — Батов сделал несколько шагов по тесной землянке. Внимательно, словно первый раз видел, оглядел Нину.
Волосы черные-черные, гладкие и блестят, будто полированные. И сама смуглая, и глаза черные. Галка.
«Приметная», — покачал головой Батов.
Для разведчицы это ни к чему. Чем незаметнее, обычнее, тем лучше.
«Может, кого другого послать? — подумал он. — Нет, смелая девчушка и толковая…»
— У меня к тебе дело, дочка, — сказал он. — Трудное дело…
Задание было и впрямь нелегким. Батову стало известно, что неподалеку, в деревне Горы, расположился на отдых немецкий карательный отряд. Сильный отряд. Прислан, чтобы разгромить окрестных партизан, раз навсегда покончить с ними.
— Понимаешь, Нина, — Батов в упор посмотрел девочке в глаза, — необходимо точно узнать, где у них пулеметы, орудия, сколько солдат, в каких избах офицеры…
Нина кивнула.
— Это очень важно, — продолжал Батов. — Тогда одним внезапным встречным ударом мы уничтожим их пулеметы, офицеров, посеем панику…
Нина снова кивнула.
— Вечером или ночью подобраться к Горам нетрудно, — задумчиво продолжал Батов. — Одна только беда: немного и увидишь-то в потемках… А днем — днем рискованно…
Нина на секунду представила себе темную ночную деревню, редкие блики света на снегу, одинокие фигуры часовых. Нет, ночью толком ничего не выяснишь.
— Пойду утром, — сказала она. — Завтра утром.
В короткой ветхой шубейке и платке, повязанном глухо, по-деревенски, с залатанной холщовой торбой через плечо, в сумерки возвратилась Нина в занесенную снегом лесную землянку.
В торбе стукались друг о друга, словно камни, черствые куски хлеба, несколько промерзших картофелин, две ссохшиеся свеклы.
Много бездомных голодных мальчишек и девчонок бродили в те тяжелые времена по большакам и проселкам из деревни в деревню, стучали в хмурые, темные окна изб, выпрашивая горсточку пшена, корку хлеба.
И Нина, чтобы не привлекать внимания немцев и полицаев, делала как все.
В партизанской землянке ее встретила подруга Катя:
— Ну как?
— Потом, — устало пробормотала Нина.
В землянке было тепло; иззябшую, голодную Нину сразу разморило. Очень хотелось есть, но еще больше спать. Трое суток скиталась по дорогам.
— Потом, — повторила Нина, легла на широкую скамью возле стены, с головой накрылась шубейкой и сразу заснула, словно провалилась куда-то глубоко-глубоко.
Вот Нина видит маленькую деревушку. Колодец с длинным, воткнутым в небо шестом-журавлем посреди тихой улицы. Нина сразу узнаёт — это же Нечеперть!
Мать всегда на лето вывозила сюда из Ленинграда всех троих детей: Нину и ее младших братишку и сестренку. Пусть досыта надышатся медвяным деревенским воздухом, поваляются на травке, вволю попьют теплого парного молока.
И вдруг — война…
И сейчас, во сне, Нина видит: деревня словно замерла, притаилась. Вот в сумерки приходит бабка Ульяна. Шамкая и крестясь, тревожно шепчет: немцы уже где-то рядом. Уже занята станция Шапки. Внучка уже видела серо-зеленые шинели в соседнем селе.
Нина беспокойно ворочается в землянке на скамье.
Шум, треск… Цепочка немецких мотоциклистов ворвалась в деревню. С грохотом промчались машины мимо молчащих, словно вымерших изб. Сквозь щель в задернутом окошке Нина видела: возле школы немцы остановились, посовещались. Один из них вошел в пустую школу, вскоре вернулся, и все, стрекоча моторами, поднимая пыль, понеслись дальше.
В деревне мотоциклисты не задержались. Толкнулись в несколько изб, подстрелили двух суматошных куриц и, оставив после себя едкую струю бензиновой гари, умчались так же внезапно, как и появились.
А когда стемнело, в избу, где жила Нина, осторожно постучали.
Вошли трое. Во сне Нина и сейчас видит их. Первый — высокий, под самый потолок, в сапогах и выгоревшем пиджачке. Пиджак был ему маловат: казалось, наклонись — треснет в плечах. И руки с большими, широкими, как лопаты, ладонями, далеко вылезали из рукавов.
Двое других были пониже и помоложе. Они не прошли в избу, а остановились у двери, привалившись к косяку.
Первый — его звали Тимофей — обвел Александру Степановну и детей изучающим, внимательным взглядом и негромко, властно, так, словно он здесь был хозяином, а не пришельцем, спросил:
— Куковеровы? Ленинградцы?
Александра Степановна — мать Нины — торопливо объяснила: муж на фронте, а они вот — застряли в деревне.
— Да, знаю. — Огромный Тимофей, шагая удивительно легко, неслышно подошел к окну, поверх занавески долго вглядывался вотьму. Вернулся к столу, сел, выложив на клеенку, словно напоказ, свои красные руки.
«Выйдите», — кивнул детям.
Олешка и Валя вышли в сени. Нина осталась: ей было четырнадцать лет, и она считала себя уже большой.
— Нам нужен хлеб, — сказал Тимофей негромко и весомо и остановился, словно ждал, как примет Александра Степановна его слова.
Она молчала. Молчала и Нина. Тимофей не сказал, кому — «нам», но и так было понятно.
Тимофей коротко объяснил: негде печь хлеб. Пусть Александра Степановна подсобит. Мать кивнула. Быстро договорились: как украдкой доставлять муку, когда удобнее забирать испеченные караваи.
Тимофей встал, шагнул к двери, но вдруг остановился. Спокойно и неторопливо, как все делал, оглядел Нину, подозвал к себе. Спросил, как зовут, в каком классе. Пионерка? А немецкий знает?
Нина отвечала, чуть подумав перед каждой фразой.
Это, видимо, особенно понравилось партизану. «Серьезная. Хоть и маленькая, а серьезная…»
Тимофей не знал, что Нина заикалась. С малых лет выработалась у нее привычка: прежде чем сказать что-то, сосредоточиться, сперва мысленно произнеси ответ и только потом уже вслух. Тогда звуки не цеплялись, не застревали. В школе учителя, прежде чем вызвать Нину к доске, говорили:
— Куковерова, приготовься!
И спрашивали другого. А пока Нина внутренне «собиралась», сосредоточивалась, как перед прыжком. Это ей помогало преодолеть заикание.
— Ваш дом — крайний в деревне. Так? — сказал Нине Тимофей.
Девочка кивнула. Она вообще предпочитала, когда можно, обходиться без слов.
— Издалека виден, — продолжал Тимофей.
Нина снова кивнула, хотя не понимала, куда он клонит.
А дом их крайний, на холме, и виден из-за реки и из лесочка. Это верно. Бывало, далеко уйдет Нина с ребятами по ягоды, по грибы, а нет-нет и мелькнет вдали их красная крыша с облупленной трубой.
— Поручение тебе, — сказал Тимофей и положил свою огромную руку ей на плечо. Нина была худенькой, и плечо утонуло у него в ладони. — Когда немцы в деревне, вывешивай бельишко на плетень. Ну будто стирала. Полотенца там, наволочки… Понятно?
Чего ж тут не понять?! Сигнал! Белье будет служить сигналом партизанам. Висит белье: «Стой! Не входи! В деревне немцы!» Нет белья — «Пожалуйста, рады гостям!»
— Смотри, — строго сказал Тимофей. — Не подведи!
— Не подведу! — твердо пообещала Нина.
С тех пор, как только в деревне появлялись немцы, Нина хватала старенькую скатерть, совала ее в бак с водой и вывешивала, мокрую, на плетень, там, где он был обращен к лесу, к реке. Нина не знала, где скрываются партизаны, но решила — в лесу.
…И сейчас, лежа в землянке на широкой жесткой скамье, Нина видела во сне, как Тимофей подходит к ней, кладет тяжелую руку на плечо и говорит:
— Молодцом!
— Нина, да Нина, проснись же…
Нина с трудом разлепила склеенные веки. Перед нею стояла Катя, осторожно, но настойчиво трясла за плечо.
— Вставай. Часа три уже спишь. Батов зовет.
Нина сразу вскочила. Батов — командир отряда.
Значит, что-то важное… Быстро сполоснула ледяной водой измятое лицо, пригладила волосы.
В командирской землянке было тихо. Батов один сидел у грубо сколоченного стола.
— Ну, дочка, рассказывай.
Нина проглотила комок в горле. У нее всегда слезы подступали, когда Батов называл дочкой. Отец Нины недавно погиб на фронте. И ни мать, ни Нина даже не знали, где могила солдата-артиллериста Куковерова. Да и есть ли она — могила?
Никогда уже отец не назовет ее дочкой. Никогда не споет вместе с Ниной о том, как одиноко стоит, качаясь, тонкая рябина и как в степи глухой замерзает ямщик. А Батов, как нарочно, очень похож на отца. Тоже невысокий, коренастый, простой. Впервые придя в отряд, Нина даже удивилась. Нет, не таким представляла она себе боевого партизанского командира. Ни кожанки, ни револьвера на боку, ни папахи, ни патронных лент на груди. Обычная сатиновая косоворотка, даже не сапоги, а ботинки с калошами, и залысина надо лбом. Худощавое лицо, усталые глаза. Таким вот приходил отец с фабрики после смены.
…Нина подробно рассказывала Батову, где она побывала за эти трое суток, что видела в деревнях, сколько там комсомольцев и что они предпринимают. Сказала, что две девушки просились в партизаны.
— Сводки Совинформбюро рассказывала? — спросил Батов, делая краткие пометки в блокноте.
— Везде, — сказала Нина. — В каждой деревне. Рассказывала, как дела на фронтах…
— Так. — Батов сделал несколько шагов по тесной землянке. Внимательно, словно первый раз видел, оглядел Нину.
Волосы черные-черные, гладкие и блестят, будто полированные. И сама смуглая, и глаза черные. Галка.
«Приметная», — покачал головой Батов.
Для разведчицы это ни к чему. Чем незаметнее, обычнее, тем лучше.
«Может, кого другого послать? — подумал он. — Нет, смелая девчушка и толковая…»
— У меня к тебе дело, дочка, — сказал он. — Трудное дело…
Задание было и впрямь нелегким. Батову стало известно, что неподалеку, в деревне Горы, расположился на отдых немецкий карательный отряд. Сильный отряд. Прислан, чтобы разгромить окрестных партизан, раз навсегда покончить с ними.
— Понимаешь, Нина, — Батов в упор посмотрел девочке в глаза, — необходимо точно узнать, где у них пулеметы, орудия, сколько солдат, в каких избах офицеры…
Нина кивнула.
— Это очень важно, — продолжал Батов. — Тогда одним внезапным встречным ударом мы уничтожим их пулеметы, офицеров, посеем панику…
Нина снова кивнула.
— Вечером или ночью подобраться к Горам нетрудно, — задумчиво продолжал Батов. — Одна только беда: немного и увидишь-то в потемках… А днем — днем рискованно…
Нина на секунду представила себе темную ночную деревню, редкие блики света на снегу, одинокие фигуры часовых. Нет, ночью толком ничего не выяснишь.
— Пойду утром, — сказала она. — Завтра утром.
 Чуть свет Нина надела свою потрёпанную шубейку, крест-накрест повязала старенький платок, перекинула через плечо холщовую торбу и зашагала.
До Гор было километров пятнадцать. Нина шла и шла, настороженно посматривая по сторонам.
Утоптанная, побуревшая от колёс и полозьев просёлочная дорога тянулась вдоль заметённых сугробами полей. У моста Нина свернула, пошла еле приметной в снегу тропкой. Так короче. И встречных меньше…
Чего только не передумаешь, шагая по огромной, пустынной снежной равнине!..
Опять вспомнился отец. Вот они вдвоём на катке. Нина ещё совсем маленькая, коньки разъезжаются, она больно шлёпается…
— Не трусь, Нинок! — хохочет отец.
…Идёт и идёт Нина по заснеженной тропке. Узкая дорожка вильнула, ушла в лесок. И Нина зашагала меж молодых. покрытых снегом берёзок и осин.
«Побегать бы тут на лыжах! По горушкам», — подумала Нина и засмеялась — таким нелепым показалось ей это внезапное желание.
До лыж ли теперь?! Нине даже трудно представить себе, что когда-то, всего года два назад, она любила с весёлым криком, с шутками бегать наперегонки с мальчишками по скользкой, будто навощённой лыжне. А кажется, это было так давно!.. И было ли это?..
Километров десять уже прошла Нина. Вскоре увидела: навстречу идут два немецких солдата.
Нина изо всех сил старалась не убыстрять и не замедлять шаги. «Главное — выдержка», — учил Батов.
Приблизилась к немцам, хотела пройти мимо, но один из солдат остановил её.
— Куда гейст ду, медхен?
Нина объяснила, как делала уже не раз: идет к тётке. Назвала деревню неподалёку от Гор.
Говорить Нина старалась поменьше и медленно.
«А то ещё начну заикаться. Подумают — от страха…»
— Гуд. Ходи свой тётка.
Нина пошла дальше.
Вскоре показались Горы. Деревня стояла на холме, окружённая редким леском. Избы извилистой цепочкой сбегали вниз с холма до замёрзшей, заметённой снегом реки.
Когда до деревни было уже совсем близко, Нина притаилась в кустарнике. Стала наблюдать…
Вот возле одного дома, стоящего на самой вершине, — часовые.
Сюда то и дело подходят офицеры с солдатами. Солдаты остаются на улице, офицеры входят, выходят, что-то приказывают солдатам.
Возле дома — автомашина и два мотоцикла.
«Пожалуй, штаб, — думает Нина. — И место фрицы выбрали удобное. С горки всё как на ладони…»
Неподалёку от штаба — какой-то большой сарай, возле него тоже часовой. И тоже суетятся люди. Но что в этом сарае — не понять.
Внизу возле реки немцев почти не видать. Домишки стоят тихие, без дымков, словно нежилые.
«Так, — подумала Нина, — значит, центр у них на холме…»
Она пряталась в кустарнике уже долго. Мороз всё настойчивей проникал сквозь ветхую шубейку.
«Обойду деревню, — подумала Нина, — посмотрю, что там. И согреюсь заодно. А то на одном месте — зазябну совсем…»
Крадучись, стала пробираться сквозь кустарник. Вдруг замерла.
Послышался какой-то шорох, урчание. Что бы это? Нина настороженно прислушивалась.
Рядом вдруг вынырнул пёс. Чёрный, огромный, с налитыми кровью глазами. Язык его, мокрый, вывалился из пасти и свисал, как тряпка.
— Ой! — тихонько вскрикнула Нина.
Всегда она боялась собак. Боялась так, что при встрече с ними у неё всё мертвело внутри. И надо же — именно сейчас этот чудовищный пёс.
Он не лаял, только рычал, и от этого было ещё страшней.
Так они и стояли: долго, неподвижно, девочка и пёс. Собаки чуют, когда их боятся. И этот пёс тоже, наверно, чувствовал, что девочка смертельно напугана.
«Ну, — в душе молила Нина. — Ну, пёсик, не стой же, иди себе гуляй…»
Но пёс не уходил и, казалось, готов так стоять вечно. Внутри у него по-прежнему урчало, словно там работал мотор.
Собрав всё своё мужество, Нина сделала шаг… Но пёс сразу так ощерился, лязгнул огромными жёлтыми клыками, что девочка тотчас остановилась.
И опять они долго стояли неподвижно.
«Ещё залает, — подумала Нина. — Выдаст…»
Решила: сосчитаю до пяти и пойду. Медленно стала считать. Но когда прошептала «пять», пёс вдруг так грозно фыркнул, что Нина замерла.
«Снова», — приказала она себе.
Досчитала до пяти и тут же, чтоб чего доброго не передумать, пошла. Сердце у неё колотилось часто и прерывисто. Но она шла. Пёс неслышно ступал за ней.
«Не оборачивайся, — велела себе Нина, — пусть он не воображает…»
А оглянуться так хотелось! Может быть, пёс приготовился прыгнуть?
Укусить?.. Но она шла и шла.
«Вон у той берёзы, ладно, оглянусь», — решила она.
Дошла до берёзы, осторожно посмотрела через плечо. Нет! Пса нет! Она повернулась всем телом, всё ещё не веря. Неужели?!
Пёс исчез.
Нина повеселела. Быстро зашагала. Только сейчас почувствовала, как замёрзла. Тайком, где прячась в кустах, где перебегая от дерева к дереву, обошла вокруг Гор. Больше ничего важного не обнаружила.
«Маловато. Придётся зайти в саму деревню. Остановят? Ну и что? Побираюсь, и весь сказ. Зато всё-всё высмотрю».
Вышла на дорогу, не торопясь прошла мимо часового. Он поглядел на девочку, но ничего не сказал.
Медленно брела Нина по деревне. Краешком глаза всё замечала.
Ого! Вот у штаба — миномёт. Она раньше не видела его.
А вот в этом доме под железной крышей, наверно, живут офицеры.
Вон трое их вошло. Оттуда доносился вкусный запах, денщик у крыльца, закатав рукава, щиплет курицу, слышны звуки губной гармошки.
Чтобы задержаться тут, осмотреться, Нина постучалась в соседнюю избу, попросила хлебца. А сама всё глядела на дом с железной крышей.
Хозяйка, сердитая старуха, сунула ей картофелину.
И тут у Нины вдруг мелькнула хитрая мысль.
— Бабушка, — жалобно сказала Нина. — Пусти чуток погреться. Совсем зазябла…
— Ладно уж, — не слишком приветливо отозвалась старуха.
Нина шагнула в избу. Сразу обдало теплом и запахом щей. Постояла у печки, потом прошла к окошку.
Вот это — НП! Наблюдательный пункт — другого такого не сыщешь. Слева через дорогу — штаб. Да, теперь Нина уже не сомневалась — это штаб. Вон вылез из машины и по-хозяйски неторопливо прошёл к дверям высокий костлявый офицер, часовой сразу вытянулся.
Видимо, важная птица.
Вот на полном газу подлетел к крыльцу мотоциклист и, показав пакет часовому, чуть не бегом вскочил в дом.
А это что? Прямо напротив — тот большой сарай, который Нина видела из кустарника. И тоже часовой. К сараю подъехал грузовик.
Солдаты что-то сгружают. Но что — Нине не разобрать.
— Чегой-то всё около оконца трёшься? — спросила, входя из сеней, старуха. — У печи-то теплей…
Пришлось отойти от окна. Но едва старуха вышла, девочка снова бросилась к своему НП. Солдаты всё ещё разгружали машину. «Ого! Да это снаряды! А вот и орудие — из-за угла сарая торчит короткий ствол».
«Так, — обрадовалась Нина. — Значит, тут вроде бы арсенал!»
Она продолжала внимательно оглядывать улицу. А это что? Под навесом, где раньше был колхозный гараж, стояли металлические бочки. И около них — тоже часовой.
«Горючее, — догадалась Нина. — Как хорошо, что я зашла в дом. А теперь быстрее обратно!»
Она поблагодарила сердитую старуху — та лишь рукой махнула — и, стараясь не спешить, зашагала вниз под гору. По дороге считала, сколько встречается солдат.
Остановили её лишь один раз. Снова соврала про тётку. Отпустили.
Дойдя до реки, Нина повернула на тропинку в лес. Деревня осталась позади. Теперь быстрее! Быстрее к Батову!
…Под вечер она уже была в партизанском отряде. Батов расспрашивал подробно, дотошно. Потирал подбородок и повторял:
— Умница, дочка!
Обо всём рассказала Нина, только о встрече с чёрным псом умолчала.
Ещё засмеёт Батов: разведчица, а собак боится!
…Ночью Нину разбудили. В темноте бесшумно собирался отряд.
Шли пешком. Только двое саней — на них пулемёты.
Когда до Гор оставалось всего с километр, Батов подозвал двух своих помощников, коротко шёпотом повторил распоряжение. Отряд распался на три группы. Нине Батов велел быть возле него.
Леском подобрались к самой вершине холма. Залегли. Было тихо.
Темно. Только на холме, в деревне, светились окна в одном доме.
— Штаб, — шепнула Нина.
Батов кивнул.
В тишине прошло ещё несколько минут.
«Чего он ждёт? — беспокоилась девочка. — А вдруг собаки залают?»
Батов по-прежнему недвижимо лежал на снегу. Возле с пулемётом приткнулся Степан. Где-то рядом, невидимые в темноте, схоронились бойцы.
Вдруг раздался взрыв, и разом полыхнуло пламя. В ночи оно казалось особенно ярким. Высокие огневые языки метались по ветру, как огромный коптящий факел. Сразу стало светло.
«Бочки… Бензин….» мелькнуло у Нины.
И тотчас грохнули разрывы гранат. Рядом с Ниной натужно залился пулемёт.
Что началось в деревне! Немцы, полуодетые, выскакивали из домов.
Суетясь, бежали куда-то и тотчас падали, сражённые пулеметными очередями.
Вспыхнул штаб. Вся вершина холма теперь была как на ладони.
Нина видела — трое немцев бросились к миномёту. Но тотчас по ним полоснул пулемёт…
— Так, так! — возбуждённо шептала Нина. — Это вам за отца! За Ленинград!
— Лежи! — крикнул ей Батов и вскочил на ноги: — За мной!
Партизаны бросились к деревне…
Хотелось бы мне на этом кончить рассказ о славной разведчице, ленинградской пионерке Нине Куковеровой. Хотелось бы сказать, что сейчас Нина выросла, живёт в своём родном Ленинграде, работает.
Но нет! Не дожила Нина до победы. Много боевых дел совершила она. Но однажды ушла в разведку и не вернулась. Предатель выдал её врагам…
Нина Куковерова родилась 25 ноября 1927 года в городе Ленинграде.
Училась в 74-й школе Петроградского района (ныне 34-я школа-интернат).
В дни празднования 20-летия победы над фашистской Германией Нина Куковерова награждена посмертно орденом «Отечественной войны I степени».
Чуть свет Нина надела свою потрёпанную шубейку, крест-накрест повязала старенький платок, перекинула через плечо холщовую торбу и зашагала.
До Гор было километров пятнадцать. Нина шла и шла, настороженно посматривая по сторонам.
Утоптанная, побуревшая от колёс и полозьев просёлочная дорога тянулась вдоль заметённых сугробами полей. У моста Нина свернула, пошла еле приметной в снегу тропкой. Так короче. И встречных меньше…
Чего только не передумаешь, шагая по огромной, пустынной снежной равнине!..
Опять вспомнился отец. Вот они вдвоём на катке. Нина ещё совсем маленькая, коньки разъезжаются, она больно шлёпается…
— Не трусь, Нинок! — хохочет отец.
…Идёт и идёт Нина по заснеженной тропке. Узкая дорожка вильнула, ушла в лесок. И Нина зашагала меж молодых. покрытых снегом берёзок и осин.
«Побегать бы тут на лыжах! По горушкам», — подумала Нина и засмеялась — таким нелепым показалось ей это внезапное желание.
До лыж ли теперь?! Нине даже трудно представить себе, что когда-то, всего года два назад, она любила с весёлым криком, с шутками бегать наперегонки с мальчишками по скользкой, будто навощённой лыжне. А кажется, это было так давно!.. И было ли это?..
Километров десять уже прошла Нина. Вскоре увидела: навстречу идут два немецких солдата.
Нина изо всех сил старалась не убыстрять и не замедлять шаги. «Главное — выдержка», — учил Батов.
Приблизилась к немцам, хотела пройти мимо, но один из солдат остановил её.
— Куда гейст ду, медхен?
Нина объяснила, как делала уже не раз: идет к тётке. Назвала деревню неподалёку от Гор.
Говорить Нина старалась поменьше и медленно.
«А то ещё начну заикаться. Подумают — от страха…»
— Гуд. Ходи свой тётка.
Нина пошла дальше.
Вскоре показались Горы. Деревня стояла на холме, окружённая редким леском. Избы извилистой цепочкой сбегали вниз с холма до замёрзшей, заметённой снегом реки.
Когда до деревни было уже совсем близко, Нина притаилась в кустарнике. Стала наблюдать…
Вот возле одного дома, стоящего на самой вершине, — часовые.
Сюда то и дело подходят офицеры с солдатами. Солдаты остаются на улице, офицеры входят, выходят, что-то приказывают солдатам.
Возле дома — автомашина и два мотоцикла.
«Пожалуй, штаб, — думает Нина. — И место фрицы выбрали удобное. С горки всё как на ладони…»
Неподалёку от штаба — какой-то большой сарай, возле него тоже часовой. И тоже суетятся люди. Но что в этом сарае — не понять.
Внизу возле реки немцев почти не видать. Домишки стоят тихие, без дымков, словно нежилые.
«Так, — подумала Нина, — значит, центр у них на холме…»
Она пряталась в кустарнике уже долго. Мороз всё настойчивей проникал сквозь ветхую шубейку.
«Обойду деревню, — подумала Нина, — посмотрю, что там. И согреюсь заодно. А то на одном месте — зазябну совсем…»
Крадучись, стала пробираться сквозь кустарник. Вдруг замерла.
Послышался какой-то шорох, урчание. Что бы это? Нина настороженно прислушивалась.
Рядом вдруг вынырнул пёс. Чёрный, огромный, с налитыми кровью глазами. Язык его, мокрый, вывалился из пасти и свисал, как тряпка.
— Ой! — тихонько вскрикнула Нина.
Всегда она боялась собак. Боялась так, что при встрече с ними у неё всё мертвело внутри. И надо же — именно сейчас этот чудовищный пёс.
Он не лаял, только рычал, и от этого было ещё страшней.
Так они и стояли: долго, неподвижно, девочка и пёс. Собаки чуют, когда их боятся. И этот пёс тоже, наверно, чувствовал, что девочка смертельно напугана.
«Ну, — в душе молила Нина. — Ну, пёсик, не стой же, иди себе гуляй…»
Но пёс не уходил и, казалось, готов так стоять вечно. Внутри у него по-прежнему урчало, словно там работал мотор.
Собрав всё своё мужество, Нина сделала шаг… Но пёс сразу так ощерился, лязгнул огромными жёлтыми клыками, что девочка тотчас остановилась.
И опять они долго стояли неподвижно.
«Ещё залает, — подумала Нина. — Выдаст…»
Решила: сосчитаю до пяти и пойду. Медленно стала считать. Но когда прошептала «пять», пёс вдруг так грозно фыркнул, что Нина замерла.
«Снова», — приказала она себе.
Досчитала до пяти и тут же, чтоб чего доброго не передумать, пошла. Сердце у неё колотилось часто и прерывисто. Но она шла. Пёс неслышно ступал за ней.
«Не оборачивайся, — велела себе Нина, — пусть он не воображает…»
А оглянуться так хотелось! Может быть, пёс приготовился прыгнуть?
Укусить?.. Но она шла и шла.
«Вон у той берёзы, ладно, оглянусь», — решила она.
Дошла до берёзы, осторожно посмотрела через плечо. Нет! Пса нет! Она повернулась всем телом, всё ещё не веря. Неужели?!
Пёс исчез.
Нина повеселела. Быстро зашагала. Только сейчас почувствовала, как замёрзла. Тайком, где прячась в кустах, где перебегая от дерева к дереву, обошла вокруг Гор. Больше ничего важного не обнаружила.
«Маловато. Придётся зайти в саму деревню. Остановят? Ну и что? Побираюсь, и весь сказ. Зато всё-всё высмотрю».
Вышла на дорогу, не торопясь прошла мимо часового. Он поглядел на девочку, но ничего не сказал.
Медленно брела Нина по деревне. Краешком глаза всё замечала.
Ого! Вот у штаба — миномёт. Она раньше не видела его.
А вот в этом доме под железной крышей, наверно, живут офицеры.
Вон трое их вошло. Оттуда доносился вкусный запах, денщик у крыльца, закатав рукава, щиплет курицу, слышны звуки губной гармошки.
Чтобы задержаться тут, осмотреться, Нина постучалась в соседнюю избу, попросила хлебца. А сама всё глядела на дом с железной крышей.
Хозяйка, сердитая старуха, сунула ей картофелину.
И тут у Нины вдруг мелькнула хитрая мысль.
— Бабушка, — жалобно сказала Нина. — Пусти чуток погреться. Совсем зазябла…
— Ладно уж, — не слишком приветливо отозвалась старуха.
Нина шагнула в избу. Сразу обдало теплом и запахом щей. Постояла у печки, потом прошла к окошку.
Вот это — НП! Наблюдательный пункт — другого такого не сыщешь. Слева через дорогу — штаб. Да, теперь Нина уже не сомневалась — это штаб. Вон вылез из машины и по-хозяйски неторопливо прошёл к дверям высокий костлявый офицер, часовой сразу вытянулся.
Видимо, важная птица.
Вот на полном газу подлетел к крыльцу мотоциклист и, показав пакет часовому, чуть не бегом вскочил в дом.
А это что? Прямо напротив — тот большой сарай, который Нина видела из кустарника. И тоже часовой. К сараю подъехал грузовик.
Солдаты что-то сгружают. Но что — Нине не разобрать.
— Чегой-то всё около оконца трёшься? — спросила, входя из сеней, старуха. — У печи-то теплей…
Пришлось отойти от окна. Но едва старуха вышла, девочка снова бросилась к своему НП. Солдаты всё ещё разгружали машину. «Ого! Да это снаряды! А вот и орудие — из-за угла сарая торчит короткий ствол».
«Так, — обрадовалась Нина. — Значит, тут вроде бы арсенал!»
Она продолжала внимательно оглядывать улицу. А это что? Под навесом, где раньше был колхозный гараж, стояли металлические бочки. И около них — тоже часовой.
«Горючее, — догадалась Нина. — Как хорошо, что я зашла в дом. А теперь быстрее обратно!»
Она поблагодарила сердитую старуху — та лишь рукой махнула — и, стараясь не спешить, зашагала вниз под гору. По дороге считала, сколько встречается солдат.
Остановили её лишь один раз. Снова соврала про тётку. Отпустили.
Дойдя до реки, Нина повернула на тропинку в лес. Деревня осталась позади. Теперь быстрее! Быстрее к Батову!
…Под вечер она уже была в партизанском отряде. Батов расспрашивал подробно, дотошно. Потирал подбородок и повторял:
— Умница, дочка!
Обо всём рассказала Нина, только о встрече с чёрным псом умолчала.
Ещё засмеёт Батов: разведчица, а собак боится!
…Ночью Нину разбудили. В темноте бесшумно собирался отряд.
Шли пешком. Только двое саней — на них пулемёты.
Когда до Гор оставалось всего с километр, Батов подозвал двух своих помощников, коротко шёпотом повторил распоряжение. Отряд распался на три группы. Нине Батов велел быть возле него.
Леском подобрались к самой вершине холма. Залегли. Было тихо.
Темно. Только на холме, в деревне, светились окна в одном доме.
— Штаб, — шепнула Нина.
Батов кивнул.
В тишине прошло ещё несколько минут.
«Чего он ждёт? — беспокоилась девочка. — А вдруг собаки залают?»
Батов по-прежнему недвижимо лежал на снегу. Возле с пулемётом приткнулся Степан. Где-то рядом, невидимые в темноте, схоронились бойцы.
Вдруг раздался взрыв, и разом полыхнуло пламя. В ночи оно казалось особенно ярким. Высокие огневые языки метались по ветру, как огромный коптящий факел. Сразу стало светло.
«Бочки… Бензин….» мелькнуло у Нины.
И тотчас грохнули разрывы гранат. Рядом с Ниной натужно залился пулемёт.
Что началось в деревне! Немцы, полуодетые, выскакивали из домов.
Суетясь, бежали куда-то и тотчас падали, сражённые пулеметными очередями.
Вспыхнул штаб. Вся вершина холма теперь была как на ладони.
Нина видела — трое немцев бросились к миномёту. Но тотчас по ним полоснул пулемёт…
— Так, так! — возбуждённо шептала Нина. — Это вам за отца! За Ленинград!
— Лежи! — крикнул ей Батов и вскочил на ноги: — За мной!
Партизаны бросились к деревне…
Хотелось бы мне на этом кончить рассказ о славной разведчице, ленинградской пионерке Нине Куковеровой. Хотелось бы сказать, что сейчас Нина выросла, живёт в своём родном Ленинграде, работает.
Но нет! Не дожила Нина до победы. Много боевых дел совершила она. Но однажды ушла в разведку и не вернулась. Предатель выдал её врагам…
Нина Куковерова родилась 25 ноября 1927 года в городе Ленинграде.
Училась в 74-й школе Петроградского района (ныне 34-я школа-интернат).
В дни празднования 20-летия победы над фашистской Германией Нина Куковерова награждена посмертно орденом «Отечественной войны I степени».

ПАВЛИК МОРОЗОВ Губарев Виталий Георгиевич
 Дед Серёга — высокий, кряжистый, голова седая, лицо в глубоких морщинах. Ходил дед, опираясь на палку, чуть сутулясь, но, как старый дуб, который глубоко в землю пускает корни, он ещё крепко держался на поверхности.
Иной раз, подвыпив, дед Серёга поучал внука сипловатым весёлым голоском:
— Ты, Пашка, знай: ежели ты не подомнёшь соседа, так он тебя подомнёт! Учись так жить, чтобы не ты на соседа, а сосед на тебя работал! Жизнь так устроена, что человек человеку волк!
— Да нет же, дедуня, — посмеивался Павел, — не прав ты! Человек человеку не волк, а друг!
Надо так жить, чтобы не одному тебе, а всем хорошо было…
Иногда в разговор вмешивался богатый сосед Арсений Игнатьевич Кулуканов. Он заходил к Морозовым, как говаривал, «на огонёк» и всегда приносил водку. Только не «огонёк» притягивал Кулуканова: отец Павла, Трофим Морозов, был председатель сельского совета.
А от председателя многое зависит: какой налог платить, сколько хлеба сдавать государству. Богатей Арсений Игнатьевич Кулуканов в списках сельсовета числился не кулаком, а бедняком и потому имел всяческие льготы. Вот почему так частенько захаживал он в избу Морозовых. Выпив стопку и крякнув, Арсений Игнатьевич вытирал ладонью губы, седую бородку и ласково улыбался Павлу:
— Эх, Пашутка, ты помни: каждый за себя, один бог за всех! Бывает, иду по деревне к слышу, как люди за спиной шепчут: кровопиец.
А мне наплевать, я живу по-божески: нищему подам корочку и батраков накормлю — тех, что на меня работают.
Тринадцатилетний Павел, русоволосый, худощавый, с большими карими глазами, сидел за столом, положив подбородок на ладони.
Рядом с ним — восьмилетний брат Федя. Он преданно любит старшего брата, во всём старается подражать ему: ведь Пашка уже пионер!
Вот и сейчас он смотрит выжидательно на Пашку, широко открыв такие же, как у него, карие глаза. Павел молчит, обдумывая, что ответить.
— Надо так сделать, Арсений Игнатьевич, — наконец, говорит он, вздыхая, — чтобы нищих и батраков совсем не было…
— Чтобы совсем не было… — слабо, словно эхо, повторил Федя.
Кулуканов рассмеялся.
— Да как же это сделать, Пашутка? Ведь на батраках мир держится!
— А надо, чтобы все в колхозе жили!
— Вот как! — вздрогнул Кулуканов. — Да кто же это сказал тебе?
— Зоя Александровна.
— Учителка ваша? Комсомолка? Ты поменьше слушай её! Да в колхозе все горло друг дружке перегрызут. Твой-то дед правду говорит:
«Человек человеку волк! Своя рубашка ближе к телу!»
Дед Серёга — высокий, кряжистый, голова седая, лицо в глубоких морщинах. Ходил дед, опираясь на палку, чуть сутулясь, но, как старый дуб, который глубоко в землю пускает корни, он ещё крепко держался на поверхности.
Иной раз, подвыпив, дед Серёга поучал внука сипловатым весёлым голоском:
— Ты, Пашка, знай: ежели ты не подомнёшь соседа, так он тебя подомнёт! Учись так жить, чтобы не ты на соседа, а сосед на тебя работал! Жизнь так устроена, что человек человеку волк!
— Да нет же, дедуня, — посмеивался Павел, — не прав ты! Человек человеку не волк, а друг!
Надо так жить, чтобы не одному тебе, а всем хорошо было…
Иногда в разговор вмешивался богатый сосед Арсений Игнатьевич Кулуканов. Он заходил к Морозовым, как говаривал, «на огонёк» и всегда приносил водку. Только не «огонёк» притягивал Кулуканова: отец Павла, Трофим Морозов, был председатель сельского совета.
А от председателя многое зависит: какой налог платить, сколько хлеба сдавать государству. Богатей Арсений Игнатьевич Кулуканов в списках сельсовета числился не кулаком, а бедняком и потому имел всяческие льготы. Вот почему так частенько захаживал он в избу Морозовых. Выпив стопку и крякнув, Арсений Игнатьевич вытирал ладонью губы, седую бородку и ласково улыбался Павлу:
— Эх, Пашутка, ты помни: каждый за себя, один бог за всех! Бывает, иду по деревне к слышу, как люди за спиной шепчут: кровопиец.
А мне наплевать, я живу по-божески: нищему подам корочку и батраков накормлю — тех, что на меня работают.
Тринадцатилетний Павел, русоволосый, худощавый, с большими карими глазами, сидел за столом, положив подбородок на ладони.
Рядом с ним — восьмилетний брат Федя. Он преданно любит старшего брата, во всём старается подражать ему: ведь Пашка уже пионер!
Вот и сейчас он смотрит выжидательно на Пашку, широко открыв такие же, как у него, карие глаза. Павел молчит, обдумывая, что ответить.
— Надо так сделать, Арсений Игнатьевич, — наконец, говорит он, вздыхая, — чтобы нищих и батраков совсем не было…
— Чтобы совсем не было… — слабо, словно эхо, повторил Федя.
Кулуканов рассмеялся.
— Да как же это сделать, Пашутка? Ведь на батраках мир держится!
— А надо, чтобы все в колхозе жили!
— Вот как! — вздрогнул Кулуканов. — Да кто же это сказал тебе?
— Зоя Александровна.
— Учителка ваша? Комсомолка? Ты поменьше слушай её! Да в колхозе все горло друг дружке перегрызут. Твой-то дед правду говорит:
«Человек человеку волк! Своя рубашка ближе к телу!»
 — Зоя Александровна справедливая!..
— Ты помолчи! — недовольно качнул головой отец. Он сидел с красными от выпитого вина глазами. В рыжих усах запутались хлебные крошки. — Яйца кур не учат! Мал он, зелен, Арсений Игнатьевич, вырастет — поумнеет…
За столом зашевелился длинный, как жердь, двадцатилетний Данила— двоюродный брат Павла (жил он в соседней избе вместе с дедом Серёгой, но ни одной выпивки у Трофима не пропускал).
— А Пашка, дядя Трофим, небось себя за главного петуха считает! — сказал он заплетающимся языком, моргая белёсыми ресницами. — Пионеры в школе его своим начальником выбрали. Смехота!
Председатель, как ты!
— Вот я настегаю ему одно место — председателю!
Мать Павла, Татьяна, шагнула от печки к столу:
— Трофим! — вскрикнула она. — Ты это брось! Не тронь сына!
Была Татьяна худой и бледной. Прожила она свои тридцать пять лет в постоянном труде. Хозяйство и дети отнимали здоровье и силы, но в детях находила Татьяна свою материнскую радость. Вон Пашка какой большой и разумный вырос! Учительница говорит: «Лучший ученик в школе…»
Трофим невольно сжимается под её строгим взглядом.
— Ладно, ладно, Таня, не буду.
Кулуканов опрокинул в рот ещё одну стопку, тревожно взглянул на председателя сельсовета:
— Трофим, а что ежели и у нас колхоз будет? Тогда — конец?
— Я думаю, Арсений Игнатьевич, до нашей тайги коллективизация не дойдёт…
Но Трофим Морозов ошибался. По всей стране крестьяне объединялись в колхозы. Приходил конец такой жизни, когда один человек мог угнетать другого, когда одни богатели, а другие гнули на них спины.
Докатилась волна коллективизации и до маленькой, затерявшейся в лесах Северного Урала деревушки Герасимовки. В тайге, неподалёку от Герасимовки, появился новый посёлок. Жили в нём переселенцы — кулаки с Украины и Кубани. Этих людей пришлось переселить на север, потому что они вредили колхозам, а иногда убивали из-за угла колхозных организаторов — коммунистов и комсомольцев. Стали захаживать переселенцы и в Герасимовку. Приходили по ночам, чтобы их никто не видел.
В Герасимовку приехал уполномоченный райкома партии Дымов.
В тот вечер на деревню налетела гроза, загремел гром, захлестали сильные струи летнего ливня.
Глубокой ночью в избу, где остановился Дымов, пришла взволнованная учительница. А с ней бледный, мокрый от дождя и задыхавшийся от рыданий, Павел. Учительница молча протянула уполномоченному райкома бумажку. Он быстро пробежал её глазами:
— Зоя Александровна справедливая!..
— Ты помолчи! — недовольно качнул головой отец. Он сидел с красными от выпитого вина глазами. В рыжих усах запутались хлебные крошки. — Яйца кур не учат! Мал он, зелен, Арсений Игнатьевич, вырастет — поумнеет…
За столом зашевелился длинный, как жердь, двадцатилетний Данила— двоюродный брат Павла (жил он в соседней избе вместе с дедом Серёгой, но ни одной выпивки у Трофима не пропускал).
— А Пашка, дядя Трофим, небось себя за главного петуха считает! — сказал он заплетающимся языком, моргая белёсыми ресницами. — Пионеры в школе его своим начальником выбрали. Смехота!
Председатель, как ты!
— Вот я настегаю ему одно место — председателю!
Мать Павла, Татьяна, шагнула от печки к столу:
— Трофим! — вскрикнула она. — Ты это брось! Не тронь сына!
Была Татьяна худой и бледной. Прожила она свои тридцать пять лет в постоянном труде. Хозяйство и дети отнимали здоровье и силы, но в детях находила Татьяна свою материнскую радость. Вон Пашка какой большой и разумный вырос! Учительница говорит: «Лучший ученик в школе…»
Трофим невольно сжимается под её строгим взглядом.
— Ладно, ладно, Таня, не буду.
Кулуканов опрокинул в рот ещё одну стопку, тревожно взглянул на председателя сельсовета:
— Трофим, а что ежели и у нас колхоз будет? Тогда — конец?
— Я думаю, Арсений Игнатьевич, до нашей тайги коллективизация не дойдёт…
Но Трофим Морозов ошибался. По всей стране крестьяне объединялись в колхозы. Приходил конец такой жизни, когда один человек мог угнетать другого, когда одни богатели, а другие гнули на них спины.
Докатилась волна коллективизации и до маленькой, затерявшейся в лесах Северного Урала деревушки Герасимовки. В тайге, неподалёку от Герасимовки, появился новый посёлок. Жили в нём переселенцы — кулаки с Украины и Кубани. Этих людей пришлось переселить на север, потому что они вредили колхозам, а иногда убивали из-за угла колхозных организаторов — коммунистов и комсомольцев. Стали захаживать переселенцы и в Герасимовку. Приходили по ночам, чтобы их никто не видел.
В Герасимовку приехал уполномоченный райкома партии Дымов.
В тот вечер на деревню налетела гроза, загремел гром, захлестали сильные струи летнего ливня.
Глубокой ночью в избу, где остановился Дымов, пришла взволнованная учительница. А с ней бледный, мокрый от дождя и задыхавшийся от рыданий, Павел. Учительница молча протянула уполномоченному райкома бумажку. Он быстро пробежал её глазами:
Удостоверение— Эти удостоверения, — проговорила учительница, — председатель сельсовета продаёт врагам… Сосланным кулакам с Кубани. Мне сказал об этом Павлик… — Она помедлила и тихо прибавила: — Поймите, как тяжело Павлику: ведь председатель — его отец! Дымов поражённо взглянул на мальчика. Павел стоял, покачиваясь, закрыв глаза. Он ничего не смог сказать — рыдания душили его. Старый, седой коммунист Дымов вдруг почувствовал на своих ресницах слёзы. Он обнял мальчика, торопливо гладил его по голове, по мокрой спине и глухо говорил: — Не надо, Паша… Ну не надо… Не плачь… Ты… Ты ведь настоящий пионер! …Прошёл месяц! Как-то к Татьяне пришли дед Серёга и Данила. — Здравствуй, дедуня, — нерешительно сказал Павел. Дед не ответил, даже не посмотрел на внука. Данила процедил сквозь зубы: — С коммунистами не разговариваем! Отца в тюрьму засадил! Дед в упор смотрел на Татьяну из-под нависших белых бровей: — Мужа теперь у тебя нету… Я за старшего остался. Слышишь, Татьяна? Как сказал, так и быть должно! Надо наши хозяйства соединить, а забор меж нашими дворами уберём. Она молчала. — Отвечай, невестка! — Не знаю… — чуть качнула она головой. Павел проговорил негромко: — Скоро в деревне колхоз будет… Мы в колхоз вступим. Дед Серёга тяжело качнулся, кашлянул: — Как же, Татьяна? Все смотрели на неё, ожидая решающего слова. И она сказала тихо, сделав чуть заметное движение головой в сторону Павла: — Ему видней. Он теперь за хозяина остался. — Н-ну… — выдохнул дед. — С голоду подохните! Он круто повернулся и, стуча палкой, вышел вон. Татьяна сидела неподвижно, прижимая к себе младшего сына — четырёхлетнего Романа. Как жить? Разве по силам одной кормить и одевать детей! Паша, правда, подрастает, помогает уже по хозяйству, но ведь всё равно и он ещё мальчонка. Ах, Паша, Паша!.. Внезапно она встрепенулась. В открытые двери из синих сумерек донёсся пронзительный крик. Она выбежала на крыльцо. У забора Данила бил кулаком наотмашь вырывающегося Павла. — Стой! — закричала она. — Стой, проклятый! Данила отпустил мальчика, влез на забор. — Я ещё не так твоего пионера… — Он не договорил и спрыгнул с забора. …Ночью Павла разбудил плач Романа. Умаявшаяся за день мать крепко спала — не слышала.
Дана сие гражданину………в том, что он действительно является жителем села Герасимовки Тавдинского района Уральской области и по личному желанию уезжает с места жительства. По социальному положению — бедняк. Подписью и приложением печати вышеуказанное удостоверяется.
Председатель сельсовета Т. С. Морозов
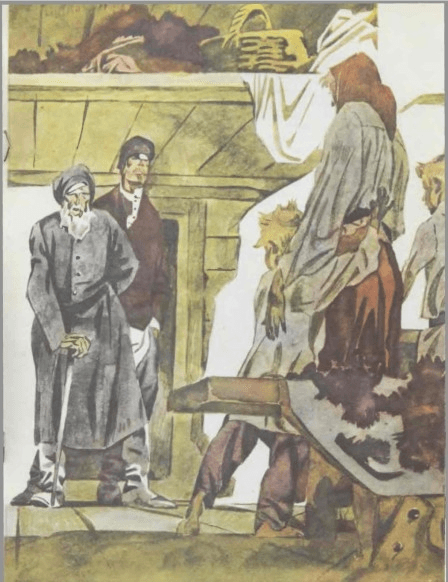 — Ромочка, ну спи… Ну спи ж, братик.
Федя, свесившись с печи, смотрел в окно.
— Паш, глянь, что там?
За забором двигались какие-то тени. Павел неслышно спустился с крыльца, прильнул к щели забора. Во дворе деда Серёги фыркали лошади. Трое — дед Серёга, Данила, Кулуканов — снимали с телеги полные мешки, поспешно таскали их в сарай.
— Паш, а кони-то кулукановские! — услышал он за спиной. Оглянулся — рядом на цыпочках вытягивался Федя.
— Чего ты пришёл?
— А ты побежал, и я тоже…
— Ступай спать, братка!
Федя послушно ушёл. Павел всматривался: «Что бы там могло быть? Прячут зерно в яму! У деда столько хлеба нет. Ясно — зерно кулукановское. Сгноить хлеб хотят, лишь бы не дать государству, народу…»
Данила возвращался из сарая, остановился, будто в раздумье, и вдруг сделал скачок к забору.
— Подглядываешь, коммунист! — грохоча досками, он взобрался на забор. — Если скажешь кому, не сносить тебе головы!
— Не пугай, — спокойно отвечал Павел, — не боюсь! Не для того я красный галстук надевал!
Он неторопливо ушёл в избу.
Дед Серёга и Кулуканов неподвижно стояли посреди двора, расставив ноги. Наконец Кулуканов сорвался с места, схватил деда за плечи, затряс. Голос его шипел и срывался:
— Если какого уполномоченного из райкома присылают, не страшно: сам приехал — сам уедет. А тут свои глаза! Под боком! От них никуда не скроешься!
— Убью! — тихо и чётко сказал дед.
Кулуканов повернулся к Даниле:
— Я тебе деньги давал… И ещё дам! Закрыть навсегда надо его глаза, Данилушка! Нет от него спасения! Это он со своими босяками-пионерами всю Герасимовку лозунгами про колхоз заклеили! И на моиворота плакат повесили: живёт, мол, здесь зажимщик хлеба! Закрой ты его глаза, бога ради, Данилушка!
…На болоте созрела клюква. Стайками и в одиночку на болото бегали герасимовские ребятишки, возвращались с полными корзинами и оскоминой на зубах.
В воскресенье рано утром третьего сентября ушли на болото по ягоды Павел и Федя.
Запыхавшись, Данила прибежал в избу к деду:
— Выследил я его… Ушёл на болото, за клюквой.
Дед истово перекрестился.
— Данила, — сказал он тихо, — возьми его…
— Кого? — так же тихо спросил Данила.
— Нож! — вскрикнул дед, морщась.
Данила стучал зубами.
— Он… не один пошёл…
— С кем?
— С Федькой. Выдаст Федька.
Дед вздрогнул.
— Обоих! Ну, ступай же! Чего стоишь, собачий сын?! Стой! Я с тобой пойду!..
…Усталые мальчики возвращались домой. Федя всю дорогу тараторил о всякой всячине. Павел шёл задумавшись, отвечал рассеянно.
— Паш, а кто быстрей: волк или заяц?
— Волк, наверно.
В берёзовых зарослях, где разветвлялась тропинка, увидели вдруг деда Серёгу и Данилу. Павел задержал шаг.
— Паш… Данилка драться не полезет? — тревожно спросил Федя.
— Побоится небось при деде… — Павел всматривался вперёд. — А ты иди сзади, отстань шагов на десять.
Он медленно приближался к старику.
— Набрали ягод, внучек? — голос деда сипловатый, ласковый.
— Ага!
— Ну-ка, покажь… Хватит на деда дуться-то…
Павел обрадованно заулыбался, снял с плеча мешок.
— Да ведь я не дуюсь, дедуня. Смотри, какая клюква. Крупная!
— Ромочка, ну спи… Ну спи ж, братик.
Федя, свесившись с печи, смотрел в окно.
— Паш, глянь, что там?
За забором двигались какие-то тени. Павел неслышно спустился с крыльца, прильнул к щели забора. Во дворе деда Серёги фыркали лошади. Трое — дед Серёга, Данила, Кулуканов — снимали с телеги полные мешки, поспешно таскали их в сарай.
— Паш, а кони-то кулукановские! — услышал он за спиной. Оглянулся — рядом на цыпочках вытягивался Федя.
— Чего ты пришёл?
— А ты побежал, и я тоже…
— Ступай спать, братка!
Федя послушно ушёл. Павел всматривался: «Что бы там могло быть? Прячут зерно в яму! У деда столько хлеба нет. Ясно — зерно кулукановское. Сгноить хлеб хотят, лишь бы не дать государству, народу…»
Данила возвращался из сарая, остановился, будто в раздумье, и вдруг сделал скачок к забору.
— Подглядываешь, коммунист! — грохоча досками, он взобрался на забор. — Если скажешь кому, не сносить тебе головы!
— Не пугай, — спокойно отвечал Павел, — не боюсь! Не для того я красный галстук надевал!
Он неторопливо ушёл в избу.
Дед Серёга и Кулуканов неподвижно стояли посреди двора, расставив ноги. Наконец Кулуканов сорвался с места, схватил деда за плечи, затряс. Голос его шипел и срывался:
— Если какого уполномоченного из райкома присылают, не страшно: сам приехал — сам уедет. А тут свои глаза! Под боком! От них никуда не скроешься!
— Убью! — тихо и чётко сказал дед.
Кулуканов повернулся к Даниле:
— Я тебе деньги давал… И ещё дам! Закрыть навсегда надо его глаза, Данилушка! Нет от него спасения! Это он со своими босяками-пионерами всю Герасимовку лозунгами про колхоз заклеили! И на моиворота плакат повесили: живёт, мол, здесь зажимщик хлеба! Закрой ты его глаза, бога ради, Данилушка!
…На болоте созрела клюква. Стайками и в одиночку на болото бегали герасимовские ребятишки, возвращались с полными корзинами и оскоминой на зубах.
В воскресенье рано утром третьего сентября ушли на болото по ягоды Павел и Федя.
Запыхавшись, Данила прибежал в избу к деду:
— Выследил я его… Ушёл на болото, за клюквой.
Дед истово перекрестился.
— Данила, — сказал он тихо, — возьми его…
— Кого? — так же тихо спросил Данила.
— Нож! — вскрикнул дед, морщась.
Данила стучал зубами.
— Он… не один пошёл…
— С кем?
— С Федькой. Выдаст Федька.
Дед вздрогнул.
— Обоих! Ну, ступай же! Чего стоишь, собачий сын?! Стой! Я с тобой пойду!..
…Усталые мальчики возвращались домой. Федя всю дорогу тараторил о всякой всячине. Павел шёл задумавшись, отвечал рассеянно.
— Паш, а кто быстрей: волк или заяц?
— Волк, наверно.
В берёзовых зарослях, где разветвлялась тропинка, увидели вдруг деда Серёгу и Данилу. Павел задержал шаг.
— Паш… Данилка драться не полезет? — тревожно спросил Федя.
— Побоится небось при деде… — Павел всматривался вперёд. — А ты иди сзади, отстань шагов на десять.
Он медленно приближался к старику.
— Набрали ягод, внучек? — голос деда сипловатый, ласковый.
— Ага!
— Ну-ка, покажь… Хватит на деда дуться-то…
Павел обрадованно заулыбался, снял с плеча мешок.
— Да ведь я не дуюсь, дедуня. Смотри, какая клюква. Крупная!
Он открыл мешок, поднял на деда глаза и отшатнулся: серое лицо старика было искажено ненавистью. — Дедуня… пусти руку… больно… Тут мальчик увидел блеснувший перед глазами нож, рванулся, закричал: — Федя, братка, беги! Беги, братка! Поразительно, что этот мальчик в самую страшную минуту своей жизни, за несколько секунд до смерти, подумал не о себе. Федя побежал. Данила тремя прыжками догнал его… На третий день искать братьев пошла в лес вся деревня. Шли цепью, шумя кустами и ветками, тревожно перекликаясь. Тихо и пусто в жёлтом, осеннем лесу. Где-то завыла охотничья собака. Задыхаясь, все бежали на этот страшный, протяжный вой, раздвигая кусты. Вот… Мешок, рассыпанные ягоды. И кровь на жёлтых листьях. Павел лежал на них, разбросив руки. В отдалении, зарывшись лицом в валежник, лежал маленький Федя. В суровом молчании несли люди в Герасимовку тела убитых. И только одна девочка в красном галстуке плакала навзрыд и кричала: — Это Данилка!.. Он всегда Паше проходу не давал!.. Пошли с обыском в избу деда Сереги, нашли под крыльцом нож и Данилкину рубашку в крови. — Не я это!.. — заикаясь, завопил Данила. — Дед Серёга и Арсений Игнатьевич научили… Арсений Игнатьевич деньги обещал дать… Пр ивели бледного Кулуканова. Одёргивая дрожащими руками поддёвку и презрительно глядя на деда и Данилу, Кулуканов проговорил в тишине: — Не так сработали… Нужно было бы в болото под колоду… Тогда бы ворону костей не сыскать! …Целую неделю шёл снег, заметая лес и деревню. Ветер стучал калиткой, шипел в трубе. Татьяна не слышала его. Металась в постели, и губы шептали в бреду: — Дети… Паша… Федя… У постели по очереди дежурили соседки, ухаживали за Романом. В избе было тепло, пахло лекарством. Наконец Татьяна открыла глаза. Над ней кто-то заботливо склонялся, укутывая одеялом. Она приподняла голову, спросила: — Какой месяц? — Декабрь. Она помолчала. — А что… сделали тем?.. Убийцам?.. — Их больше нет, Таня… Татьяна встала, прошла по избе. Роман спал, посапывая. Она подошла к окну, за которым голубел в сумерках снег. Наискось от окна стоит высокий дом с резными воротами. Там жил Кулуканов. Татьяна всматривалась затуманенными глазами в красную вывеску над воротами, разбирала по слогам: «Правление колхоза имени Павлика Морозова». Глаза заволокло темнотой, не вскрикнув, она тяжело упала на пол. В январе ей стало лучше. И однажды в яркий морозный день к ней пришли школьники. Они входили в избу, окружённые холодом и паром, тихие и торжественные. Среди них стояла учительница, молоденькая, ласковая, взволнованная. Один из мальчиков приблизился к матери и, глотнув воздуха, тихо проговорил: — Тётя Таня… Мы… мы… это самое… Больше он ничего не мог сказать… Потом заговорила Зоя Александровна. Торопясь и сбиваясь, учительница рассказала о том, что дорогое имя пионера Павлика Морозова стало известно всей стране и что Советское правительство постановило соорудить ему памятник в Москве. И она, мать, не осталась забытой в своём горе, правительство назначило ей пожизненную персональную пенсию. А комсомольцы Крыма предлагают ей поселиться в солнечном Крыму, чтобы поправить своё здоровье. Мать не слышала её слов. Она смотрела в озабоченные и родные лица всех этих умолкнувших ребят, и ей вдруг захотелось прижать их всех к своему сердцу. Учительница, всё больше волнуясь, говорила о гордости за Герасимовку, в которой вырос такой отважный мальчик, о том, что миллионы советских ребят всегда будут стремиться быть такими же честными и преданными сынами Родины. Мать машинально повторила это слово: — Сынами… Она горячо задышала, сделала к ним шаг, протягивая дрожащие руки: — Ребятишки… Родные мои… Сыны мои… Юному герою, мужественному борцу за колхозную деревню Павлику Морозову поставлены памятники в Москве, на Красной Пресне, где был создан один из первых пионерских отрядов страны; в родном селе Герасимовке, вблизи Донской школы; в Труковском районе Ставропольского края. Имя отважного пионера занесено в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. Многим пионерским отрядам, дружинам, школам, Домам пионеров, детским клубам, пионерским лагерям, улицам в городах нашей Родины присвоено имя Павлика Морозова. Постановлением Совета Министров РСФСР одному из кораблей Советского флота присвоено имя Павлика Морозова.
ПЁТР ЗАЙЧЕНКО Ершов Яков Алексеевич
 Когда немецкие фашисты в июне 1941 года напали по-разбойничьи на нашу Родину, Пётр Зайченко думал, что до их села война не дойдёт.
Но вот ушли на фронт почти все мужчины. Бои приближались. Теперь не только по ночам, но и днём было слышно, как за рекой Тетерев гремела артиллерийская канонада. Мальчик часто выходил за околицу и с тревогой прислушивался к шуму недалёкого сражения. Потом близ села прошли наши войска. Пётр видел, как по песчаной дороге артиллеристы тащили пушку. Пётр бросился им помогать. Чернявый, заросший щетиной боец предупредил его:
— Остерегайся, парень. Фашист близко. Мы последние отходим.
Пётр проводил артиллеристов через лес. Показал, как выйти на шлях. Когда шёл обратно, заметил, что село словно вымерло. На улице— ни души. Даже курицы, постоянно копавшиеся в дорожной пыли, куда-то скрылись.
Рано утром в село, тарахтя, влетели немецкие мотоциклисты. Пётр видел, как фашисты стали сгонять на площадь жителей, как с пистолетами носились за уцелевшими поросятами. Возвращаться в село было небезопасно. Пётр побрёл в лес.
Хата Кириленко стояла на краю села, у самого леса. Василь целыми днями пропадал в лесу. То ходил за хворостом, то разыскивал якобы пропавшую корову. На улицах села появлялся редко. Не хотел встречаться с фашистами.
Сегодня он встал пораньше, чтобы, пока в селе тихо, принести из колодца воды. Только опустил журавель, как увидел на срубе бумажку.
Оторвал её и сунул в карман. Дома рассмотрел повнимательней, торопливо позвал мать.
— Мам, посмотри-ка, что на кринице нашёл. Читай!
На листочке, вырванном из ученической тетради, кто-то торопливо вывел карандашом:
Когда немецкие фашисты в июне 1941 года напали по-разбойничьи на нашу Родину, Пётр Зайченко думал, что до их села война не дойдёт.
Но вот ушли на фронт почти все мужчины. Бои приближались. Теперь не только по ночам, но и днём было слышно, как за рекой Тетерев гремела артиллерийская канонада. Мальчик часто выходил за околицу и с тревогой прислушивался к шуму недалёкого сражения. Потом близ села прошли наши войска. Пётр видел, как по песчаной дороге артиллеристы тащили пушку. Пётр бросился им помогать. Чернявый, заросший щетиной боец предупредил его:
— Остерегайся, парень. Фашист близко. Мы последние отходим.
Пётр проводил артиллеристов через лес. Показал, как выйти на шлях. Когда шёл обратно, заметил, что село словно вымерло. На улице— ни души. Даже курицы, постоянно копавшиеся в дорожной пыли, куда-то скрылись.
Рано утром в село, тарахтя, влетели немецкие мотоциклисты. Пётр видел, как фашисты стали сгонять на площадь жителей, как с пистолетами носились за уцелевшими поросятами. Возвращаться в село было небезопасно. Пётр побрёл в лес.
Хата Кириленко стояла на краю села, у самого леса. Василь целыми днями пропадал в лесу. То ходил за хворостом, то разыскивал якобы пропавшую корову. На улицах села появлялся редко. Не хотел встречаться с фашистами.
Сегодня он встал пораньше, чтобы, пока в селе тихо, принести из колодца воды. Только опустил журавель, как увидел на срубе бумажку.
Оторвал её и сунул в карман. Дома рассмотрел повнимательней, торопливо позвал мать.
— Мам, посмотри-ка, что на кринице нашёл. Читай!
На листочке, вырванном из ученической тетради, кто-то торопливо вывел карандашом:
«Товарищи! Не покоряйтесь фашистам. Пусть не будет им житья на нашей земле. Уходите в лес к партизанам. Смерть немецким оккупантам! Командир партизанского отряда Пётр Зайченко».
 — Видала! — торжествовал Вася. — Командир партизанского отряда! И крупно так выведено. Буквы — одна к другой. Чтоб, каждый прочитать мог.
Мать хмуро поглядела на него, спросила, будто без интереса, так, на всякий случай:
— Это какой же Зайченко? Не приятель ли твой?
— Он, — весело отозвался Вася. — Ох, и смелый парень!
— Ты поосторожнее, — строго предупредила мать. — Гляди, фашисты узнают — не помилуют. Дай-ка сюда бумажку-то…
Василь не обиделся на неё. Он знал, что сердится мать для вида.
По вечерам в доме люди из леса. Кто же это, как не партизаны? От него не скроешь. Вот наступит ночь — и опять придёт от партизан связной.
И будет мать шептаться да поглядывать, спит ли он, Василь. А он притаится, закроет глаза. Пусть себе шепчутся, пусть думают, что он спит. А он всё знает: и про листовку знает, и кто такой Пётр Зайченко, знает. Хорошо бы узнать у связного, где этот отряд, и податься в партизаны… Да разве тот скажет! Военная тайна. Сам, дескать, первый раз слышу. Да Василь не будет на него в обиде. Понимает: секрет есть секрет, не всякому скажешь. Зато и у него, Василя, есть теперь настоящая военная тайна…
Не довелось Василю в тот раз поговорить с партизанскими связными.
Теперь в пору самому с матерью в лес уходить. Проведали фашисты про листовки, покоя не дают. По селу с обысками ходят, дважды лес прочёсывали: партизан искали. Не нашли.
Не знал Василь, что партизаны были в тот момент не так уж далеко.
Отряд, выслав вперёд дозорных, бесшумно двигался по сумрачному лесу. Дозорные передали: «Видим костёр». Остановились. Двое партизан подошли поближе, притаились за деревьями. Видят, сидит у костра вихрастый паренёк и варит что-то в подвешенной на проволоке каске, помешивая ложкой. Рядом лежит немецкий автомат. Партизан кивнул своему напарнику, и они вышли из темноты на свет костра. Парень услышал шорох, схватился за оружие.
— Стой! Кто идёт?
— Свои, партизаны.
Парень опустил автомат. Партизаны подошли к костру, протянули к огню озябшие руки.
— Что тут делаешь?
— Кашу варю. Разве не видишь?
— Кто такой?
Парень смотрел исподлобья, отвечал неохотно:
— Партизанский командир Пётр Зайченко.
Партизаны недоуменно переглянулись.
— Где же твой отряд, командир?
Всё так же Пётр пояснил:
— А это я и есть.
Подошёл из сумерек командир отряда Пётр Перминов.
— Загаси костёр, хлопец! Каратели близко. А огонь твой далеко виден.
Пётр разбросал головешки, засыпал их песком. Перминов пригласил его присесть.
У командира отряда не было оснований не верить этому хмурому, видать, измучившемуся в скитаниях по лесу парню. Не раз он уже слышал, что в окрестностях действует партизанский отряд под командованием Петра Зайченко. Он даже искал встречи с ним. Но чтобы отряд состоял из одного командира, этого он никак не предполагал.
— Ну, и как же ты партизанишь? — улыбнулся Перминов, положив ладонь на острое колено «командира».
Петя насторожился:
— А вы не смейтесь! Я всерьёз!
— Да ведь и я всерьёз спрашиваю, — всё с той же улыбкой отозвался Перминов. — А что усмехнулся, так это не над тобой, а над фашистами. Уж больно они испугались партизанского отряда Петра Зайченко. Даже карательную экспедицию против него снарядили.
— Да ну? — удивился Пётр. — Неужто правда?
— Уж я врать не буду, — заверил его Перминов. — Точные сведения.
Так как же твои дела идут, командир? Давай отчёт.
Пётр насупился, потёр рукой лоб, припоминая самое важное.
— Да что ж тут давать-то, — начал он, — вот вчера провёл «молочную операцию».
Партизаны переглянулись.
— Это что ещё такое?
— Полицай молоко собирал для фашистов, — пояснил Пётр. — Ну, я забрался в сарай, где оно хранилось, и опрокинул бидоны. Молоко рекой полилось. А я ушёл и записку оставил: «Смерть немецким оккупантам! Командир партизанского отряда Пётр Зайченко».
Кругом засмеялись, дружно похваливая находчивого парня:
— Молодец, смело действуешь.
А Перминов сказал, как бы подводя итог разговору:
— Ну, что ж, Пётр. Отряд твой зарекомендовал себя неплохо.
Уж если фашисты всполошились, значит, донял ты их. Есть такое предложение: у тебя отряд, и у меня отряд. Лучше будет, если объединить их в один. Как твоё мнение?
Пётр глянул на командира и тихо ответил:
— Если всерьёз, то я согласен.
— Ну что ты затвердил одно и то же, как попугай: всерьёз да всерьёз, — упрекнул его Перминов, — сейчас не до шуток. Поскольку ты парень местный и лес этот, видать, как свои пять пальцев знаешь, то зачисляю тебя в разведчики.
— У меня в селе ребята есть, — вставил Петя и тут же замолчал, поймав себя на мысли: «Ещё подумают, что хвастаюсь».
— Видала! — торжествовал Вася. — Командир партизанского отряда! И крупно так выведено. Буквы — одна к другой. Чтоб, каждый прочитать мог.
Мать хмуро поглядела на него, спросила, будто без интереса, так, на всякий случай:
— Это какой же Зайченко? Не приятель ли твой?
— Он, — весело отозвался Вася. — Ох, и смелый парень!
— Ты поосторожнее, — строго предупредила мать. — Гляди, фашисты узнают — не помилуют. Дай-ка сюда бумажку-то…
Василь не обиделся на неё. Он знал, что сердится мать для вида.
По вечерам в доме люди из леса. Кто же это, как не партизаны? От него не скроешь. Вот наступит ночь — и опять придёт от партизан связной.
И будет мать шептаться да поглядывать, спит ли он, Василь. А он притаится, закроет глаза. Пусть себе шепчутся, пусть думают, что он спит. А он всё знает: и про листовку знает, и кто такой Пётр Зайченко, знает. Хорошо бы узнать у связного, где этот отряд, и податься в партизаны… Да разве тот скажет! Военная тайна. Сам, дескать, первый раз слышу. Да Василь не будет на него в обиде. Понимает: секрет есть секрет, не всякому скажешь. Зато и у него, Василя, есть теперь настоящая военная тайна…
Не довелось Василю в тот раз поговорить с партизанскими связными.
Теперь в пору самому с матерью в лес уходить. Проведали фашисты про листовки, покоя не дают. По селу с обысками ходят, дважды лес прочёсывали: партизан искали. Не нашли.
Не знал Василь, что партизаны были в тот момент не так уж далеко.
Отряд, выслав вперёд дозорных, бесшумно двигался по сумрачному лесу. Дозорные передали: «Видим костёр». Остановились. Двое партизан подошли поближе, притаились за деревьями. Видят, сидит у костра вихрастый паренёк и варит что-то в подвешенной на проволоке каске, помешивая ложкой. Рядом лежит немецкий автомат. Партизан кивнул своему напарнику, и они вышли из темноты на свет костра. Парень услышал шорох, схватился за оружие.
— Стой! Кто идёт?
— Свои, партизаны.
Парень опустил автомат. Партизаны подошли к костру, протянули к огню озябшие руки.
— Что тут делаешь?
— Кашу варю. Разве не видишь?
— Кто такой?
Парень смотрел исподлобья, отвечал неохотно:
— Партизанский командир Пётр Зайченко.
Партизаны недоуменно переглянулись.
— Где же твой отряд, командир?
Всё так же Пётр пояснил:
— А это я и есть.
Подошёл из сумерек командир отряда Пётр Перминов.
— Загаси костёр, хлопец! Каратели близко. А огонь твой далеко виден.
Пётр разбросал головешки, засыпал их песком. Перминов пригласил его присесть.
У командира отряда не было оснований не верить этому хмурому, видать, измучившемуся в скитаниях по лесу парню. Не раз он уже слышал, что в окрестностях действует партизанский отряд под командованием Петра Зайченко. Он даже искал встречи с ним. Но чтобы отряд состоял из одного командира, этого он никак не предполагал.
— Ну, и как же ты партизанишь? — улыбнулся Перминов, положив ладонь на острое колено «командира».
Петя насторожился:
— А вы не смейтесь! Я всерьёз!
— Да ведь и я всерьёз спрашиваю, — всё с той же улыбкой отозвался Перминов. — А что усмехнулся, так это не над тобой, а над фашистами. Уж больно они испугались партизанского отряда Петра Зайченко. Даже карательную экспедицию против него снарядили.
— Да ну? — удивился Пётр. — Неужто правда?
— Уж я врать не буду, — заверил его Перминов. — Точные сведения.
Так как же твои дела идут, командир? Давай отчёт.
Пётр насупился, потёр рукой лоб, припоминая самое важное.
— Да что ж тут давать-то, — начал он, — вот вчера провёл «молочную операцию».
Партизаны переглянулись.
— Это что ещё такое?
— Полицай молоко собирал для фашистов, — пояснил Пётр. — Ну, я забрался в сарай, где оно хранилось, и опрокинул бидоны. Молоко рекой полилось. А я ушёл и записку оставил: «Смерть немецким оккупантам! Командир партизанского отряда Пётр Зайченко».
Кругом засмеялись, дружно похваливая находчивого парня:
— Молодец, смело действуешь.
А Перминов сказал, как бы подводя итог разговору:
— Ну, что ж, Пётр. Отряд твой зарекомендовал себя неплохо.
Уж если фашисты всполошились, значит, донял ты их. Есть такое предложение: у тебя отряд, и у меня отряд. Лучше будет, если объединить их в один. Как твоё мнение?
Пётр глянул на командира и тихо ответил:
— Если всерьёз, то я согласен.
— Ну что ты затвердил одно и то же, как попугай: всерьёз да всерьёз, — упрекнул его Перминов, — сейчас не до шуток. Поскольку ты парень местный и лес этот, видать, как свои пять пальцев знаешь, то зачисляю тебя в разведчики.
— У меня в селе ребята есть, — вставил Петя и тут же замолчал, поймав себя на мысли: «Ещё подумают, что хвастаюсь».
 — Вот и хорошо, — одобрил его Перминов.
Сборы были короткими. И вскоре отряд продолжил свой путь.
— Вот и хорошо, — одобрил его Перминов.
Сборы были короткими. И вскоре отряд продолжил свой путь.
* * *
Василь встретил Петра Зайченко за рекой у опушки леса. — Петька, ты! — Ну, я. — Я ж тебя сколько дней шукаю. С тех пор, как листовку нашёл. — Где ж ты её нашел? — На кринице. — Верно. Моя. Они залегли в кустах лицом к реке и пересказывали друг другу всё, что накопилось за долгие месяцы с тех пор, как село заняли фашисты. Петра интересовало, что нового в селе, можно ли там появиться. Наконец он перешёл к самому главному. На хуторе, за рекой, спрятано оружие. Его бы переправить партизанам, но как? Тетерев широк. Вот если бы лодка. — Есть! — встрепенулся Вася. — Мне Микола хвастал, что у него в кустарнике у реки лодка спрятана. — Слушай, Василь! — ухватил его за руку Пётр. — Вот было б дело! С вас, пацанов, спрос мал. В случае чего, скажете: побаловаться захотели. Уговори ты своего приятеля. А? — Да чего там, — тряхнул головой Вася. — Сказано, сделаем. — Ну, всё, — облегчённо вздохнул Пётр. Вася вдруг вскочил, стал растерянно шарить по карманам. — Неужели забыл? — шептал он. — Нет, вот она. — Чего ты? — полюбопытствовал Петя. Вася, зажав бумажку в кулаке, зашептал ему на ухо: — Ты понимаешь, тёзка мой, Василь Прокопенко, сам смастерил радиоприёмник. И теперь тихонько от фашистов по ночам слушаёт наше советское радио. И записывает. — Да ну? — удивился Петя. — А ты не врёшь? — Ну вот ещё! — обиделся Вася. — Буду я врать. Я с собой прихватил.. — Что? Приёмник? — не утерпел Петя. — Да нет, — остановил его Вася. — Сводку про боевые действия на фронте. Вот она. Вася разжал кулак, показывая смятую бумажку. — Дай сюда! — Пётр торопливо, трясущимися от нетерпения руками развернул бумажку, жадно прочитал. — Ну, ребята, ну, молодцы! — восхищался он. — Хорошо придумали. Ведь мы в лесу эти вести нечасто слышим. Он легонько разгладил бумажку на коленке, проникновенно сказал: — Передай своему тёзке от имени командира отряда нашу партизанскую благодарность. И дело это продолжайте. Записывайте и рассказывайте в селе ребятам. А те уж найдут, кому передать. Идёт? — Идёт! — обрадованно согласился Вася. — Не забудь! — напомнил Пётр. — Буду ждать вас на хуторе завтра. И осторожно с лодкой. Чтоб никто про неё не знал. Пётр пожал Васе руку и скрылся в лесу.* * *
Было ли задание, которое оказалось бы не по плечу этому вихрастому пареньку с острыми, живыми глазами? Кажется, нет. Когда нужно было побывать в селе и подсчитать, какими силами располагают каратели, это часто поручалось ему. Кто мог в невинном попрошайке с осунувшимся, заострённым, будто от недоедания, лицом заподозрить опытного и зоркого разведчика? С замызганной полотняной сумкой через плечо появлялся Пётр на улицах сёл. Низенький, слегка прихрамывая, переходил он от дома к дому, просил милостыню. Опускал кусочки чёрствого хлеба в потрёпанную сумку, а сам зорко смотрел по сторонам и намётанным глазом определял, где разместился штаб карательного отряда, сколько у врагов пулемётов и пушек, сколько солдат у походной кухни. — Молодец, тёзка! — хвалил Петю командир отряда. — Везёт парню, — говорили между собой партизаны. — Прямо в пасть зверю ходит. И ничего. Но не так-то просто и безопасно жилось Пете. Часто бывал он неосторожен, горяч и тогда дорого платил за свои ошибки. Командир строго запретил ему появляться в родном селе. Там знали, что Пётр ушёл к партизанам. Но не выдержал, захотелось взглянуть на родной дом, на школу, где учился. День просидел в своём, сооружённом ещё до войны, шалаше на ветках гигантской сосны. А как стемнело, пробрался в село. Грустные вести ждали его там. Погиб верный помощник, пионер Вася Прокопенко. Фашисты нашли его на чердаке, когда Вася принимал по радио сообщение из Москвы. Схватили палачи и Васю Кириленко. Вместе с матерью увезли его в Иванково. Там казнили. Злобой закипело сердце Петра. Для начала приклеил листовку на дверях полицая, что навёл фашистов на след ребят. «Пусть знают, что здесь живёт выродок». Всё сделал чисто, да не рассчитал: слишком быстро побежал от крыльца и нарвался на патруль. Отвели его к старосте. У того как раз гости — немцы из районного городка Иванково. Начались расспросы: кто да что? Выяснилось, что парня зовут Петром Зайченко. — Зайченко? —переспросил немец. — Партизанский командир Пётр Зайченко кем тебе приходится? Ничего не добившись, решили задержать Петю до утра. Его закрыли в тот самый сарай, в котором он когда-то проводил «молочную операцию». Всю ночь разгребал он пальцами твёрдую, слежавшуюся землю под стеной сарая. К утру еле протиснулся в узкий лаз. И вовремя. Он уже слышал, как загремел засов и полицай крикнул в темноту сарая: — Эй, ты, пацан, выходи! Немцы тебе будут допрос делать. Где ты запропал? Чуешь? Пётр не стал дожидаться, пока полицай выяснит, где он запропал. Огородами побежал к лесу. Его быстро обнаружили. Началась погоня. Полицаи шли за ним по пятам, и ничего не оставалось, как повернуть к реке. Теперь он выиграл у врага несколько минут. Но река! Как переплыть Тетерев? Вот если б была лодка! И тут он вспомнил, что ребята по его же заданию на лодке перевозили оружие с хутора. Надо поискать. А вдруг она сохранилась? Тогда — спасение. Он метался по берегу реки, но лодки нигде не было. Еле живой, добежал он до низкорослого кустарника и, обессиленный, упал на землю. Всё. Сейчас схватят. А у него даже оружия нет. Защищаться нечем. Вот кто-то подошёл, шурша песком, коснулся его плеча. — Товарищ… — Кто это? — Пётр приподнял голову, открыл глаза. — Товарищ, тут лодка в зарослях. Бежим! Скорее! Пётр вскочил. Бегом к лодке. Сталкивая её в воду, они узнали друг друга. — Микола? Ты! — Ну, я! Прыгай! Пётр сам сел на вёсла, стремглав пересёк широкий Тетерев. — Спасибо, друг, выручил. Теперь пообожди тут дотемна, а то сцапают. — Знаю. Не впервой, — степенно ответил Коля. Так они и расстались. В отряд Пётр явился вовремя. Партизаны готовились к крупной операции. Пётр упросил, чтобы и его включили в одну из боевых групп. Долго лежали они на опушке леса, поджидая эшелон с фашистами. Но вот послышался нарастающий шум, показался поезд. И тут раздались сразу три взрыва. Уцелевшие фашисты залегли и открыли огонь. Командир приказал отходить. На сборный пункт явились все. Не было только Петра Зайченко. Его ждали три дня, искали, но безуспешно. Женщина очень испугалась, когда, придя в лес за хворостом, нашла в овражке раненого паренька. Он, видно, долго полз, стараясь уйти подальше от места боя, потерял много крови и теперь был без сознания и даже не стонал, когда женщина волоком тащила его, положив на хворост и укрыв сверху еловыми ветками. Двое суток он лежал без памяти, а на третьи тихонько застонал. — Вот и хорошо, — обрадовалась хозяйка. — Подал голосок. Теперь пойдёт на поправку. Паренёк и впрямь стал быстро поправляться. Поначалу он всё молчал, приглядываясь к тому, что делалось в доме. Смотрел, как хозяйка топила печь, готовила нехитрую еду, а раз в неделю отправлялась в лес за хворостом, приходила с вязанкой за спиной и гулко сбрасывала её в сенях на пол. Она входила в хату и заговаривала с ним. Он отвечал односложно: да, нет. Это обижало её. Всё-таки она рисковала, притащив его раненого из леса в свою хату и оставив у себя. Почему же ей не доверять? Парень, видимо, тоже понимал это. И он рассказал, будто так же вот ходил за хворостом, да послышались взрывы, появились откуда-то фашисты и открыли стрельбу. Как ни хоронился он, а и его задела шальная пуля. Ещё хорошо, что вовремя скатился в овраг. А то бы нашли каратели да приняли б за партизана. А какой он партизан? Мал ещё. Хозяйка соглашалась, что, конечно, мал, и всё спрашивала, как звать его. Фамилии своей, однако, паренёк так и не назвал, сказал только, что зовут его Петей. Пётр ходил по селу, никак не мог себя успокоить. Вот и фашистов прогнали и село освободили, да на душе неспокойно. Лучших друзей отняли у него фашисты. Не застал он Колю Даниленко, что помог ему переправиться через реку, спас его от полицаев. Выследили Колю фашисты, когда он переплавлял на своей утлой лодочке партизан. Как отомстить за друзей? В путь… Он сумеет ещё отомстить, постоять за Советскую Родину… Только побывать бы ещё раз на реке, посидеть на том бережку, где сиживал когда-то с ребятами. Пётр плотнее прижал локтем автомат к спине и стал торопливо спускаться к реке…* * *
Пётр Зайченко родился в селе Коленцы Иванковского района Киевской области. Красные следопыты — участники Второго экспедиционного отряда 288-й школы, разыскали проживающего в г. Москве бывшего командира партизанского отряда П. Р. Перминова, где воевал Пётр Зайченко. Вместе с Перминовым ребята пошли по местам боевых действий отряда, встречались с жителями села Коленцы.САША КОВАЛЕВ Тихомиров Вениамин Васильевич
 Далеко-далеко на севере находится посёлок Гранитный. С трёх сторон скалы, с четвёртой — холодное Баренцево море.
На одной из береговых сопок стоит памятник.
На нём портрет мальчика в матросской форме и короткая надпись: «Юнга Саша Ковалёв погиб в море при выполнении боевой задачи 9 мая 1944 г.»
Далеко-далеко на севере находится посёлок Гранитный. С трёх сторон скалы, с четвёртой — холодное Баренцево море.
На одной из береговых сопок стоит памятник.
На нём портрет мальчика в матросской форме и короткая надпись: «Юнга Саша Ковалёв погиб в море при выполнении боевой задачи 9 мая 1944 г.»
* * *
Родился Саша в Москве. Папа работал инженером, мама— врачом. Нянчила его бабушка. Водилб гулять. Рассказывала сказки. Читала книжки. Саше хотелось скорее вырасти. — Пойдём, пойдём, бабуля, — чуть ли не каждый день подводил он её к двери, где карандашными чёрточками отмечался рост мальчика. Ребята во дворе иногда обижали Сашу. Он жаловался маме. А та отвечала: — А ты не поддавайся. Сам не нападай, но и обижать себя не позволяй. — А за других заступаться можно? — спрашивал он. — Ты всегда должен делать это, Шурик! Как-то летом вместе с мамой Саша катался на лодке. Вода в пруду была тёплая. Перегнувшись через борт, мальчик шлёпал ладошками по воде, ловил жучков, доставал водоросли. Лодка тихо вошла в густые заросли лилий и кувшинок. — Ой, сколько их тут, мама! Саша потянулся к цветам. Ухватившись за стебель, он попытался достать одну из самых крупных лилий. Борт накренился так низко, что в лодку хлынула вода. Мама увидела его барахтающимся в воде и бросилась на выручку. Через несколько минут они сидели на зелёном берегу, сушили одежду. — Плохой ты моряк, Саша, — говорила ему мама. — Почему же плохой? Я потерпел кораблекрушение. А ты мне помощь оказала… Кончилось лето. В первый день сентября Саша сел за парту. Это было в тысяча девятьсот тридцать пятом году. Вскоре семья переехала в Ленинград. Несколько дней подряд вместе с папой они гуляли по городу. Любовались Невой. Сидели на каменных ступенях набережной. Прошли два года занятий в школе. В канун Октябрьского праздника Сашу принимали в пионеры. Собралось много ребят. — Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик… — повторял он торжественное обещание. — К борьбе за дело рабочего класса будьте готовы! — услышал Саша слова вожатого. — Всегда готовы! — ответил он вместе со всеми. Сияющий и счастливый прибежал Саша домой. Первым его поздравил сосед по квартире Тихон Сергеевич, старый большевик, участник штурма Зимнего дворца. — Помни, Саша, — сказал он, — тебе вручена частица нашего революционного знамени. — Тихон Сергеевич осторожно поднял уголок пионерского галстука. — Носи его с честью! Не забывай — ты внук великого Ленина. Ты — юный ленинец! Летом сорок первого года Саша отдыхал в пионерском лагере. Там его застала война. Папа ушёл на фронт. Первое письмо получили недели через две. Папа писал, что бои идут очень тяжёлые. Неспокойные дни переживал Ленинград. Фашисты всё чаще бомбили город. В парках и скверах были установлены зенитные батареи. Вскоре в дом пришла беда. Утром ушёл в магазин за хлебом. Вернувшись, он увидел маму в слезах. — Что случилось, мама? Не поднимая головы, она подала ему письмо. Перед глазами запрыгали строчки: «Пал смертью храбрых…» — Папа!.. — тихо простонал Саша и, выбежав на кухню, громко расплакался. В тот день в очереди за хлебом ему пришлось стоять очень долго. Магазин не открывали. Почему — никто не знал. Потом кто-то принёс нерадостную весть: машина, доставлявшая хлеб, попала под бомбёжку. По радио объявили «воздушную тревогу». Но очередь не расходилась. Налёт длился недолго. Взрывы бомб прогрохотали где-то невдалеке. Вот он, долгожданный маленький кусочек хлеба. Саша с жадностью смотрит на него. Так и хочется отщипнуть хотя бы крошечку поджаристой корочки. Он старается отвлечь свои мысли, думать о другом — и не может. Дошёл до своей улицы. Ещё несколько минут — и он дома. Но что это? У Саши подкосились ноги. Угол его родного дома зиял чёрной пустотой. Это был страшный день в жизни Саши: он узнал о гибели отца, потерял мать. Вместе со школьным дружком они решили бежать из осаждённого города. Куда? Конечно, на фронт. Он был рядом. У самой окраины Ленинграда. Сборы были недолгими. Пионерский галстук Саша спрятал за пазуху. — Это же лучший пропуск на фронте, — объяснил он своему дружку Серёже. — Любой командир как посмотрит, сразу скажет — свой! Как только стемнело, они отправились в путь. Ночь, как назло, выдалась светлая. Из-за облаков выплыла луна. Первым шёл Саша. Более получаса никто не произнёс ни слова. Где-то за лесом вспыхнула зелёная ракета, послышалась пулемётная очередь. — Ложись! — тихо сказал Саша. До их слуха донеслись непонятные немецкие слова. Друзья притихли. — Побежим дальше! — первым нарушил молчание Серёжа. Несколько автоматных очередей рассекло воздух. Рядом кто-то хрипло вскрикнул. Саша увидел Серёжу лежащим в чёрной траве. Подполз к нему, повернул на спину. — Серёжа!.. Серёжа!.. — тряс он его за плечи. Рука неожиданно коснулась чего-то мокрого и тёплого. Саша понял: это — кровь. Серёжа был ранен в голову. На третьи сутки, измученный и голодный, Саша добрался до небольшой железнодорожной станции. Людей нигде не было видно. «Идти или нет? — думал Саша. — Кто находится там: свои или фашисты?» Из-за поворота, громыхая колёсами, показался сначала паровоз, а за ним длинный хвост вагонов. На крышах — пулемёты и пушки. — Это ж наши моряки! — выкрикнул Саша. Поезд, резко замедлив ход, остановился. Саша вытащил пионерский галстук и протянул его вперёд. В ту же минуту паровоз дал гудок, и вагоны, дрогнув, тронулись с места. Он успел сказать лишь одно слово «возьмите» — и сразу почувствовал, как две сильные руки подхватили его и поставили на твёрдый пол вагона. Поезд шёл на север. Саша был зачислен в школу юнг Северного флота. Окончив её, он стал мотористом торпедного катера. Катер небольшой. Людей мало, но дел много. Хотя корабль и маленький, а вооружение на нём солидное: торпедные аппараты, крупнокалиберные пулемёты. На корме — стеллажи для глубинных бомб. А вот по скорости торпедному катеру нет равных. Ночью на базу торпедных катеров поступило срочное сообщение: обнаружены корабли противника. Получен боевой приказ — уничтожить вражеские суда. Четыре вражеских транспорта шли в охранении дозорных кораблей. Они были обнаружены. — Полный вперёд! — приказал командир. Мотористы увеличили ход. В это время с кораблей охранения ударила артиллерия. Открыли огонь береговые батареи противника. Не сбавляя скорость, катер летел вперёд. Осколком снаряда тяжело ранило сигнальщика. Командир отдал распоряжение: одного из мотористов вызвать на мостик, принять вахту сигнальщика. — Товарищ старшина, разрешите мне… — попросил Саша. — Ступай! — крикнул старшина. Саша появился на мостике как раз в тот момент, когда командир произнёс: — Аппараты! Все в ожидании. Ждут следующей команды. А катер, не взирая на ураганный огонь, продолжает свой путь. И, наконец, долгожданная команда: — Пли! Над морем взметнулись столбы огня и дыма. Торпеды попали в цель. Саша внимательно наблюдал, где ложатся вражеские снаряды и проходят трассы пуль. Командир выслушивал его доклады и тут же принимал нужные решения. Разгорячённый боем юнга совсем забыл об опасности. Сквозь грохот он услышал слова командира: «Спасибо тебе, Саша…» За этот бой юный моряк был награждён орденом Красной Звезды. В один из дней наши самолёты-разведчики обнаружили в море караван вражеских судов. Отряд торпедных катеров вышел навстречу каравану. Первым прокладывал дорогу катер, на котором служил Саша. С ходу ворвались наши катерники в самую середину вражеского конвоя. Фашисты не ожидали такой дерзости. Корабли охранения открыли беспорядочную стрельбу. Прямо по курсу сквозь пелену дымовой завесы командир обнаружил силуэт большого вражеского корабля. — Увеличить ход! — приказывает он мотористам. Саша тут же выполняет команду. Моторы напряжённо гудят, и его дрожь передаётся всему катеру. «Начинается… — угадывает юнга. — Сейчас командир отдаст команду: «Пли!» И как бы в подтверждение этого катер делает рывок: значит, торпеды пошли к цели. Через несколько секунд грохочет взрыв. В отсек спускается старшина. — Эсминец подорвали! — кричит он на ухо Саше. — Вот это здорово! — ликует юнга. — Скорость держи! — предупреждает старшина. — Из атаки выходим. На другой день катер снова в походе. Моряки прорвались во вражескую гавань. Их действия прикрывала апрельская метель. В Заполярье даже в мае бывают метели. Прямо у причала были потоплены два транспорта. Все участники этой смелой операции были награждены. Саше Ковалёву вручили медаль Ушакова. А ещё через неделю, светлой майской ночью, торпедные катера вышли снова на поиск кораблей противника. Сигнальщики докладывают: — Прямо по курсу, на горизонте, два корабля противника. — Атака! — звучит боевой приказ командира. Саша несёт ходовую вахту. Старшину вызвали на мостик. Юнга в отсеке один. Ему вверено управление ходом корабля. Рука привычно лежит на переключателе скоростей. Глаза впились в цифры приборов. Нервно прыгает стрелка машинного телеграфа, передавая распоряжение командира. Сильные толчки сотрясают катер. В отсеке накапливаются отработанные газы. Дышать всё труднее. Саша включает вентилятор. Возвращается старшина. — Ну, как дела?! — кричит он Саше. — Всё в порядке! — Так держать! — Есть, так держать! Где-то рядом рвутся вражеские снаряды. В отсеке одна за другой лопаются электрические лампочки. Саша быстро ввинчивает запасные. — Залп! — раздаётся команда. Торпеды понеслись прямо к вражескому кораблю. Мгновенно в воздух взлетели клубы огня и дыма. Через несколько минут корабль скрылся под водой. Отвернув влево, катер лёг на курс отхода. — Следить в оба! — приказывает старшина. — Есть, следить в оба! — отвечает Саша. Он хорошо знает, что при выходе из атаки скорость корабля имеет решающее значение. Сейчас всё зависит от мотористов, от его, Саши Ковалёва, мастерства. Корабли вражеского конвоя, обозлённые неудачей, весь свой огонь направили на торпедный катер. Одновременно начали обстрел из пулемётов и пушек самолёты, вызванные с береговых аэродромов. Всё, что происходило на верхней палубе, Саша видеть не мог. Но он чувствовал, что бой идёт тяжёлый. С оглушительным грохотом рвались где-то рядом снаряды, дробно стучали по бортам пули. Катер то и дело подбрасывало. Когда старшина сообщил Саше о потоплении вражеского корабля, юнга не вытерпел: — Это им за мой Ленинград! И в тот же момент катер содрогнулся от страшного взрыва. На какое-то мгновение Саша потерял сознание. Но длилось это недолго. Он быстро вскочил на ноги и огляделся вокруг, всё ещё не понимая, что же произошло. Неожиданная боль обожгла руку. Из пробоины выхлопного коллектора били две сильные струи горячего пара. Моторный отсек наполнялся удушливой смесью. Подбежав к раскалённому коллектору, Саша тут же отскочил. «Что делать? Где старшина?» И в ту же секунду Саша увидел его. Сбитый взрывной волной, он лежал на палубе. Саша бросился к нему. — Мотор! Мотор! — закричал старшина. Саша повернулся к мотору. Горячие струи хлестали безостановочно. С минуты на минуту мотор мог взорваться. Тогда кораблю смерть. «Что делать? Остановить мотор — значит, лишить катер хода. В бою это равносильно гибели. Нет, этого допустить нельзя». Бросившись вперёд, Саша грудью навалился на коллектор, зажав своим телом пробоину. Горячая вода и горячее масло быстро растекались по всему телу. Нестерпимая боль жгла, казалось, самое сердце. А Саша всё крепче прижимался к коллектору… Его вынесли на верхнюю палубу. На свежем воздухе Саша пришёл в себя. Первым, что он увидел, было склонённое над ним забинтованное лицо старшины! — Жив наш корабль? — еле выговаривая слова, тихо спросил Саша. — Жив! Жив! Ты посмотри!.. Мы подходим к родным берегам…* * *
Есть в посёлке Гранитном школа имени Саши Ковалёва. Она рядом с памятником. В школе есть Сашина парта. За ней сидят самые лучшие ученики. Первый урок для первоклассников здесь начинается рассказом о подвиге юного моряка. Дорога к школе проходит возле памятника. Малыши спешат на уроки, возвращаются домой… На них с портрета смотрит Саша Ковалёв. За свой беспримерный подвиг юный герой награждён посмертно орденом Отечественной войны 1-й степени. Именем Саши Ковалёва названа одна из улиц в городе Североморске. Постановлением Совета Министров РСФСР одному из кораблей Советского флота присвоено имя Саши Ковалёва. ттТОЛЯ ШУМОВ Урланис Софья Иосифовна
 Год 1941, июнь 22…
Фашистская Германия вероломно напала на нашу страну.
В этот день, несмотря на воскресенье, в Осташёвскую школу пришли без приглашения все ученики.
Началось школьное собрание. Лица у ребят серьёзны, суровы: у многих отцы ушли уже на призывные пункты.
«Сразу как-то повзрослели», — думает директор школы Иван Николаевич Назаров, глядя на собравшихся.
Сдерживая волнение, он начинает говорить:
— Ребята! Юные друзья мои!.. На землю нашей Родины пришёл враг, страшный враг, фашист… Отцы ваши идут защищать вас, наше государство. Вы остаётесь дома за старших. Не бойтесь трудностей.
Будьте сильными, смелыми, мужественными. Помогайте вашим матерям во всём. Будьте готовы к тяжёлым испытаниям…
Выступает ученик Толя Шумов.
— Ребята, я предлагаю отменить каникулы, — говорит он. — Сегодня мы поможем военкомату разнести по домам повестки… А завтра пойдём со старшими строить военную дорогу.
— Правильно.
— Согласны.
Ребята поднимают руки. Они принимают первое в своей жизни важное решение.
Каждое утро вместе со своими друзьями — Витей Вишняковым, Володей Колядовым, Юрой Сухневым уходит Толя на строительство военной дороги. Домой возвращается усталый, неразговорчивый, осунувшийся. «Трудно ему, — думает Евдокия Степановна, — ведь совсем ещё мальчишка».
Толя, словно угадывая ее мысли, говорит:
— Ничего, мама. Я уже привык. Сначала было трудно. Не только мне — всем ребятам. Теперь ничего. Привыкаем.
Однажды Евдокия Степановна увидела его в саду. Толя стоял около своих цветов, о чём-то задумался…
— Поливал? — спросила она.
— Зачем? Не до цветов сейчас.
— Для цветов всегда должно быть время.
Толя внимательно посмотрел на мать.
Год 1941, июнь 22…
Фашистская Германия вероломно напала на нашу страну.
В этот день, несмотря на воскресенье, в Осташёвскую школу пришли без приглашения все ученики.
Началось школьное собрание. Лица у ребят серьёзны, суровы: у многих отцы ушли уже на призывные пункты.
«Сразу как-то повзрослели», — думает директор школы Иван Николаевич Назаров, глядя на собравшихся.
Сдерживая волнение, он начинает говорить:
— Ребята! Юные друзья мои!.. На землю нашей Родины пришёл враг, страшный враг, фашист… Отцы ваши идут защищать вас, наше государство. Вы остаётесь дома за старших. Не бойтесь трудностей.
Будьте сильными, смелыми, мужественными. Помогайте вашим матерям во всём. Будьте готовы к тяжёлым испытаниям…
Выступает ученик Толя Шумов.
— Ребята, я предлагаю отменить каникулы, — говорит он. — Сегодня мы поможем военкомату разнести по домам повестки… А завтра пойдём со старшими строить военную дорогу.
— Правильно.
— Согласны.
Ребята поднимают руки. Они принимают первое в своей жизни важное решение.
Каждое утро вместе со своими друзьями — Витей Вишняковым, Володей Колядовым, Юрой Сухневым уходит Толя на строительство военной дороги. Домой возвращается усталый, неразговорчивый, осунувшийся. «Трудно ему, — думает Евдокия Степановна, — ведь совсем ещё мальчишка».
Толя, словно угадывая ее мысли, говорит:
— Ничего, мама. Я уже привык. Сначала было трудно. Не только мне — всем ребятам. Теперь ничего. Привыкаем.
Однажды Евдокия Степановна увидела его в саду. Толя стоял около своих цветов, о чём-то задумался…
— Поливал? — спросила она.
— Зачем? Не до цветов сейчас.
— Для цветов всегда должно быть время.
Толя внимательно посмотрел на мать.
* * *
Возвращаясь как-то с работы, Толя узнал, что при военкомате организуется добровольческий истребительный батальон и что начальником штаба назначен директор школы Иван Николаевич Назаров. Рассказал об этом ребятам. — Нам нужно записаться туда. Запишут, как вы думаете? — спросил Толя. — Я уже говорил Ивану Николаевичу, — ответил Володя. — Он сказал, что поможет нам, поговорит с командиром батальона. Долго ещё разговаривали ребята в тот вечер. Утром они пришли в военкомат, разыскали Ивана Николаевича и сдали свои заявления. Занятия в истребительном батальоне проходили после работы. Ребята учились стрелять из винтовки и пулемёта, бросать гранаты, маскироваться, ходить по компасу… Фронт всё ближе и ближе подступал к Москве, шли тяжёлые бои. Как-то, возвращаясь с военных занятий, Толя и Витя проходили мимо школы. — Зайдём? — спросил Витя. Толя кивнул: «Зайдём». Они поднялись на свой этаж, вошли в свой класс. Всё напоминало войну: бумажные кресты на окнах, плакаты на стенах, маскировочные шторы из чёрной бумаги, указатели в бомбоубежище… Дребезжали стёкла. Недалеко от Осташёва шли бои. Ударили в рельс. Воздушная тревога!
— Не пойдём никуда. Здесь переждём, — шепнул Витя.
Толя прислушался к гулу самолётов.
— Вить! Давай дадим друг другу клятву!
— Давай! Пиши!
Толя сел за парту и стал писать:
Дребезжали стёкла. Недалеко от Осташёва шли бои. Ударили в рельс. Воздушная тревога!
— Не пойдём никуда. Здесь переждём, — шепнул Витя.
Толя прислушался к гулу самолётов.
— Вить! Давай дадим друг другу клятву!
— Давай! Пиши!
Толя сел за парту и стал писать:
«Мы будем защищать свою Родину от фашистов до последней капли крови. Если кто из нас попадётся в руки врагов, даже смерть не заставит нас выдать друг друга и своих товарищей. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Виктор Вишняков, Анатолий Шумов».
* * *
Нежданные октябрьские морозы. Ухают орудийные залпы. Истребительный батальон обороняет левый берег реки Рузы. Среди бойцов Толя Шумов, Витя Вишняков, Володя Колядов и Юра Сухнев. В случае отступления батальона им разрешено уйти в лес к Ивану Николаевичу Назарову. Он назначен командиром партизанского отряда. Двое суток мужественно обороняется батальон. Но вот стрельба на время стихает, и показываются фашистские танки. У бойцов кончаются боеприпасы, поступает приказ: отходить. Ребята уходят в лес. Они идут долго, известными им одним тропами, перебираются через овраги и, наконец, попадают в расположение партизанского отряда. Их встречает Иван Николаевич Назаров. Он подробно расспрашивает ребят о боевом крещении. Усталые, осунувшиеся, они отвечают сдержанно: — Мы бы еще продержались, но у нас гранаты кончились… Толю Шумова зачисляют в разведчики. Витя остаётся связным в Осташёве.* * *
По дороге медленно движется немецкая автоколонна: два грузовика с солдатами и большая цистерна с горючим. Заснеженный зимний лес тих и неподвижен. Да и кто в нём может быть в такой мороз? Один из солдат заметил на дереве белку и оживлённо что-то сказал другому. Оба рассмеялись. И вдруг тишина словно лопнула. Ярким факелом занялась цистерна с горючим. Вопли раненых гитлеровцев смешались с выстрелами и взрывами гранат. Те, кто уцелел, выскакивали из машин и бросались в снег, стреляя наугад. Им казалось, что они окружены. Казалось, что их расстреливает насупившийся заснеженный русский лес. Но вот всё затихло. — Отходить! — раздалась негромкая команда. Замерли последние шаги мстителей, лес укрыл партизан. А на дороге остались коченеть трупы фашистских солдат, догорали машины, исковерканные взрывами. Радостные, оживлённые возвращались партизаны в лагерь. Толя Шумов был взволнован так же, как и все, но старался не показывать вида. Это была его первая партизанская боевая операция. В лагере ребят вызвал к себе командир. Он крепко пожал им руки: — Молодцы! Ребята смущённо улыбались. Хотелось многое сказать, но нужные слова не приходили… — Ну что, Толя? — спросил Иван Николаевич. Толя улыбнулся, пожал плечами: — Что мне сказать. Главное — уничтожать фашистов. Толе не раз приходилось ходить в разведку. Случалось, его задерживали, но всегда выручали находчивость, смекалка, хитрость. На площади села Осташёво застрял немецкий грузовик. Фашистский офицер открыл дверцу и был готов уже вылезти из машины, как подбежал какой-то паренёк в лохмотьях, осторожно взял офицера за сапоги и занес его ноги обратно в кабину. Затем проворно засунул под задние скаты поленья дров и закричал: — Поехали! Грузовик фыркая выбрался на твёрдую дорогу. — Рус, рус, карашо! — высунулся офицер из кабины. — Рус, полезай в кузов! В доме, где жил на постое фашист, паренек растопил печь, поставил два ведра с водой, разыскал в доме корыто. — Вам надо помыться, господин офицер, — вдруг сказал паренёк, — у вас вши. — Что? — переспросил немец. — Лаус, вошь, господин офицер. — Ты знаешь по-немецки? — Я знаю только одно слово — вошь. — Баня готова, господин офицер. — Вот как надо служить, дурак, — сказал офицер своему денщику. Паренёк намылил офицеру голову. Затем позвал денщика, всунул ему в руки кувшин с горячей водой, мыло, мочалку.
— Давай помогай!..
Пока два фашиста занимались баней, паренёк выскользнул в соседнюю комнату, снял висевшую на стуле полевую сумку с документами, спрятал за пазуху лежавший на столе пистолет, прихватил планшет с картой и вышел в сени.
В сенях стояло старое удилище. Он взял его и вошёл в комнату, где мылся офицер.
— Пойду на реку за рыбой.
— А ты не убежишь?
— Хайль Гитлер! — крикнул в ответ паренёк.
— Хайль Гитлер! — восторженно заорал сидевший в корыте офицер.
У реки паренёк поймал беспризорного коня, перебрался на другой берег и исчез в лесу.
Из гильзы снаряда сделана керосиновая лампа. Огонь освещает лица партизанских вожаков: секретаря подпольного райкома партии Алексея Ивановича Бормотова, командира отряда Ивана Николаевича Назарова, комиссара Ивана Никитича Еранова.
В землянке держат совет.
— Шумову удалось провести фашистского офицера. Доставленные документы представляют большую ценность для нашего командования, — докладывает Назаров. — Случай с баней дошёл до местного населения. Народ в деревне радуется, как партизаны провели фашистов. Но этот случай всполошил немецкий штаб. Повсюду усилена охрана. В Каменках обозлённые фашисты расстреляли наших военнопленных и во всех деревнях повесили объявления, что они уничтожили партизан.
— Товарищ командир, разрешите? — обратился Толя к Назарову. — А что если наши листовки наклеить на немецкие объявления?
Пусть в деревнях знают, что партизаны есть.
— Поэтому мы и вызвали тебя, — сказал Бормотов. — Листовки уже отпечатаны. Держи пачку.
Толя пробежал глазами текст: «Мы здесь с вами, дорогие, родные братья и сёстры! Мы никогда никуда не уйдём. Мы с вами вместе будем бороться до победы над фашистскими насильниками. Никакой пощады врагу!..»
— Здорово! — сказал Толя. — Разрешите выполнять?
Паренёк намылил офицеру голову. Затем позвал денщика, всунул ему в руки кувшин с горячей водой, мыло, мочалку.
— Давай помогай!..
Пока два фашиста занимались баней, паренёк выскользнул в соседнюю комнату, снял висевшую на стуле полевую сумку с документами, спрятал за пазуху лежавший на столе пистолет, прихватил планшет с картой и вышел в сени.
В сенях стояло старое удилище. Он взял его и вошёл в комнату, где мылся офицер.
— Пойду на реку за рыбой.
— А ты не убежишь?
— Хайль Гитлер! — крикнул в ответ паренёк.
— Хайль Гитлер! — восторженно заорал сидевший в корыте офицер.
У реки паренёк поймал беспризорного коня, перебрался на другой берег и исчез в лесу.
Из гильзы снаряда сделана керосиновая лампа. Огонь освещает лица партизанских вожаков: секретаря подпольного райкома партии Алексея Ивановича Бормотова, командира отряда Ивана Николаевича Назарова, комиссара Ивана Никитича Еранова.
В землянке держат совет.
— Шумову удалось провести фашистского офицера. Доставленные документы представляют большую ценность для нашего командования, — докладывает Назаров. — Случай с баней дошёл до местного населения. Народ в деревне радуется, как партизаны провели фашистов. Но этот случай всполошил немецкий штаб. Повсюду усилена охрана. В Каменках обозлённые фашисты расстреляли наших военнопленных и во всех деревнях повесили объявления, что они уничтожили партизан.
— Товарищ командир, разрешите? — обратился Толя к Назарову. — А что если наши листовки наклеить на немецкие объявления?
Пусть в деревнях знают, что партизаны есть.
— Поэтому мы и вызвали тебя, — сказал Бормотов. — Листовки уже отпечатаны. Держи пачку.
Толя пробежал глазами текст: «Мы здесь с вами, дорогие, родные братья и сёстры! Мы никогда никуда не уйдём. Мы с вами вместе будем бороться до победы над фашистскими насильниками. Никакой пощады врагу!..»
— Здорово! — сказал Толя. — Разрешите выполнять?
* * *
От одной деревни к другой шёл партизан. Толя заходил в дома, где были свои люди, передавал им листовки. И то там, то здесь останавливаются люди у заборов, столбов и с радостью читают: «Мы здесь с вами, дорогие, родные братья и сёстры. Мы никогда никуда не уйдём…» Уже почти все листовки разнёс Толя. Осталось совсем немного. Юный партизан вышел на тропинку, ведущую к шоссе на Осташёво. Вдруг до него донёсся шум моторов. Шум приближался. Толя отполз в сторону от тропинки в кусты, зарылся в снег и стал наблюдать. Его внимание привлекли двигающиеся по шоссе танки. Таких он ещё не видел. Танки двигались тяжело. Толя заметил, что они будто вышли из ворот завода, — нигде ни одной царапины на броне. Впереди танков ехала машина с офицерами. За танками двигались грузовики, крытые брезентом. Из-под брезента выглядывали солдаты. «Наверное, охрана, — подумал Толя. — Как бы посмотреть поближе?» За поворотом шоссе был мост через реку. Колонна остановилась. Толя пополз в ложбинку, что была ближе к реке. Продолжал наблюдать. Офицер у головной машины что-то выкрикнул. С грузовиков соскочили солдаты и бросились к мосту. Толя обратил внимание, что солдаты в новом обмундировании, с новенькими карабинами. Кое-кто держал в руках миноискатели. «А что, если?..» Толя осторожно двинулся в сторону, где стоял замыкающий колонну грузовик. Из кабины вылез шофёр, начал бить ногами по скатам, проверять. Толя появился у машины настолько неожиданно, что молоденький немец шофёр в ужасе закричал: — Партизан! Хальт! (Стой!) Но Толя бежать и не думал. Он не спеша подошёл к кабине. Сидевший в ней перепуганный офицер распахнул дверь и направил на Толю автомат. Шумов спокойно показал рукой, что хочет курить. Офицер выплюнул ему окурок. Толя даже не нагнулся, он глянул на ноги офицера в новеньких сапогах. Они были закутаны соломой. Мгновенно сообразив, Толя обратился к офицеру: — Вы же отморозите ноги! Фашист ничего не понял. Тогда Толя показал на свои ноги, осторожно, чтобы не вывалились оставшиеся листовки, начал снимать валенки. — Карашо! Карашо! — поняв, обрадованно закричал офицер. Толя подождал, пока фашист снимал свои сапоги и надевал валенки. Потом, показывая на свои ноги в носках, Толя кивнул на сапоги: — Давай в обмен! Фашист захохотал, грубо толкнул Толю в снег и захлопнул дверь. Надо было уходить. Толя сделал вид, что его обидели: плечи задрожали, он заплакал. Довольный шофёр что-то кричал ему. «Ничего, ничего, — думал Толя, — привезёшь листовочки, то-то будет». Семь километров Шумов шёл по снегу. В отряд пришёл ночью. Обо всём, что видел и как снабдил фашиста партизанской литературой, Толя рассказал командиру. Сведения о появлении новых видов танков были срочно переданы в Москву. За дерзкую выходку с листовками Иван Николаевич поругал партизана. Это могло стоить жизни. — Так нельзя рисковать, — говорил Назаров. — Нам каждый партизан дорог. Столько ещё дел предстоит. А ты… Толя виновато косился на командира, но в глазах его играл озорной огонёк. Юный партизан видел, что Иван Николаевич доволен такой операцией. Шумов ясно представлял себе, как фашист доставит листовки в свою часть и какой там будет переполох… — Пусть знают, — горячился Толя, — что есть партизаны, всюду они. И не жить гадам на нашей земле! — Ну, добре, партизан, добре! Получай новое задание. Поступаешь в распоряжение командира партизанского отряда Василия Фёдоровича Проскунина. — Почему к Проскунину? — Бойцы не спрашивают. Такое задание. Запрос на тебя пришёл. Сам бы не пустил тебя, да ты Проскунину нужен. Кстати, мать там увидишь. Небось соскучился?.. И вот Толя в отряде Проскунина. Новое задание. Евдокия Степановна, провожая, просит сына: — Будь осторожен. — Ну что ты, мама. Не беспокойся. Всё будет хорошо. И он уходит с группой партизан минировать дороги, взрывать склады боеприпасов, выводить из строя телефонную связь… С нетерпением каждый раз ждёт его возвращения мать, волнуется: «Вдруг не вернётся… Вдруг что-нибудь случится…»* * *
30 ноября 1941 года Толя ушел в разведку в село Осташёво, где он должен был встретиться с разведчицей Шурой Вороновой. Ночью он постучал в дом к Вишняковым. — Кто здесь? — спросил за дверью Витя Вишняков. — Я, — ответил знакомый голос. — Шум, уходи, — сказал Витя. — Тебе нельзя быть в Осташёве, тебя ищет полицай Кириллин и целый отряд гестаповцев. У нас уже были. — Витя, я не могу уйти, мне нужно переночевать. — Толя, прошу для дела, уходи! — Ладно, — соглашается Толя. «Как быть? Уходить из села? Но задание?!» Толя решил постучаться к Гордеевым. В сенях показалась мать Вовки Гордеева. — Переночевать можно? Немцев нет? Она пропустила Толю в сени. — Вчера заходили полицаи, устроили попойку… Еле-еле убрались. В избе пахло винным перегаром. Женщина постелила Толе на печке. Спалось неспокойно. С улицы доносились выкрики немецких часовых, одиночные выстрелы… Чуть рассвело, Толя ушёл из Осташёва. Неожиданно на дороге показались сани. Когда сани приблизились, Толя увидел, что в них полицаи. «Что делать? Бежать? — подумал Толя. — Убьют. По такому снегу не убежишь. До леса далеко»… Сани остановились. — Эй, ты! — крикнул один из них. — Ну-ка, подойди сюда! Толя решил подойти. — Куда идёшь? — В деревню. — Что ты там забыл? — Я ищу мать. — Привет, приятель, — Толя узнал голос полицая Кириллина, — садись, подвезём! Наконец-то сам пожаловал… — Кириллин пьяно рассмеялся. — Я за тобой уже месяц гонюсь. Устал ходить пешком? Садись! Садись, говорю! Толя сел. Кириллин протянул ему вожжи и, усмехаясь, сказал: — Будь любезен, отвези сам себя в гестапо. А мы покараулим тебя.* * *
За столом сидел тот офицер, у которого Толя выкрал полевую сумку и пистолет. От неожиданности Толя вздрогнул. — A-а! Старые знакомые, — сказал немец, вставая из-за стола. — Я как раз хотел вернуть тебе небольшой должок. Он ударил Толю кулаком наотмашь. Толя отлетел к двери, где его подхватили два здоровенных эсэсовца и швырнули обратно к столу. Перед глазами Толи стоял туман, во рту появился солоноватый привкус крови. Как во сне доносились до него приторно-ласковые слова офицера: — Ты нам всё расскажешь, и мы отпустим тебя… Офицер кивнул стоящим у двери верзилам. На Толю обрушились удары. Он потерял сознание… Когда это было? Давно-давно. Над селом появилась туча… Вокруг необыкновенно тихо… В саду сильно пахли цветы. Толя сидел у окна и ждал своих шмелей… — Мама, как ты думаешь, прилетят мои шмели? — Не знаю, Толя. Они могут спрятаться от дождя и в дупле… Но едва упали первые капли дождя, три шмеля с тяжёлым гуденьем опустились на подоконник. А четвёртого не было. Но наконец и последний шмель тяжело опустился на подоконник. Кто-то ему повредил крыло. Шмель-инвалид неуклюже полез в свой домик. Толя высунулся из окна и подставил лицо дождю. «Как приятно». Но нет, это не дождь. Это офицер плеснул ему в лицо водой. — Какой упрямый мальчик, — сказал он, наклоняясь к Толе. И вдруг жёстко: — Фамилия? Толя молчал. — Шумов? Молчание. — Зачем шёл в Осташёво? — Ищу мать. — Врёшь! — заорал фашист. Толя улыбнулся: «Ишь ты, гадина, правды захотел». — Покажешь, где партизанский отряд, мы тебя отпустим. Ну, говори! Толя молчал. Страшный удар сбил его с ног. — Ну, карашо! Ты у меня заговоришь! — офицер кивнул солдатам. Солдаты стали засовывать под ногти иголки, а Толе казалось, что он неосторожно гладит ощетинившегося ёжика. Его однажды принесла мать из лесу. — Ёжик? — обрадовался Толя. — Он самый. — Вот здорово! Он, наверное, голодный! Дадим ему молока, мама? — Ну, конечно, дадим. Раз уж ты его взял, надо кормить и ухаживать за ним. Толя подвинул блюдечко к лесному зверьку. — Пей. — Пей! — донёсся грубый голос офицера. Толе разжимали рот кружкой. — Мама, ёжик не пьёт… — Не спеши. Дай ему сначала привыкнуть, — успокаивала Евдокия Степановна… — Привык он к побоям, что ли? Хоть бы заплакал, — говорил чей-то чужой голос… …Толя оглядел комнату. Сколько у него всякого богатства! Два забавных пушистых кролика. Ну и жадные, всё время что-то жуют. Привычка у них, что ли, такая?.. — Молчать — это привычка всех партизан, господин офицер, — сказал кто-то еле слышно голосом полицая Кириллина. …На подоконнике шмелиный домик. Шмели уже почти совсем ручные. «Где они целый день пропадают? — думает Толя. — С цветка на цветок. А сколько цветов на свете? Можно и заблудиться». — А ты цветы полил? — спрашивает Евдокия Степановна. — Мама, как я могу забыть о цветах? «Вот он какой у меня, — думает Евдокия Степановна. — Другие ребята без толку бегают по улицам, штаны рвут. А этот весь день с каким-нибудь цветком возится или шмелей кормит сахаром». — Ну, что ты будешь делать со своими зверюшками, когда в школу пойдёшь? — А я их подарю школе, — отвечает Толя. Толя мучительно пытается вспомнить ещё что-нибудь из своего детства, но больше не может… — Где партизаны?.. «Нет, никогда он не станет предавать… Нет… Нет…» Его снова бьют. В партизанском лагере тревога. Только что узнали об аресте Толи. «Выдержит ли мальчик?» — мысль, которая тревожит и командира и бойцов. Усиливаются посты… «Если провалится хоть одна явка или начнутся аресты, значит, не выдержал». В лагере тишина. Лес, занесённый снегом, не шелохнётся. Всё живое притаилось. Не слышно скрипа чужих шагов, не слышно чужого говора. Тишина. До боли в ушах прислушивается дозорный к лесной тишине. Ни одна явка не провалилась. Ни один фашист не подошёл к партизанскому лагерю. Значит, не выдал партизан, значит, выдержал. Значит…* * *
Неутешно горе матери. С поникшей головой сидит в землянке Евдокия Степановна. Сняв шапки, стоят партизаны. Минутой молчания чтят они подвиг юного героя.* * *
За смелость и мужество, проявленные в борьбе с фашистами, партизанский разведчик Толя Шумов награждён посмертно орденом Ленина. Имя юного партизана Толи Шумова занесено в Книгу почёта Московской областной пионерской организации им. В. И. Ленина. Постановлением Совета Министров РСФСР одному из кораблей Советского флота присвоено имя Толи Шумова.ШУРА КОБЕР, ВИТЯ ХОМЕНКО Владимов Михаил Владимирович

 На круглой, пузатой уличной тумбе, где раньше висели пёстрые киноафиши и рекламные плакаты, появился жёлтый лист бумаги с крупными чёрными буквами.
Ещё издалека Витя прочитал слово «РАССТРЕЛ».
На круглой, пузатой уличной тумбе, где раньше висели пёстрые киноафиши и рекламные плакаты, появился жёлтый лист бумаги с крупными чёрными буквами.
Ещё издалека Витя прочитал слово «РАССТРЕЛ».
РАССТРЕЛ за появление на улице после девяти часов вечера… РАССТРЕЛ за хранение оружия.. РАССТРЕЛ за укрывание военнопленных… РАССТРЕЛ за помощь партизанам…Витя подошёл к тумбе вплотную и сделал вид, что внимательно читает новый фашистский приказ. А сам косил глазами то вправо, то влево, высматривая: нет ли кого на улице? «Нет!»… Вцепившись руками в уголок листа, Витя сильно рванул его на себя. Треск бумаги прозвучал в ушах, как раскат грома. Ещё рывок — и приказа как не бывало! Скомкав бумагу, Витя сунул её в карман. В приказе не было написано, что за срыв немецких документов тоже РАССТРЕЛ. Но это подразумевалось само собой… Скорее в калитку, во двор, пока никто не заметил! Но рядом, на толстом стволе старой акации, наклеен точно такой же приказ. Кора у акации ребристая. Сорвать проще. Он заносит руку и вдруг слышит за спиной голос: — Этого делать не следует… Витя оборачивается и видит… свою учительницу! Она как-то странно одета — в старое, тёмное. Голос строгий, но глаза добрые. — Витя пытается объяснить… — Тише! — говорит она, поправляя воротник на его футболке. — Зайди ко мне завтра. Помнишь, где я живу? — Да… — он хочет назвать её по отчеству… — Теперь меня зовут Нина Ивановна. Завтра, в шесть вечера… — Этого сейчас делать не следует, — повторила учительница, когда они сидели вечером в её небольшой светлой комнате. — Но почему?.. — Глупо срывать приказы днём, когда на улицах полно немцев. — Никто же не видел… — Я-то увидела! Могли и другие. Так мы ничего не достигнем: немцы вместо сорванных наклеят новые… — Но я хочу же… — Вот поэтому-то я пригласила тебя. — Давайте вместе! — предложил Витя. — Знаете, что у меня есть: детали для приёмника! Можно собрать. Будем записывать сводки Совинформбюро. И расклеивать их на улицах!.. — Правильно! — улыбнулась Нина Ивановна. — Но… нас всего двое… — Ты так думаешь? Нет! Ещё таких много… — Конечно! Но трудно найти. Они прячутся под другими именами. Как вы… Повстречаться бы с ними? — Можно… — Правда? Через несколько дней Нина Ивановна привела Витю к руководителю подпольной организации «Николаевский центр». Этот коренастый мужественный человек с седеющими висками, по-отечески положив руку на плечо мальчику, сказал: — Хорошо, что у тебя по немецкому в школе «отлично» было. Пригодится… — потом добавил: — А чтобы не скучал, мы тебе пару подобрали!.. Шура! — позвал он. Из соседней комнаты вышел мальчик ростом чуть выше Вити. — Шура Кобер. — Витя Хоменко. Ты в какой школе учился? — В двенадцатой… А ты? — В пятой… Почти соседи… Их школы были в противоположных концах большого портового города, и мальчики до сих пор ни разу не встречались. Но их первое рукопожатие скрепило дружбу навсегда. Поначалу ребятам поручили быть связными между явками. Они передавали распоряжения из «Центра» подпольщикам, незаметно проносили на явки оружие, бумагу для листовок. Но как-то Витю вызвали в «Центр». — Посуду мыть умеешь? — спросили его. Витя даже растерялся от такого неожиданного вопроса. — Умею… — Хорошо? — Ну, мама довольна была… — Ясно. Пойдёшь работать мойщиком посуды в столовую «Ост». — «Ост?» — переспросил Витя. — Значит, немецкая? — Да. — Боевое задание? Да? Говорите, что сделать. Яду им подсыпать или… — Нет, нет! Только не это… Работать добросовестно и аккуратно. И никаких таких штучек! — Понятно! — глубоко вздохнул Витя. Немецкая офицерская столовая скорее была похожа на ресторан. По вечерам здесь громко играла музыка. Офицеры, гестаповцы орали свои пьяные песни. Вите было противно мыть после них на кухне тарелки и рюмки. Но он терпел. И больше того — всеми силами старался выслужиться перед хозяином столовой. Однажды он нёс стопку тарелок. И не заметил, что на полу разлита вода. Поскользнулся — несколько тарелок разлетелись на мелкие куски.
 Хозяин с кулаками на него:
— Ах ты, русская свинья! Ты мне тарелки бьёшь, а я тебе руки-ноги поломаю!
Обидно и больно было слышать эту брань, хотелось ответить, дать сдачи. Но Витя не пошевельнулся. Больше всего боялся, что хозяин выгонит его из столовой. Что тогда скажут в «Центре»?..
Но всё обошлось. Витя остался.
Он скрывал от всех своих друзей, даже от мамы, где работает.
А дома было голодно. В один из вечеров Витя принёс домой продукты, которых давно уже не видели в продаже.
— Откуда это? — удивилась мать.
И тут пришлось признаться…
— Какой стыд и позор. — воскликнула Юлия Ивановна. — Дожила!
Мой сын пошёл служить немцам!
— Так надо, мама…
— Надо? — переспросила она и насторожилась: — Ты что-то скрываешь… Скажи мне. Я же мать…
— Если можно будет, мама… скажу…
— Надо, значит, надо… — сказала она и провела тёплой ладонью по голове сына.
У Юлии Ивановны Хоменко, простой рабочей женщины, жизнь сложилась трудно. Отец Вити — участник гражданской войны — умер от старых ран в 1927 году, когда мальчику исполнился год. Кроме Вити, на руках у Юлии Ивановны остались ещё две девочки. Ей одной пришлось ирастить и воспитывать ребят.
В столовой Витя работал старательно. И даже вскоре пошёл на повышение. Было это так. Захворал официант, а заменить — некем.
— Ну-ка, оденься почище, — приказал Вите хозяин. — Пойдёшь обслуживать господ офицеров. Только смотри у меня!
…Вечером хозяин вошёл в зал и, к своему удивлению, увидел такую картину. Ловко держа поднос с тарелками и рюмками, Витя носился от столика к столику. Офицеры довольно похлопывали его по плечу.
Совали конфеты:
— Гут! Гут!
А Витя в ответ:
— Битте… Данке…
Хозяин всё понял: офицеров располагало то, что Витя хорошо знает немецкий язык.
Прошло несколько дней, заболевший официант выздоровел. Хозяин вернул мальчика на кухню — мыть посуду. Но не тут-то было!
— Где ваш киндер? — недовольно спросил один майор. — Почему нет? Кароший официант!
И Витя остался в зале. Дотошный, смышлёный, он ещё бойче, чем прежде, лопотал с господами офицерами по-немецки и… слушал. Слушал их разговоры. Это стало для него главным.
В столовой часто появлялись офицеры, прибывшие с фронта. За рюмкой водки они выбалтывали место расположения своих частей и другие секреты.
— Молодчина! — хвалили Витю в подпольном «Центре».
Прошёл месяц, другой. Однажды Витя явился на явку с новеньким жёлтым портфелем в руках. Глаза сияли озорным огоньком:
— В этой маленькой корзинке — что угодно для души!
Открыл портфель — подпольщики так и ахнули: там лежал немецкий пакет с надписью «Секретно».
— Откуда это у тебя?
— Оттуда! — Витя показал в сторону немецкой части. — Со вчерашнего дня я посыльный при штабе… Полюбуйтесь: я и мои друзья, — он достал из кармана фото, на котором был снят среди улыбающихся немецких офицеров.
Подпольщики осторожно, чтоб следов не осталось, вскрыли пакет, прочитали…
— Спасибо! Молодец! Здесь очень важные сведения. Их надо немедленно передать по радио в Москву!
Так было не раз. Гитлеровцы хвалили своего нового посыльного за быстроту и исполнительность, а подпольщики — за сообразительность и смелость.
Как-то Витя шёл со своим жёлтым портфелем мимо железнодорожной станции. И вдруг заметил, что за шлагбаумом у склада какой-то мальчишка чинит велосипед. Фигура его показалась Вите очень знакомой. Подошёл ближе: «Шура!»
Но… тут же, приняв безразличное выражение, насвистывая, прошёл мимо.
Со стороны можно было подумать, что ребята никогда не видели друг друга.
А дело было в том, что Шура в это время, как и Витя, выполнял своё задание: следил за передвижением фашистских войск и техники по железной дороге. То он оказывался в районе станции с велосипедом, то со школьным учебником…
Именно в такой момент его здесь заметила девочка — бывшая соседка по парте. Увидев, как он с сосредоточенным видом что-то пишет в тетрадку, разграфлённую клеточкой, она спросила:
— Ты, что, задачки решаешь?
— Да.
— Зачем? Ведь школы сейчас не работают.
— А я, чтобы не забыть арифметику.
— А-а! — с уважением и удивлением протянула девочка и ушла.
Танки, машины, пушки, стоящие на платформах, обычно были покрыты брезентом. Но Шура приловчился распознавать их по внешним очертаниям.
И всё же однажды он очутился в трудном положении. На станцию прибыл эшелон с каким-то необычным вооружением. Шура насторожился, сразу сообщил в «Центр». То, что находилось под чехлом, не напоминало ни пушку, ни миномёт. Какое-то новое оружие! А какое?
Чтобы проверить, подпольщики пустили недалеко от Николаева под откос эшелон. Там оказались немецкие шестиствольные миномёты.
Шура получил боевую партизанскую благодарность.
Но тут случилась беда: оборвалась связь с Москвой — испортился подпольный радиопередатчик. Пробовали чинить — не вышло. Раздобыть новый не удалось. Выход один — послать человека. А до линии фронта от Николаева не одна сотня километров.
— Кто пойдёт?
Вызвались опытные, бывалые бойцы.
Но руководитель «Центра» сказал:
— Предлагаю послать Кобера и Хоменко.
— Мальчишек? — удивился кто-то.
— Именно! Меньше подозрений будет…
Узнав о новом задании, Витя и Шура страшно обрадовались.
— Когда выходить? Завтра?
— Нет. Надо подготовиться, изучить маршрут.
Руководитель подошёл к карте и провёл невидимую линию от города к городу: Николаев — Луганск — Ростов… Она перерезала реки, дороги, леса, устремляясь на Восток, и оканчивалась там, где был фронт.
— Мы в село — менять вещи на хлеб, — придумали Витя и Шура причину своей предстоящей отлучки из Николаева. — Скоро вернёмся.
Шура собрал вещи в котомку — и готов в путь. А Вите не просто было уйти с работы в штабе. Пришлось объяснить, что очень сильно захворала тётя, живущая в дальнем селе. Отпустили, но предупредили:
— Надолго задержишься, место твоё будет занято…
Дорога с самого начала была трудной и опасной. Сотни раз их останавливали и расспрашивали на пути: и немецкие солдаты, и полицаи, и просто жители. И на все случаи у ребят были припасены разные «истории».
— Куда путь держите, сиротиночки? — спросила их старушка, когда они пришли в небольшое село за Днепром.
— Братья мы… двоюродные, — начал рассказывать свою «историю» Витя. — Дом наш фашисты разбомбили. Всех родных угнали.
Мы еле спаслись… Вот идём к бабушке в Ростов. Если жива — приютит…
— Ах, горемыки! Что война проклятая наделала!.. — сочувственно вздохнула она, пригласила в хату, угостила молоком, хлебом и с собой продуктов дала.
В другой раз на железнодорожной станции ребята увидели поезд, отправлявшийся в сторону фронта. «Подъедем!» Сели в вагон «зайцами», но их тут же высадили. «Что делать?»
С паровоза по лесенке спустился машинист и стал осматривать колёса. Ребята подошли.
— Что — техникой интересуетесь? — полюбопытствовал он.
— Да, — бойко сказал Шура. — Дядя у меня паровоз водил. На вас, между прочим, похож. Меня часто брал с собой покататься.
— А, понимаю, на что вы намекаете! — улыбнулся машинист. — Садитесь!
И эта история «сработала!»
Но не всегда бывало так. Встретишься с немецкими патрулями — тут уж никакие истории не действуют. Первое слово у них «документы».
А какие могут быть документы у мальчишек до шестнадцати лет?
На одной из дорог их остановил немец со сморщенным, как старая картошка, лицом. От него разило водкой.
— Пашпорт! — навёл он прямо в лицо Шуры свой автомат.
— Нет…
— Цурюк! Назад!
Тут вышел вперёд Витя и сказал несколько слов по-немецки.
Фашист опустил автомат, оживился, начал что-то быстро говорить.
— О чём это он? — спросил Шура.
— Говорит, что я напоминаю ему сынишку, оставшегося в Германии, — перевёл Витя.
Солдат тем временем достал из кармана кошелёк и, растроганно улыбаясь, высыпал на ладонь Вити горсть монет.
— А это для чего?
— Чтобы мы купили себе ботинки поновее…
— Хорошо! Пригодятся в дороге.
А особенно радовало ребят то, что никто не обращает внимания на палочку, которую поочерёдно несли в руках. Палочку эту они называли «волшебной». Ведь внутри неё были спрятаны сведения, написанные мелкими буквами на тончайшей бумаге. Их-то Витя и Шура должны были любой ценой перенести через линию фронта.
…Но вот уже последний отрезок долгого и трудного пути. Доносится дальняя фронтовая канонада.
Опустился вечер. Ребята попросились ночевать в крайнюю хату села. Хозяин, ничего не говоря, впустил их. Зашли, а там полицаи пьяные пируют. Увидели незнакомых ребят — и давай допытываться:
— Откуда идёте?
«Сказать из Николаева — привяжутся: почему издалека, почему там не сиделось…»
— Из Луганска мы! — бойко сказал Витя.
— Луганские? — откликнулся один из полицаев, усатый, багровый от водки. — Земляки, значит! Я тоже из Луганска. А на какой улице живёте?..
— Да мы на разных, — уклончиво сказал Шура. Потому что Луганска они не знали, прошли его вечером…
— Так на какой же? — настаивал усач.
Другие тоже притихли, подозрительно прислушались.
«Попались!» — мелькнуло в голове у Вити. Но тут же нашёлся:
— На той, которая раньше улицей Ленина называлась…
Расчёт простой: как и в Николаеве, в каждом советском городе есть улица Ленина…
— Что ты болтаешь? — оборвал его полицай, ударив кулаком по столу. — Нет сейчас таких улиц и больше никогда не будет!
— Так я же сказал: раньше называлась. А теперь у неё другое название, — и Витя скороговоркой произнёс по-немецки длинное, непонятное слово…
Сбитый с толку усач, тупо вращая глазами, рявкнул:
— Обыскать!
Обыскали, но ничего подозрительного не нашли, даже палочку.
Пока Витя разговаривал с полицаем, Шура незаметно сунул палочку в вязанку нарубленного хвороста за печкой.
Глубокой ночью ребята проснулись. Вокруг раздавался храп.
Окно открыто.
Тихо пошептавшись, встали.
Шура осторожно поднял вязанку хвороста, и они неслышно вылезли в окно… Остановились за сараем, чтобы отдышаться.
Развязал Шура хворост — и у него похолодело сердце: палочки нет!
— Где же она? Была здесь! — растерянно говорил он, заново перебирая каждую хворостинку.
— А вдруг сожгли в печке?.. — предположил Витя. — Эх мы растяпы! А подпольщики так на нас надеялись.
— Я сейчас, — прошептал Шура и скрылся в темноте.
Прошла бесконечно длинная минута.
— Всё в порядке! — радостно выдохнул вернувшийся Шура. — Я, оказывается, захватил не ту вязанку… Вот она, палочка, здесь!
С тех пор ребята не расставались со своей бесценной ношей ни на секунду, даже во время сна.
Всё слышнее орудийная пальба. Значит, фронт всё ближе. Кончилась степь, начались залитые водой плавни, густые камыши. А дальше— голубой широкой лентой вьётся река Кубань. На этом берегу фашисты, на том — наши… Это и есть она — линия фронта! Сколько ребята ждали такого момента! А теперь — самое трудное: как переправиться?
— Эх, если б я знал заранее, что фронт будет проходить по реке, обязательно бы научился плавать! — вздохнул Шура.
Витя был хорошим пловцом, а Шура плавать не умел.
— Что об этом сейчас говорить! — отозвался Витя. — Лучше лодку поискать!
Но лодка… приплыла к ним сама. Правда, в ней сидел немец. В одной руке у него был автомат, а в другой — удочка.
Как видно, решил в свободную минуту порыбачить в этих камышах!
Лодку привязал, а сам с удочкой в стороне на берегу сел. Мальчишки тем временем вёсла сняли и спрятали. Вернулся немец, поискал-поискал вёсла — не нашёл! Сначала подумал, что они утонули: даже в воду залез и по дну возле берега пошарил. Но потом разозлился, заподозрил что-то неладное, дал очередь из автомата наугад в камыши и, громко выругавшись, ушёл…
В ту ночь с обоих берегов сильно стреляли. Лучше было бы повременить. Но в другой раз лодки может не быть.
И друзья решили рискнуть!
Оттолкнувшись от берега, сели рядом на дощатую скамейку.
Каждому досталось по веслу. Гребли быстро и бесшумно.
Больше половины реки прошли незаметно. Темнота не выдавала их. Но вдруг в небо взлетело несколько ярких осветительных ракет.
Немцы обнаружили лодку и стали поливать огнём. Пули пробили борт, расщепили весло. Совсем рядом разорвался снаряд — и лодка перевернулась. Оба очутились в воде.
— Держись за меня! — крикнул Витя, энергично работая руками.
— А я уже стою на дне! — ответил Шура. — Тут мелко.
— Значит, до берега близко!
И верно, вот вода уже по пояс, по щиколотку, вот под ногами сухой песок!
— Стой, кто идёт?! — окликнул их суровый голос из темноты.
— Свои! Наши!.. Не стреляйте, дяденька!
Вспыхнул луч фонарика:
— Товарищ лейтенант! Да это мальчишки! С той стороны! Гляди, какие храбрые!.. Кто вы? Зачем идёте?
Вместо ответа Витя и Шура попросили, чтобы их как можно скорее доставили к «самому главному».
Услышав короткий, взволнованный рассказ, генерал тут же взял трубку:
— Авиаторы? Приготовьте назавтра самолёт! В Москву!
Витя Хоменко и Шура Кобер до сих пор ни разу не были в Москве.
Но всегда мечтали об этом.
И вот мечта сбылась! Правда, фронтовая Москва была не такой, какой они знали её по довоенным открыткам и фильмам. В небе, как тяжёлые тучи, висели аэростаты воздушного заграждения, улицы ощетинились противотанковыми «ежами».
Но прежде чем знакомиться с Москвой, Вите и Шуре предстояло
долго и долго рассказывать в штабе партизанского движения про всё, что они знали, что видели в немецком тылу. Шура подсчитывал по дороге все вражеские эшелоны, которые шли к фронту; Витя запоминал расположение воинских частей.
Через несколько дней друзья стали готовиться к выполнению задания.
Они учились читать карту, стрелять по цели, прыгать с парашютом.
В штабе партизанского движения находились разные по возрасту люди. Была среди них и молодёжь — комсомольцы.
— А примут нас здесь в комсомол? — спросили ребята у комсорга.
— Конечно! — ответил он. — Вы уже достигли комсомольского возраста. И, главное, своими делами заслужили это.
Витя и Шура сели писать заявления. «Если потребуется, то мы не пожалеем ни сил, ни самой жизни для победы над врагом!» Их приняли, горячо поздравили и выдали новенькие билеты.
— Вот бы маме показать! — мечтательно вздыхал Шура.
Но ребята знали: пока это невозможно. Если их отправят на задание, то комсомольские билеты, как и другие документы, должны остаться в Москве.
И вот они снова сидят в самолёте, но теперь он летит уже в обратном направлении — на юг, на Украину. За спиной — парашюты. А рядом на скамейке — их новая спутница, радистка-комсомолка Лида Брыткина. Она везёт радиопередатчик, который так нужен николаевским подпольщикам.
Под крылом непроглядная ночь, нигде ни огонька.
Но вот лётчик даёт знак: приготовиться. Прыжок! Хлопок парашютов. Невидимо приближается земля.
Все трое приземлились в районе села Себино, поблизости от Николаева. Закопали парашюты и стали дожидаться утра.
Когда встало солнце, увидели вдали белые хатки села и шоссе, по которому бежали машины.
— Вы оставайтесь здесь, — сказал Витя Шуре и Лиде. — А я за помощью смотаюсь.
Под вечер с шоссе в сторону лесополосы свернули двое — высокий мужчина и мальчик. Они катили перед собой пустую тачку, и казалось, что едут за хворостом.
— Это Витя! — радостно воскликнул Шура, когда тачка приблизилась. — А кто второй?
Вторым оказался подпольщик Всеволод Васильевич Бондаренко.
Потребовалось несколько рейсов, чтобы перевезти в Николаев всю поклажу. Груз сверху маскировали хворостом.
— Ну, вы для нас просто как подарок! — сказал руководитель «Центра», когда ребята пришли к нему доложить о выполнении задания. — У нас очень трудное время: и взрывчатки нет, и с оружием туго.
Теперь заживём!
Лиду Брыткину отвели на конспиративную квартиру, и она, наладив связь с Москвой, сообщила, что все трое прибыли благополучно.
Тут же были получены новые указания Штаба. Ребята продолжали работу.
Шура, как-то возвращаясь к себе домой на 8-ю Военную улицу, заметил, что следом за ним идёт какой-то человек.
Он ещё не знал тогда, что в подпольную организацию пробрался предатель, провокатор… Это выяснилось, как только начались аресты… Сначала гестаповцы арестовали несколько рядовых подпольщиков, потом и одного из руководителей. «Центр» дал распоряжение Вите и Шуре переменить место жительства.
Но было уже поздно.
Холодной ноябрьской ночью 1942 года к дому на 8-ой Военной улице подъехала крытая автомашина с вооружёнными солдатами.
Вломившись в дом, гестаповцы подняли с постели Шуру и полуодетого увезли в тюрьму.
Потом заехали за Витей. Его застали как раз в тот момент, когда он уже собирал вещи, чтобы уйти на другую квартиру, к родственникам.
…С грохотом захлопнулась тяжёлая тюремная дверь. Ребята очутились в одной камере — тесной, холодной, сырой.
— Да, Витёк, много мы с тобой повидали… — тихо сказал Шура, — а вот теперь-то начнётся самое страшное…
И правда. Бесконечные, изматывающие допросы чередовались с побоями и пытками. Казалось, спутались день и ночь…
— Где явки? — угрожающе помахивая плёткой, в который раз спрашивал гестаповец с железным крестом на чёрном мундире.
Ребята молчали.
И вдруг:
— Что вы делали в Москве? Какие инструкции получили? — гитлеровец выжидающе, в упор смотрел на мальчишек: какое это произведёт впечатление.
«Оказывается, и это им известно! Но откуда? Неужели кто-то предал!» — всё это промелькнуло только в мыслях, но ни жестом, ни взглядом ребята не выдали своей тревоги.
Их допрашивали и поодиночке, и вместе. Обещали свободу, деньги, «счастливую жизнь» в Германии. Ничего не помогло.
…5 декабря 1942 года, День Конституции. Именно этот дорогой советским людям праздник гитлеровцы выбрали для того, чтобы совершить казнь. На базарной площади зловеще стучали топоры и молотки. Фашистские солдаты сколачивали виселицу, вбивали в перекладину железные крюки.
Когда виселица была готова, оккупанты начали сгонять народ с окрестных улиц и переулков. Подъехала чёрная зарешечённая машина. Из неё вывели десять человек: восемь взрослых и двух ребят.
Эти двое были Витя Хоменко и Шура Кобер. Руки туго связаны верёвками, на лицах — синяки от побоев. Но друзья держались мужественно.
Немецкий офицер читал приговор, а переводчик громко переводил на русский… Витя в этот момент пристально всматривался в толпу: нет ли здесь родных или знакомых? Площадь была недалеко от улицы, на которой он жил.
Вдруг совсем рядом увидел своего школьного приятеля Толю.
— Толя! — крикнул он что есть силы. — Беги домой, скажи маме…
Мальчик исчез в толпе.
Но когда мать Вити, Юлия Ивановна Хоменко, бледная, рыдающая, прибежала на площадь, всё уже было кончено…
Этой расправой фашисты рассчитывали запугать николаевцев.
Но не удалось! Когда рассвело, первые прохожие увидели возле виселицы букетики живых цветов. На столбе белел небольшой листок бумаги с надписью.
«Слава юным героям!»
Николаевские пионеры свято чтут память героев. Имя Вити носит пятая средняя школа, имя Шуры — двенадцатая.
В 1965 году отважные разведчики были посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени. О них сложены песни, им посвящена пьеса, поставленная на сцене местного театра.
Каждый, кто приезжает в южный украинский город Николаев, обязательно проходит мимо сквера, в котором стоит простой и светлый памятник Вите и Шуре. У этого памятника своя история. Он построен на средства, собранные пионерами и школьниками всей Украинской Республики.
Друзья изображены идущими к линии фронта. В руках у них волшебная палочка. Глаза устремлены вдаль: как будто они видят где-то впереди фронтовое зарево.
И каждый оставляет их в своей памяти, в своём сердце вот такими — всегда в движении, вечно в пути.
Имена юных героев занесены в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.
Хозяин с кулаками на него:
— Ах ты, русская свинья! Ты мне тарелки бьёшь, а я тебе руки-ноги поломаю!
Обидно и больно было слышать эту брань, хотелось ответить, дать сдачи. Но Витя не пошевельнулся. Больше всего боялся, что хозяин выгонит его из столовой. Что тогда скажут в «Центре»?..
Но всё обошлось. Витя остался.
Он скрывал от всех своих друзей, даже от мамы, где работает.
А дома было голодно. В один из вечеров Витя принёс домой продукты, которых давно уже не видели в продаже.
— Откуда это? — удивилась мать.
И тут пришлось признаться…
— Какой стыд и позор. — воскликнула Юлия Ивановна. — Дожила!
Мой сын пошёл служить немцам!
— Так надо, мама…
— Надо? — переспросила она и насторожилась: — Ты что-то скрываешь… Скажи мне. Я же мать…
— Если можно будет, мама… скажу…
— Надо, значит, надо… — сказала она и провела тёплой ладонью по голове сына.
У Юлии Ивановны Хоменко, простой рабочей женщины, жизнь сложилась трудно. Отец Вити — участник гражданской войны — умер от старых ран в 1927 году, когда мальчику исполнился год. Кроме Вити, на руках у Юлии Ивановны остались ещё две девочки. Ей одной пришлось ирастить и воспитывать ребят.
В столовой Витя работал старательно. И даже вскоре пошёл на повышение. Было это так. Захворал официант, а заменить — некем.
— Ну-ка, оденься почище, — приказал Вите хозяин. — Пойдёшь обслуживать господ офицеров. Только смотри у меня!
…Вечером хозяин вошёл в зал и, к своему удивлению, увидел такую картину. Ловко держа поднос с тарелками и рюмками, Витя носился от столика к столику. Офицеры довольно похлопывали его по плечу.
Совали конфеты:
— Гут! Гут!
А Витя в ответ:
— Битте… Данке…
Хозяин всё понял: офицеров располагало то, что Витя хорошо знает немецкий язык.
Прошло несколько дней, заболевший официант выздоровел. Хозяин вернул мальчика на кухню — мыть посуду. Но не тут-то было!
— Где ваш киндер? — недовольно спросил один майор. — Почему нет? Кароший официант!
И Витя остался в зале. Дотошный, смышлёный, он ещё бойче, чем прежде, лопотал с господами офицерами по-немецки и… слушал. Слушал их разговоры. Это стало для него главным.
В столовой часто появлялись офицеры, прибывшие с фронта. За рюмкой водки они выбалтывали место расположения своих частей и другие секреты.
— Молодчина! — хвалили Витю в подпольном «Центре».
Прошёл месяц, другой. Однажды Витя явился на явку с новеньким жёлтым портфелем в руках. Глаза сияли озорным огоньком:
— В этой маленькой корзинке — что угодно для души!
Открыл портфель — подпольщики так и ахнули: там лежал немецкий пакет с надписью «Секретно».
— Откуда это у тебя?
— Оттуда! — Витя показал в сторону немецкой части. — Со вчерашнего дня я посыльный при штабе… Полюбуйтесь: я и мои друзья, — он достал из кармана фото, на котором был снят среди улыбающихся немецких офицеров.
Подпольщики осторожно, чтоб следов не осталось, вскрыли пакет, прочитали…
— Спасибо! Молодец! Здесь очень важные сведения. Их надо немедленно передать по радио в Москву!
Так было не раз. Гитлеровцы хвалили своего нового посыльного за быстроту и исполнительность, а подпольщики — за сообразительность и смелость.
Как-то Витя шёл со своим жёлтым портфелем мимо железнодорожной станции. И вдруг заметил, что за шлагбаумом у склада какой-то мальчишка чинит велосипед. Фигура его показалась Вите очень знакомой. Подошёл ближе: «Шура!»
Но… тут же, приняв безразличное выражение, насвистывая, прошёл мимо.
Со стороны можно было подумать, что ребята никогда не видели друг друга.
А дело было в том, что Шура в это время, как и Витя, выполнял своё задание: следил за передвижением фашистских войск и техники по железной дороге. То он оказывался в районе станции с велосипедом, то со школьным учебником…
Именно в такой момент его здесь заметила девочка — бывшая соседка по парте. Увидев, как он с сосредоточенным видом что-то пишет в тетрадку, разграфлённую клеточкой, она спросила:
— Ты, что, задачки решаешь?
— Да.
— Зачем? Ведь школы сейчас не работают.
— А я, чтобы не забыть арифметику.
— А-а! — с уважением и удивлением протянула девочка и ушла.
Танки, машины, пушки, стоящие на платформах, обычно были покрыты брезентом. Но Шура приловчился распознавать их по внешним очертаниям.
И всё же однажды он очутился в трудном положении. На станцию прибыл эшелон с каким-то необычным вооружением. Шура насторожился, сразу сообщил в «Центр». То, что находилось под чехлом, не напоминало ни пушку, ни миномёт. Какое-то новое оружие! А какое?
Чтобы проверить, подпольщики пустили недалеко от Николаева под откос эшелон. Там оказались немецкие шестиствольные миномёты.
Шура получил боевую партизанскую благодарность.
Но тут случилась беда: оборвалась связь с Москвой — испортился подпольный радиопередатчик. Пробовали чинить — не вышло. Раздобыть новый не удалось. Выход один — послать человека. А до линии фронта от Николаева не одна сотня километров.
— Кто пойдёт?
Вызвались опытные, бывалые бойцы.
Но руководитель «Центра» сказал:
— Предлагаю послать Кобера и Хоменко.
— Мальчишек? — удивился кто-то.
— Именно! Меньше подозрений будет…
Узнав о новом задании, Витя и Шура страшно обрадовались.
— Когда выходить? Завтра?
— Нет. Надо подготовиться, изучить маршрут.
Руководитель подошёл к карте и провёл невидимую линию от города к городу: Николаев — Луганск — Ростов… Она перерезала реки, дороги, леса, устремляясь на Восток, и оканчивалась там, где был фронт.
— Мы в село — менять вещи на хлеб, — придумали Витя и Шура причину своей предстоящей отлучки из Николаева. — Скоро вернёмся.
Шура собрал вещи в котомку — и готов в путь. А Вите не просто было уйти с работы в штабе. Пришлось объяснить, что очень сильно захворала тётя, живущая в дальнем селе. Отпустили, но предупредили:
— Надолго задержишься, место твоё будет занято…
Дорога с самого начала была трудной и опасной. Сотни раз их останавливали и расспрашивали на пути: и немецкие солдаты, и полицаи, и просто жители. И на все случаи у ребят были припасены разные «истории».
— Куда путь держите, сиротиночки? — спросила их старушка, когда они пришли в небольшое село за Днепром.
— Братья мы… двоюродные, — начал рассказывать свою «историю» Витя. — Дом наш фашисты разбомбили. Всех родных угнали.
Мы еле спаслись… Вот идём к бабушке в Ростов. Если жива — приютит…
— Ах, горемыки! Что война проклятая наделала!.. — сочувственно вздохнула она, пригласила в хату, угостила молоком, хлебом и с собой продуктов дала.
В другой раз на железнодорожной станции ребята увидели поезд, отправлявшийся в сторону фронта. «Подъедем!» Сели в вагон «зайцами», но их тут же высадили. «Что делать?»
С паровоза по лесенке спустился машинист и стал осматривать колёса. Ребята подошли.
— Что — техникой интересуетесь? — полюбопытствовал он.
— Да, — бойко сказал Шура. — Дядя у меня паровоз водил. На вас, между прочим, похож. Меня часто брал с собой покататься.
— А, понимаю, на что вы намекаете! — улыбнулся машинист. — Садитесь!
И эта история «сработала!»
Но не всегда бывало так. Встретишься с немецкими патрулями — тут уж никакие истории не действуют. Первое слово у них «документы».
А какие могут быть документы у мальчишек до шестнадцати лет?
На одной из дорог их остановил немец со сморщенным, как старая картошка, лицом. От него разило водкой.
— Пашпорт! — навёл он прямо в лицо Шуры свой автомат.
— Нет…
— Цурюк! Назад!
Тут вышел вперёд Витя и сказал несколько слов по-немецки.
Фашист опустил автомат, оживился, начал что-то быстро говорить.
— О чём это он? — спросил Шура.
— Говорит, что я напоминаю ему сынишку, оставшегося в Германии, — перевёл Витя.
Солдат тем временем достал из кармана кошелёк и, растроганно улыбаясь, высыпал на ладонь Вити горсть монет.
— А это для чего?
— Чтобы мы купили себе ботинки поновее…
— Хорошо! Пригодятся в дороге.
А особенно радовало ребят то, что никто не обращает внимания на палочку, которую поочерёдно несли в руках. Палочку эту они называли «волшебной». Ведь внутри неё были спрятаны сведения, написанные мелкими буквами на тончайшей бумаге. Их-то Витя и Шура должны были любой ценой перенести через линию фронта.
…Но вот уже последний отрезок долгого и трудного пути. Доносится дальняя фронтовая канонада.
Опустился вечер. Ребята попросились ночевать в крайнюю хату села. Хозяин, ничего не говоря, впустил их. Зашли, а там полицаи пьяные пируют. Увидели незнакомых ребят — и давай допытываться:
— Откуда идёте?
«Сказать из Николаева — привяжутся: почему издалека, почему там не сиделось…»
— Из Луганска мы! — бойко сказал Витя.
— Луганские? — откликнулся один из полицаев, усатый, багровый от водки. — Земляки, значит! Я тоже из Луганска. А на какой улице живёте?..
— Да мы на разных, — уклончиво сказал Шура. Потому что Луганска они не знали, прошли его вечером…
— Так на какой же? — настаивал усач.
Другие тоже притихли, подозрительно прислушались.
«Попались!» — мелькнуло в голове у Вити. Но тут же нашёлся:
— На той, которая раньше улицей Ленина называлась…
Расчёт простой: как и в Николаеве, в каждом советском городе есть улица Ленина…
— Что ты болтаешь? — оборвал его полицай, ударив кулаком по столу. — Нет сейчас таких улиц и больше никогда не будет!
— Так я же сказал: раньше называлась. А теперь у неё другое название, — и Витя скороговоркой произнёс по-немецки длинное, непонятное слово…
Сбитый с толку усач, тупо вращая глазами, рявкнул:
— Обыскать!
Обыскали, но ничего подозрительного не нашли, даже палочку.
Пока Витя разговаривал с полицаем, Шура незаметно сунул палочку в вязанку нарубленного хвороста за печкой.
Глубокой ночью ребята проснулись. Вокруг раздавался храп.
Окно открыто.
Тихо пошептавшись, встали.
Шура осторожно поднял вязанку хвороста, и они неслышно вылезли в окно… Остановились за сараем, чтобы отдышаться.
Развязал Шура хворост — и у него похолодело сердце: палочки нет!
— Где же она? Была здесь! — растерянно говорил он, заново перебирая каждую хворостинку.
— А вдруг сожгли в печке?.. — предположил Витя. — Эх мы растяпы! А подпольщики так на нас надеялись.
— Я сейчас, — прошептал Шура и скрылся в темноте.
Прошла бесконечно длинная минута.
— Всё в порядке! — радостно выдохнул вернувшийся Шура. — Я, оказывается, захватил не ту вязанку… Вот она, палочка, здесь!
С тех пор ребята не расставались со своей бесценной ношей ни на секунду, даже во время сна.
Всё слышнее орудийная пальба. Значит, фронт всё ближе. Кончилась степь, начались залитые водой плавни, густые камыши. А дальше— голубой широкой лентой вьётся река Кубань. На этом берегу фашисты, на том — наши… Это и есть она — линия фронта! Сколько ребята ждали такого момента! А теперь — самое трудное: как переправиться?
— Эх, если б я знал заранее, что фронт будет проходить по реке, обязательно бы научился плавать! — вздохнул Шура.
Витя был хорошим пловцом, а Шура плавать не умел.
— Что об этом сейчас говорить! — отозвался Витя. — Лучше лодку поискать!
Но лодка… приплыла к ним сама. Правда, в ней сидел немец. В одной руке у него был автомат, а в другой — удочка.
Как видно, решил в свободную минуту порыбачить в этих камышах!
Лодку привязал, а сам с удочкой в стороне на берегу сел. Мальчишки тем временем вёсла сняли и спрятали. Вернулся немец, поискал-поискал вёсла — не нашёл! Сначала подумал, что они утонули: даже в воду залез и по дну возле берега пошарил. Но потом разозлился, заподозрил что-то неладное, дал очередь из автомата наугад в камыши и, громко выругавшись, ушёл…
В ту ночь с обоих берегов сильно стреляли. Лучше было бы повременить. Но в другой раз лодки может не быть.
И друзья решили рискнуть!
Оттолкнувшись от берега, сели рядом на дощатую скамейку.
Каждому досталось по веслу. Гребли быстро и бесшумно.
Больше половины реки прошли незаметно. Темнота не выдавала их. Но вдруг в небо взлетело несколько ярких осветительных ракет.
Немцы обнаружили лодку и стали поливать огнём. Пули пробили борт, расщепили весло. Совсем рядом разорвался снаряд — и лодка перевернулась. Оба очутились в воде.
— Держись за меня! — крикнул Витя, энергично работая руками.
— А я уже стою на дне! — ответил Шура. — Тут мелко.
— Значит, до берега близко!
И верно, вот вода уже по пояс, по щиколотку, вот под ногами сухой песок!
— Стой, кто идёт?! — окликнул их суровый голос из темноты.
— Свои! Наши!.. Не стреляйте, дяденька!
Вспыхнул луч фонарика:
— Товарищ лейтенант! Да это мальчишки! С той стороны! Гляди, какие храбрые!.. Кто вы? Зачем идёте?
Вместо ответа Витя и Шура попросили, чтобы их как можно скорее доставили к «самому главному».
Услышав короткий, взволнованный рассказ, генерал тут же взял трубку:
— Авиаторы? Приготовьте назавтра самолёт! В Москву!
Витя Хоменко и Шура Кобер до сих пор ни разу не были в Москве.
Но всегда мечтали об этом.
И вот мечта сбылась! Правда, фронтовая Москва была не такой, какой они знали её по довоенным открыткам и фильмам. В небе, как тяжёлые тучи, висели аэростаты воздушного заграждения, улицы ощетинились противотанковыми «ежами».
Но прежде чем знакомиться с Москвой, Вите и Шуре предстояло
долго и долго рассказывать в штабе партизанского движения про всё, что они знали, что видели в немецком тылу. Шура подсчитывал по дороге все вражеские эшелоны, которые шли к фронту; Витя запоминал расположение воинских частей.
Через несколько дней друзья стали готовиться к выполнению задания.
Они учились читать карту, стрелять по цели, прыгать с парашютом.
В штабе партизанского движения находились разные по возрасту люди. Была среди них и молодёжь — комсомольцы.
— А примут нас здесь в комсомол? — спросили ребята у комсорга.
— Конечно! — ответил он. — Вы уже достигли комсомольского возраста. И, главное, своими делами заслужили это.
Витя и Шура сели писать заявления. «Если потребуется, то мы не пожалеем ни сил, ни самой жизни для победы над врагом!» Их приняли, горячо поздравили и выдали новенькие билеты.
— Вот бы маме показать! — мечтательно вздыхал Шура.
Но ребята знали: пока это невозможно. Если их отправят на задание, то комсомольские билеты, как и другие документы, должны остаться в Москве.
И вот они снова сидят в самолёте, но теперь он летит уже в обратном направлении — на юг, на Украину. За спиной — парашюты. А рядом на скамейке — их новая спутница, радистка-комсомолка Лида Брыткина. Она везёт радиопередатчик, который так нужен николаевским подпольщикам.
Под крылом непроглядная ночь, нигде ни огонька.
Но вот лётчик даёт знак: приготовиться. Прыжок! Хлопок парашютов. Невидимо приближается земля.
Все трое приземлились в районе села Себино, поблизости от Николаева. Закопали парашюты и стали дожидаться утра.
Когда встало солнце, увидели вдали белые хатки села и шоссе, по которому бежали машины.
— Вы оставайтесь здесь, — сказал Витя Шуре и Лиде. — А я за помощью смотаюсь.
Под вечер с шоссе в сторону лесополосы свернули двое — высокий мужчина и мальчик. Они катили перед собой пустую тачку, и казалось, что едут за хворостом.
— Это Витя! — радостно воскликнул Шура, когда тачка приблизилась. — А кто второй?
Вторым оказался подпольщик Всеволод Васильевич Бондаренко.
Потребовалось несколько рейсов, чтобы перевезти в Николаев всю поклажу. Груз сверху маскировали хворостом.
— Ну, вы для нас просто как подарок! — сказал руководитель «Центра», когда ребята пришли к нему доложить о выполнении задания. — У нас очень трудное время: и взрывчатки нет, и с оружием туго.
Теперь заживём!
Лиду Брыткину отвели на конспиративную квартиру, и она, наладив связь с Москвой, сообщила, что все трое прибыли благополучно.
Тут же были получены новые указания Штаба. Ребята продолжали работу.
Шура, как-то возвращаясь к себе домой на 8-ю Военную улицу, заметил, что следом за ним идёт какой-то человек.
Он ещё не знал тогда, что в подпольную организацию пробрался предатель, провокатор… Это выяснилось, как только начались аресты… Сначала гестаповцы арестовали несколько рядовых подпольщиков, потом и одного из руководителей. «Центр» дал распоряжение Вите и Шуре переменить место жительства.
Но было уже поздно.
Холодной ноябрьской ночью 1942 года к дому на 8-ой Военной улице подъехала крытая автомашина с вооружёнными солдатами.
Вломившись в дом, гестаповцы подняли с постели Шуру и полуодетого увезли в тюрьму.
Потом заехали за Витей. Его застали как раз в тот момент, когда он уже собирал вещи, чтобы уйти на другую квартиру, к родственникам.
…С грохотом захлопнулась тяжёлая тюремная дверь. Ребята очутились в одной камере — тесной, холодной, сырой.
— Да, Витёк, много мы с тобой повидали… — тихо сказал Шура, — а вот теперь-то начнётся самое страшное…
И правда. Бесконечные, изматывающие допросы чередовались с побоями и пытками. Казалось, спутались день и ночь…
— Где явки? — угрожающе помахивая плёткой, в который раз спрашивал гестаповец с железным крестом на чёрном мундире.
Ребята молчали.
И вдруг:
— Что вы делали в Москве? Какие инструкции получили? — гитлеровец выжидающе, в упор смотрел на мальчишек: какое это произведёт впечатление.
«Оказывается, и это им известно! Но откуда? Неужели кто-то предал!» — всё это промелькнуло только в мыслях, но ни жестом, ни взглядом ребята не выдали своей тревоги.
Их допрашивали и поодиночке, и вместе. Обещали свободу, деньги, «счастливую жизнь» в Германии. Ничего не помогло.
…5 декабря 1942 года, День Конституции. Именно этот дорогой советским людям праздник гитлеровцы выбрали для того, чтобы совершить казнь. На базарной площади зловеще стучали топоры и молотки. Фашистские солдаты сколачивали виселицу, вбивали в перекладину железные крюки.
Когда виселица была готова, оккупанты начали сгонять народ с окрестных улиц и переулков. Подъехала чёрная зарешечённая машина. Из неё вывели десять человек: восемь взрослых и двух ребят.
Эти двое были Витя Хоменко и Шура Кобер. Руки туго связаны верёвками, на лицах — синяки от побоев. Но друзья держались мужественно.
Немецкий офицер читал приговор, а переводчик громко переводил на русский… Витя в этот момент пристально всматривался в толпу: нет ли здесь родных или знакомых? Площадь была недалеко от улицы, на которой он жил.
Вдруг совсем рядом увидел своего школьного приятеля Толю.
— Толя! — крикнул он что есть силы. — Беги домой, скажи маме…
Мальчик исчез в толпе.
Но когда мать Вити, Юлия Ивановна Хоменко, бледная, рыдающая, прибежала на площадь, всё уже было кончено…
Этой расправой фашисты рассчитывали запугать николаевцев.
Но не удалось! Когда рассвело, первые прохожие увидели возле виселицы букетики живых цветов. На столбе белел небольшой листок бумаги с надписью.
«Слава юным героям!»
Николаевские пионеры свято чтут память героев. Имя Вити носит пятая средняя школа, имя Шуры — двенадцатая.
В 1965 году отважные разведчики были посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени. О них сложены песни, им посвящена пьеса, поставленная на сцене местного театра.
Каждый, кто приезжает в южный украинский город Николаев, обязательно проходит мимо сквера, в котором стоит простой и светлый памятник Вите и Шуре. У этого памятника своя история. Он построен на средства, собранные пионерами и школьниками всей Украинской Республики.
Друзья изображены идущими к линии фронта. В руках у них волшебная палочка. Глаза устремлены вдаль: как будто они видят где-то впереди фронтовое зарево.
И каждый оставляет их в своей памяти, в своём сердце вот такими — всегда в движении, вечно в пути.
Имена юных героев занесены в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.
ЮТА БОНДАРОВСКАЯ Жанна Браун
 Настало лето. Кончились занятия в школе, а Ютиной маме не давали на работе отпуск.
Все Ютины подруги давно разъехались: кто в пионерский лагерь, а кто с родителями на дачу. Двор опустел, и Юте казалось, что она одна все летние каникулы проведёт в душном и жарком городе.
Но однажды мама получила письмо от тёти Вари, двоюродной сестры из-под Пскова.
— Варя просит, чтобы я привезла тебя к ней в деревню на всё лето.
Пишет, что Павел Иванович, учитель, организовал для ребят разные кружки и тебе не будет скучно, — грустно сказала мама, прочитав письмо, и вздохнула, — а я не могу оставить работу даже на один день.
— Мамочка, а если я поеду одна? Ты меня посадишь, а тётя Варя встретит… Ведь я уже большая…
— Одна?! — Мама испуганно посмотрела на Юту. — Нет, нет…
— Ну, мама, ничего со мной не случится, вот посмотришь! Я тебя очень прошу. Ты же сама говорила, что на меня можно надеяться. Ведь говорила, правда же?!
— Говорила, — мама улыбнулась, потом снова вздохнула и задумчиво прошлась по комнате. Юта тревожно смотрела на маму и ждала.
— Ну хорошо, — наконец сказала мама, — я подумаю.
— Ой! Спасибо, мама! — обрадовалась Юта.
Если мама говорит «я подумаю», значит, скорее всего, согласится.
А как это будет здорово! На целое лето в деревню! И Юта поедет одна, как взрослая!
Всю неделю, пока длились сборы в дорогу, Юта всё-таки боялась, что мама передумает и не отпустит её одну. И только тогда, когда поезд тронулся и за окном последний раз мелькнуло взволнованное лицо матери, Юта окончательно успокоилась.
Наконец-то и для неё началось лето!
Настало лето. Кончились занятия в школе, а Ютиной маме не давали на работе отпуск.
Все Ютины подруги давно разъехались: кто в пионерский лагерь, а кто с родителями на дачу. Двор опустел, и Юте казалось, что она одна все летние каникулы проведёт в душном и жарком городе.
Но однажды мама получила письмо от тёти Вари, двоюродной сестры из-под Пскова.
— Варя просит, чтобы я привезла тебя к ней в деревню на всё лето.
Пишет, что Павел Иванович, учитель, организовал для ребят разные кружки и тебе не будет скучно, — грустно сказала мама, прочитав письмо, и вздохнула, — а я не могу оставить работу даже на один день.
— Мамочка, а если я поеду одна? Ты меня посадишь, а тётя Варя встретит… Ведь я уже большая…
— Одна?! — Мама испуганно посмотрела на Юту. — Нет, нет…
— Ну, мама, ничего со мной не случится, вот посмотришь! Я тебя очень прошу. Ты же сама говорила, что на меня можно надеяться. Ведь говорила, правда же?!
— Говорила, — мама улыбнулась, потом снова вздохнула и задумчиво прошлась по комнате. Юта тревожно смотрела на маму и ждала.
— Ну хорошо, — наконец сказала мама, — я подумаю.
— Ой! Спасибо, мама! — обрадовалась Юта.
Если мама говорит «я подумаю», значит, скорее всего, согласится.
А как это будет здорово! На целое лето в деревню! И Юта поедет одна, как взрослая!
Всю неделю, пока длились сборы в дорогу, Юта всё-таки боялась, что мама передумает и не отпустит её одну. И только тогда, когда поезд тронулся и за окном последний раз мелькнуло взволнованное лицо матери, Юта окончательно успокоилась.
Наконец-то и для неё началось лето!
* * *
Но лета в этом году не стало. Не стало вдруг. Июньской прозрачной ночью. Война заслонила солнце от людей чёрными крестами самолётов. Война грязным дымом пожарищ закоптила небо. Юта видела по ночам, как горело и рвалось оно в той стороне, где был Ленинград, где осталась мама… Видела, как шли и шли через их деревню беженцы. Горбатые от узлов с пожитками. Видела, как молча уходили на войну мужчины. Слышала, как плакали женщины, провожая на войну мужей, отцов, сыновей. И сердце её сжималось от горя и ненависти.* * *
Павел Иванович сидел возле избы на бревне и чинил сапоги. Изба стояла на высоком кустистом взгорье возле реки, и отсюда учителю была хорошо видна вся деревня. Чёрный обгорелый сруб на том месте, где ещё недавно стояла новенькая двухэтажная школа. Колхозный клуб. Возле крыльца колхозного клуба днём и ночью стояли немецкие часовые. Юта перелезла через забор и села рядом с учителем. Тоненькая, грустная. — Дядя Павел, правду говорят, что немцы Ленинград окружили? — Правду. Пдвел Иванович достал из железной коробки горстку гвоздей и быстрыми ударами молотка начал вгонять их в подмётку. — Но там же моя мама! — сказала Юта. — Мама моя там, а я здесь и„. и… — голос у Юты задрожал. Она закрыла ладонями лицо и всхлипнула. — Ну, подумай сама, разве им Ленинград взять? — Павел Иванович надел сапог и притопнул ногой. — Ни за что не взять — кишка тонка! Кишка тонка, — повторил учитель и засмеялся. Беззвучно и зло. Вот так же вчера смеялись тётя Варя и соседский дед Иван, когда на станции раздался взрыв. Юта перестала плакать. — Дядя Павел, правду говорят, что у нас в лесу партизаны есть? Будто они вчера целый поезд с танками подорвали? Павел Иванович достал кисет, сказал он не сразу, — Может, и верно говорят, а может, и нет, — чего не знаю, того не знаю. Всё может быть. — Эх, уйти бы к партизанам! — Юта вздохнула. Потом повернулась к учителю и прошептала горячо: — Ведь я же пионерка! Я же клятву давала! Вот, смотрите, — Юта вытащила из кармана кончик красного пионерского галстука. — Он всегда со мной. Что делать, дядя Павел? — Расти, Ютик, расти — твоё самое главное дело, — серьёзно сказал учитель. Он посмотрел на тот край деревни, где стояли гитлеровские солдаты, и добавил: — Партизаны есть ли, нет, не знаю, а вот галстук свой спрячь подальше… пока. — Эх, вы… Я-то думала… расти, расти… Как же можно расти, когда кругом одни фашисты?! Не верите вы мне, вот что! Павел Иванович поднялся. Стиснул плечо Юты железными пальцами. — Не дело кричать о таких вещах на всю улицу. Большая. Поняла, ленинградка? Беги!.. Учитель ушёл в избу, и Юте показалось, что она осталась одна на всём свете. Никому не нужная. Юта сидела на полузатопленной лодке в камышах. На своём любимом месте. Смотрела, как дрожат звёзды в холодной воде, и думала. «Убегу, — решила Юта, — убегу в лес к партизанам. Пусть дядя Павел ничего не знает, я сама их найду. Вот возьму сейчас и убегу. Ночью даже лучше, немцы давно спят, и никто не увидит. Буду подрывать немецкие поезда. Один за другим. Один за другим. Никто из фашистов к Ленинграду не подойдёт. А потом пойду в разведку, проберусь в Ленинград и спасу маму…» Юта сидела долго. Может быть, целый час. И даже вздремнула немного. Так ей хорошо мечталось про партизанскую жизнь. — Ты кто? Юта вздрогнула. Чуть не упала с лодки в воду. Прямо перед ней стоял в камышах Николай Сахаров. Чубатый колхозный гармонист. Говорили, что он в лесу у партизан. — Юта… — A-а, ленинградская, — уважительно сказал Сахаров. Он подошёл ближе и присел рядом с Ютой на лодку. — Послушай, ленинградская, я знаю, тебе можно верить. — Откуда вы знаете? — недоверчиво спросила Юта. — Земля слухом полнится, — загадочно ответил Николай и прищурился, — люди говорят… а может, они перепутали что? Тогда я пойду… — Нет, нет, не уходите, пожалуйста, — горячо сказала Юта, — люди ничего не перепутали! В стороне хрустнула ветка. Словно кто-то громко разгрыз сухарь. Юта испуганно схватила Николая за руку. — Ничего, — успокоительно сказал Сахаров. Он приподнялся и протяжно квакнул: будто сонную лягушку потревожили в камышах. — Так вот какое дело. Нужно срочно передать Павлу Ивановичу записку, и чтоб ни одна душа не знала, поняла? — Дяде Павлу? — удивилась Юта. — Так он же… Николай усмехнулся. — Завтра жду тебя с ответом. Здесь. — Гармонист наклонился к Юте и негромко сказал: — Юный пионер, к борьбе за рабочее дело будь готов! Рука Юты взметнулась в салюте. — Всегда готова! Сердце её забилось тревожно и радостно. А дядя-то Павел… Вот тебе и «ничего не знаю!» На крыльце колхозного клуба стоял немецкий майор. В чёрном мундире. Грудь у майора бочонком. На бочонке железный крест и ещё какие-то награды. Рядом с майором переводчик тусклым голосом читал приказ. Казалось, слова переводчика отскакивали от толпы, будто камешки от стены. Люди смотрели себе под ноги. — Все, кто связан с партизанами, будут расстреляны! «Дудки, — думала Юта, — так тебе партизаны и дадутся в руки». Павел Иванович стоял недалеко от Юты, и на лице у него было удивление. Какие партизаны? Откуда они здесь взялись? Немцы в деревне благожелательно смотрели на старого учителя. Он всегда был рядом с ними, готовый услужить. Писал для них объявления… Им и в голову не приходило, что каждый раз, когда Юта относила куда надо его записку, — летели под откос вражеские поезда, словно сами собой подрывались на дорогах машины с фашистами. Наконец переводчик кончил читать. Юта вопросительно взглянула на учителя. Встретив её взгляд, Павел Иванович удивился: — Ютик, здравствуй! Давно я тебя не видел. Растёшь! «Всё в порядке, — обрадовалась Юта, — значит, задание не отменяется и Маша ждёт меня у перелеска». Пошёл дождь. Серая пыль на дороге примялась, потемнела. Юта вышла из дома с плетёной корзинкой в руке. Она шагала посередине улицы и ловила ртом дождевые капли. Немцы, скучая, смотрели на неё из окон. Юта примелькалась им. Ясно, опять собирает по деревне куски хлеба. Вон сколько горбушек навалено в корзинке. А Юта совсем осмелела. Подошла к самому дому, где жили немцы, и крикнула: — Господин немец, дай хлеба! Толстый немец распахнул окно. — Пошёль, пошёль, побирайка! Юта скорчила жалобную гримасу и побрела прочь. У перелеска её встретила Маша. До войны Маша жила в деревне, а теперь ходила сюда изредка. Тайком. С важными заданиями. Юта завидовала Маше. Передавать сведения, расклеивать листовки — одно, а вот воевать с настоящим пистолетом в руках — совсем другое дело. — Молодец, Ютик, давай теперь я понесу, — сказала Маша. Юта передала Маше корзинку и начала растирать побелевшие пальцы. Корзинка была тяжёлая. Им нужно было пройти километра три до леса. Там их ждали партизаны. Юта и Маша шли быстро и молча. Корзинка оттягивала руки, и её приходилось нести по очереди. Дождик кончился. В чашечках цветов и на траве сверкали дождинки. Кругом было тихо, и казалось, что нет никакой войны. «Как хорошо было раньше, — думала Юта, — просто не верится, что такая жизнь снова настанет. Песни, книги, школа… и никто никого не будет убивать…» — Маша, обязательно встретимся после войны, ладно? — сказала Юта и замерла с открытым ртом. Прямо на них, из-за поворота дороги, выехали на мотоциклах немцы. — Кто есть такие? — спросил длинный офицер в кожанке. — Нищенки мы, — быстро заговорила Маша, приседая и кланяясь, — вот хлебца насобирали в деревне. Из-за спины офицера выглянуло сивобородое, скомканное лицо Митьки Сычёва, пьяницы и вора. — Никакая она не нищенка, ваше благородие! — закричал он. — Наша она, деревенская! Вот ей-богу! Сычёв спрыгнул на землю и выхватил у Маши корзинку. Из корзинки на траву упали похожие на мыло бруски тола. — Партизанен! — взвизгнул офицер. Маша неожиданно ударила Юту в спину, оттолкнула её от себя. — А ну, пошла отсюда, проклятая! Прицепилась по дороге. Сирота, говорит. Из-за тебя попалась! Юта остолбенела. За что Маша её так? И вдруг поняла — спасти хочет. Немцы не заметили, как Юта исчезла в кустах. Они уцепились за Машу. А когда заметили, было поздно. На бегу Юта услышала два выстрела. Маше удалось выхватить пистолет… Ночью Машу расстреляли. И этой же ночью Юта вместе с Павлом Ивановичем ушла в лес.* * *
Палатки, шалаши, землянки росли, будто грибы, под каждым деревом. — Что, ленинградская, много нас? Из-за мохнатой ели вышел Николай Сахаров. В волнистом чубе — сосновые иголки. На груди — немецкий автомат. Юта с завистью смотрела на автомат. Вот бы ей такой! — Меня за тобой командир послал. Идём, идём, детский сад! Николай добродушно подтолкнул Юту вперёд. В командирской землянке людно. — Ютик! — грузный седой мужчина обнял Юту и усадил рядом с собой на берёзовый чурбак. — Скоро придёт самолёт и отправит тебя на Большую землю. Учиться будешь. Война — дело взрослых. Командир говорил медленно. Слова его падали, будто камни на дно пруда. И от них кругами расходилась обида. Юта сердито вырвалась из крепких рук командира. — Значит, учиться поеду, да? Буду сидеть и ждать, пока другие для меня хорошую жизнь завоюют? Не поеду! Не имеете права! Юта выхватила из кармана пионерский галстук, быстро повязала его поверх телогрейки. — Не имеете права! — снова крикнула она. — Вот это да! — партизаны засмеялись. — Оставьте её с нами, товарищ командир! — попросили они. Хмурое лицо командира засветилось улыбкой. …Мальчишка в рваной шапке, босиком, с нищенской сумкой через плечо брёл по деревне. От дома к дому. Возле немецкого штаба мальчишка задержался. Он подходил к каждому немцу и подолгу клянчил хлеб. Немцы отмахивались от него, как от назойливой мухи. К штабу подошла пьяная компания полицаев. Они громко говорили о чём-то. Храбрились друг перед другом и перед немцами. Мальчишка сунулся к ним. Протянул руку и запищал тонким жалобным голосом: — Дяденька полицай, дайте сироте хлебца-а-а-а! Один из полицаев наклонился к мальчишке и увидел неожиданно яркие синие глаза. Мальчишка отшатнулся от него и побежал. Полицай замер. Он точно пытался что-то вспомнить. Потом выхватил наган и бросился за мальчишкой. Этот полицай был… Сычёв. Полицай выстрелил, но мальчишка петлял по улице, как заяц. Скоро он совсем скрылся за домами. …Через полчаса, возбуждённо поблёскивая синими глазами, Юта докладывала командиру группы, сколько пулемётов возле немецкого штаба и где они расположены.* * *
— Блокаду прорвали! Блокаду прорвали! Ур-ра! Юта забыла, что она партизанка, разведчица. Она прыгала на одной ноге, как первоклассница, и хлопала в ладоши. Мороз щипал её за нос. Веселил. Румянил щёки. Колючие, холодные снежинки лезли за воротник полушубка. Партизаны окружили Юту. Кто-то уже успел разложить на снегу бездымный партизанский костёр. Качнулись толстые лапы ели, роняя снег. На поляну вышел командир отряда и армейский полковник. Вот уже несколько дней как партизаны соединились с частями Советской Армии. Командир постоял минуту, наблюдая, потом улыбнулся и шагнул в круг. — Поздравляю, Ютик! — Спасибо! — звонко крикнула Юта и спросила: — А правду говорят, что мы пойдём в тыл к фашистам помогать эстонским партизанам? — Правду, — сказал командир. — Но тебя я взять не могу. И не проси. На этот раз твёрдо. Поедешь в Ленинград к маме. Это приказ. Павел Иванович подошёл к Юте. Поправил ей сбившуюся на затылок шапку. Заглянул в мокрые глаза. — Ну, ну, Ютик, не плачь. Приказ командира — закон, — грустно проговорил он. — Надо его выполнять. На то ты и партизанка. Юта сердито растёрла варежкой слёзы по щекам. — Приказ? Пока по нашей земле ходит хоть один фашист, я не уйду — и всё!* * *
Партизаны уходили всё дальше и дальше в тыл врага. Ветер хлестал по лицам, забивал снежной пылью рот. Острые ледяные торосы преграждали путь. Люди скользили, падали, поднимались с трудом. И вдруг, перекрывая шум ветра, над ледяным вьюжным полем взвился тоненький детский голос. Ну, споёмте-ка, ребята-бята-бята, — бята… Голосок старался побороть метель, холод, усталость… …И на солнце, как котята-тята-тята-тята, Грелись этак, грелись так-так-так… Командир оглянулся. Юта! Хриплыми, простуженными голосами партизаны подхватили песню. Песня крепла. Детский голос звенел над торосами. Звал вперёд. Подбадривал усталых. И люди шли. И уже никто не падал. На вторые сутки отряд вышел к эстонскому берегу. Небольшой хутор слабо светился в тёмном лесу. Там были еда и тепло. Главное — тепло. Но за каждым кустом мог притаиться враг. Надо было обязательно выслать разведку. Но кого послать? Люди устали так, что не могли сделать и шагу. Юта подползла к командиру. — Схожу, — выдохнула она. И командир сказал: — Иди, дочка. Немцев на хуторе не оказалось. Партизаны расположились на ночлег. И никто не заметил, как один из жителей хутора скрылся в темноте. Юта спала крепко, даже во сне прижимала к себе автомат. Внезапно густую ночь разорвали выстрелы. Юта вскочила, стала растирать глаза обмороженными пальцами. Руки не слушались. Дверь в избу распахнулась. — Немцы!!! Сон слетел мгновенно. Юта бросилась следом за партизанами. — Куда?! — крикнул командир. — Назад! Без тебя справимся! Но разве Юта могла сидеть в избе, когда товарищи бьются насмерть? Сжимая автомат, она выбежала на улицу. Соседняя изба горела. Яркое пламя полосовало чёрное небо, и в его отсветах хорошо были видны немцы. Партизаны пошли в атаку. Вместе с ними шла Юта. Неожиданно сзади застрочил немецкий пулемёт. Юта стремительно повернулась на выстрелы, пошатнулась и упала на снег. — Юта, Ютик, ты ранена? Юта попыталась подняться и снова упала. С автоматом на вытянутых руках.* * *
В музее истории Ленинграда есть небольшая витрина. Ленинградские мальчишки и девчонки часто приходят сюда-и подолгу смотрят на фотографию девочки в берете, с удивительно живыми синими глазами. Девочка на фотографии улыбается. И ребята знают — она рада их приходу. Потому что такие, как Юта, не умирают. Они вечно живут с нами. И ребята приносят ей цветы. — Здравствуй, Юта!* * *
Юта родилась 6 января 1928 года в деревне Залозы Псковской области. Юная партизанка награждена посмертно медалью «Партизану Отечественной войны I степени». В дни празднования 20-летия Победы над фашистской Германией Юта Бондаровская была награждена орденом «Отечественной войны I степени». Красные следопыты 158-й и 193-й школ Ленинграда прошли по следам 6-й партизанской бригады, в которой Юта Бондаровская была разведчицей. Они собрали большой материал, встретились с товарищами Юты по 4-му партизанскому отряду.ВАСЯ ШИШКОВСКИЙ Станислав Владимирович Чумаков

Бойцы цепочкой двигались по обочине улицы. Двое несли длинное, тяжёлое противотанковое ружьё. По кочкам каменистой выбитой дороги тарахтел пулемёт «Максим». Улица была пустынной. Ставни во всех домах закрыты. И даже собаки не лаяли. Только у крайней хаты, за которой дорога круто уходила в лощину к речушке Вилии, стоял мальчишка. — Хлопец, дай напиться, — попросил командир с двумя кубиками в петлицах. Долго, жадно глотал он холодную колодезную воду. Переливаясь через край ведра, вода промывала светлую полоску на сером от пыли подбородке и пропала в тёмных, влажных пятнах пота на гимнастёрке. Наконец командир поставил ведро наземь. — Спасибо, брат, — сказал он и, встретив пристальный взгляд мальчика, устало улыбнулся, потрепал его по белёсым вихрам, — вернёмся… Отряд скрылся в лощине. Стало тихо. Даже, казалось, ветер притаился в саду. И подсолнухи настороженно повернули свои жёлтые головы на запад. А Вася Шишковский всё стоял у калитки. Под вечер в село ворвались мотоциклисты в чужой серо-зелёной форме. Они промчались мимо дома Шишковских в ту сторону, куда ушёл отряд. Вскоре из лесу донёсся треск выстрелов, гулко рвались гранаты. Ночью село наполнилось рёвом машин. Ломая заборы и деревья, огромные крытые грузовики въезжали во дворы. Где-то у соседей завизжала свинья, закудахтали куры. Фашисты начали хозяйничать. Наутро Вася чуть свет побежал к своему другу Петру. Тот, засунув руки в карманы, стоял и глазел на фашистов, которые разгуливали по двору в трусах и сапогах с короткими широкими голенищами. — Петро, сбегаем туда, где стреляли. — Мамка не пустит. — Мамка да мамка! Там, может, раненые лежат, умирают. Пётр опасливо оглянулся на хату, на немцев, шепнул: — Бежим! Мальчишки знали в лесу каждую тропку. Но сейчас густой бор показался чужим. Не хватало привычного, без чего и лес не лес. Вася остановился, прислушался: — Петро, птицы не поют… Лес будто вымер. Попряталось, притихло всё живое, испуганное выстрелами, рёвом низко пролетавших самолётов с чёрными крестами. Ребята двинулись дальше. Солнце мелькнуло в разрыве между деревьями. Там, знали они, поляна с высокой, тонкой, шелковистой травой, яркими цветами и колючими кустами ежевики под деревьями. Но что это! На краю поляны у наспех вырытого окопчика лежал солдат. Каска откатилась в сторону. По спине расползлось тёмное пятно. Дальше валялись искорёженное противотанковое ружьё, разбитый пулемёт. Не по себе стало ребятам в этом молчаливом и мёртвом лесу. Прямиком, через чащу, бросились они назад в село. Только у мостка через Вилию опомнились, отдышались. Вася вспомнил что-то и зашептал Петру: — А их было больше. Значит, не все погибли. Ушли. И командира нет на поляне. В этот вечер, как обычно, легли рано. Не было керосина. И комендантский час: после захода солнца на улицу выходить запрещалось. Вася часто просыпался, прислушивался к звукам на улице. Его мучил всё время один и тот же вопрос:
 «Где сейчас командир и те, кто сумел уйти от врагов? Может быть, командир со своими бойцами сейчас, в ночной тишине, подкрадывается, чтобы уничтожить фашистов? Ведь командир обещал вернуться, обязательно вернуться».
— Я, мама, возле окна посижу, спать не хочется, — попросил Вася.
Хорошо было смотреть в темноту и вспоминать бабушкины сказки о героях, волшебниках, неведомых зверях и птицах. И вот уж Васе кажется, что рассеивается ночная мгла, а на фоне алого рассвета громоздятся чёрные стены и башни замка.
Вася протёр глаза. Небо и вправду посветлело. Зарница? Однако на зарницу не похоже. Розоватое трепещущее пятно отражалось в низких тучах. А чёрные стены и башни — это ведь силуэты деревьев и домов на фоне зарева.
— Мама, папа, пожар!
«Но почему в церкви не забил тревожно колокол? Почему по ночным улицам не бегут люди с вёдрами, лопатами спасать чьё-то добро? Почему вдруг в центре села застучали выстрелы?»
Отец прильнул к окну рядом с Васей.
— Склад горит. Небось партизаны подожгли. Отойди-ка от окна, ненароком шальная пуля залетит. Это немцы стреляют.
А пламя пожара разгоралось всё ярче. Вдруг Васе показалось, что во дворе у сарая мелькнула чья-то тень. Прогремели выстрелы. Тень как-то неловко подпрыгнула и растворилась в темноте. В хате хлопнула дверь.
— Василь, ты куда!? — испуганно вскрикнула мать.
А Вася бросился к сараю. Там был человек. Цепляясь за стенку, он пытался подняться. Вася вскочил, подставил плечо.
— Что, здорово стукнуло?
— Да, в ногу…
«Где сейчас командир и те, кто сумел уйти от врагов? Может быть, командир со своими бойцами сейчас, в ночной тишине, подкрадывается, чтобы уничтожить фашистов? Ведь командир обещал вернуться, обязательно вернуться».
— Я, мама, возле окна посижу, спать не хочется, — попросил Вася.
Хорошо было смотреть в темноту и вспоминать бабушкины сказки о героях, волшебниках, неведомых зверях и птицах. И вот уж Васе кажется, что рассеивается ночная мгла, а на фоне алого рассвета громоздятся чёрные стены и башни замка.
Вася протёр глаза. Небо и вправду посветлело. Зарница? Однако на зарницу не похоже. Розоватое трепещущее пятно отражалось в низких тучах. А чёрные стены и башни — это ведь силуэты деревьев и домов на фоне зарева.
— Мама, папа, пожар!
«Но почему в церкви не забил тревожно колокол? Почему по ночным улицам не бегут люди с вёдрами, лопатами спасать чьё-то добро? Почему вдруг в центре села застучали выстрелы?»
Отец прильнул к окну рядом с Васей.
— Склад горит. Небось партизаны подожгли. Отойди-ка от окна, ненароком шальная пуля залетит. Это немцы стреляют.
А пламя пожара разгоралось всё ярче. Вдруг Васе показалось, что во дворе у сарая мелькнула чья-то тень. Прогремели выстрелы. Тень как-то неловко подпрыгнула и растворилась в темноте. В хате хлопнула дверь.
— Василь, ты куда!? — испуганно вскрикнула мать.
А Вася бросился к сараю. Там был человек. Цепляясь за стенку, он пытался подняться. Вася вскочил, подставил плечо.
— Что, здорово стукнуло?
— Да, в ногу…

— Ползи, дядя, в сарай, — торопливо шептал Вася, — сбоку в стене дырка, так ты лезь в неё. Там тебя никто не найдёт. А сам, нащупывая тропку босыми ногами, двинулся к дому. Яркий луч фонарика неожиданно ослепил его. — Ты что среди ночи шляешься? — раздался грубый бас полицая. — Боязно стало, вот и потянуло за хату, — нашёлся Вася. — Никто тут не пробегал? — Вон там что-то мелькнуло, — и Вася махнул рукой в сторону реки. — А за кем вы гонитесь? Полицай ответил оплеухой, от которой мальчик покатился в траву. Для острастки стреляя в темноту, погоня двинулась огородами к Вилии. А Вася вернулся в хату, что-то пробормотал в ответ на расспросы, бросился на лавку и забылся тяжёлым сном. Разбудил его утром разговор родителей. — Слышь, отец, у сарая-то кровь на земле. — Замела? — Да. — А щеколда? — Закрыта. — Никому ни слова. Мать тихонько подошла к Васе: — Проснулся? Ты никого вчера ночью не видел? — Полицаев и немцев. Они кого-то искали, на меня фонариком светили да ещё кулаком стукнули. До сих пор ухо болит. С улицы донёсся голос квартального, который звал всех на работу в поле. Расспрашивать Василия было некогда. Поспешно стали собираться, потому что за опоздание били плетью. Родители ушли, а Вася, прихватив краюху хлеба и кринку молока, выглянул на улицу. Никого. Быстро пробежал к сараю. Забрался через свой секретный лаз. Ночной гость устроился в узкой щели между стеной и сеном. Нога у него была обмотана разорванной на полосы нижней рубахой. Рядом лежал немецкий автомат.

Вася молча наблюдал, как жадно ест раненый. Смотрел на его поросшее густой щетиной лицо, совсем ещё молодое, а в волосах — сединки… — Ну, спасибо, брат, за еду, — сказал раненый. Знакомая интонация в голосе: «Спасибо, брат». Василь узнал того самого командира с двумя кубиками в петлицах, что останавливался у его дома с отрядом бойцов. — Это вы подожгли склад? Раненый насторожился. — Что, ищут? — Да не-е-т. Думают, что ушёл. Раненый приподнялся. Скрипнул зубами. — Очень больно? — спросил Вася. — Кость не задело. Ночью смогу уйти. — Возьмите меня с собой. Тот ласково провёл шершавой ладонью по головемальчика: — Нельзя, брат. Рано тебе ещё. — Ну, тогда не уходите отсюда, пока не выздоровеете. Я никому ни слова не скажу. Вот те крест. — Что ж ты крестишься? Пионер небось. Вася помотал головой. — Нет, не успел. На октябрьские праздники, думал, примут. Где ж теперь… И школа закрыта. А крест… Это мы с хлопцами так даём самую страшную клятву, когда играем. — Да, война… А, знаешь, я ведь тебя вспомнил. Это ты батальон водой поил? — Батальон?! Это же много народа! — Да, батальон… То, что от него осталось после боёв… — Я и в лесу, там, на поляне, был… — Да, хлопчик, немного нас тогда ушло. И, видишь, продолжаем воевать. Помогаем нашей армии. Ох, как трудно было Васе хранить тайну. Так и подмывало взять друга Петра за руку, подвести к лазу и прошептать: — Там партизан, что поджёг склад. Мать вечером пришла усталая и то заметила: — Ты что, Васятка, такой беспокойный, уж не захворал? Промолчал. Ничего не сказал. На следующее утро он снова пошёл в сарай. Там было пусто. Ушёл партизан, даже имени не сказал. Взгляд мальчика упал на кусочек бумаги, прижатый камнем. «Письмо?!» Вася развернул листок. Оттуда что-то выпало. Он подобрал какой-то маленький металлический предмет, поднёс к щели. Это была красная звёздочка, какие носят бойцы на пилотках. После пожара отец всё чаще стал приносить вести о дерзких подвигах партизан, которые взрывали поезда, машины и склады, уничтожали фашистов и казнили предателей. Васе казалось, что во всех этих делах обязательно участвует и командир-партизан, которого он прятал в сарае. А красная звёздочка? Он бережно хранил её все долгие годы оккупации. И вот пришло время, когда слова командира стали сбываться. Бой гремел совсем рядом. Видно было, как за полоской дальнего леса, словно стая птиц, кружат самолёты. Один за другим они то стремительно неслись вниз — и тогда земля вздрагивала от тяжёлых взрывов, то взмывали в синее морозное небо, покрытое медленно расползавшимися барашками разрывов зенитных снарядов. Мать Василия перетаскивала в подвал самые необходимые вещи. Кто знал, как повернутся события… Может быть, в подвале придётся провести несколько дней и ночей. Отец скрылся от облавы на хуторе. Ночью не спали. Под утро раздался осторожный стук в дверь.

«Отец вернулся! Нет, он так не стучит. Да и хутор, куда он ушёл, говорят, уже в руках Советской Армии». — Может, то недобрые люди? — испуганно зашептала мать, прижимаясь к двенадцатилетнему сыну, теперь единственному мужчине в доме. — Не бойся, мама, я сперва в щёлку гляну. — Наши! — раздался его возглас. В комнату вошли солдаты в белых маскировочных халатах. — Перепугалась, мать? — спросил солдат и откинул капюшон. На каске сияла красная звезда. — Как нам незаметнее пройти по селу? Вася стал натягивать полушубок. — Я пойду с вами. Дворами через всё село проведу. Только, можно, друга Петра позову? — Давай-ка лучше обойдёмся без Петра, — строго сказал командир разведчиков. Задами Василий провёл разведчиков туда, где фашисты днём рыли окопы, закладывали кирпичами окна в домах. Разведчики залегли у забора. Потом Вася тем же путём провёл их до околицы. Крепко, как взрослому, пожал ему на прощание руку командир. — А теперь можешь заглянуть к другу и первым принести весть о том, что немцев завтра у вас не будет.

Разведчики исчезли так же неожиданно, как и появились. Наутро в село ворвались наши танки. Они разутюжили окопы, выкурили немцев из укреплённых домов. В тот же день вернулся отец. В армию по здоровью он пройти не смог. Но и в селе у него сразу нашлись дела. Отец был хорошим каменщиком и стал во главе бригады строителей. Он приходил домой, чуть не падая от усталости, но всегда был весёлым, шутил с сыном и даже вырезывал из дерева игрушки. А однажды пришёл и сказал: — Завтра в школу пойдёшь. И вот Вася снова в школе. Он поднялся по каменным ступеням, толкнул дверь. Она заскрипела давно не смазанными петлями. В коридоре было холодно и пусто. Вася пришёл раньше всех. В здании стоял густой запах мышей и слежавшегося зерна. В годы оккупации здесь был зерносклад. Вася тихо шёл по коридору.
— Ты, мальчик, в какой класс? — то была учительница, накануне приехавшая в село. — В третий переходил, но это давно было. — Значит, в мой класс. Давай знакомиться. Меня зовут Александра Лаврентьевна. — А я Вася. Шишковский. Прозвенел звонок. Но немного ребят собралось в этот день. «Почему бы это? — недоумевала учительница. — Ведь всё село знало о школе». Начался урок. В класс, запыхавшись, вбежал мальчишка. Виновато помялся: — Меня мамка не пускала, — потупив голову, объяснил он, — так я через окно убежал. К ней какой-то чужой приходил и сказал: «В школе будут учить так, чтобы дети родной язык забыли». А я не поверил. — И правильно сделал, — сказала учительница, — учиться будем на родном языке. На первом уроке Александра Лаврентьевна не объясняла ребятам новый материал. Она рассказывала о пионерах, юных ленинцах, о том, как после уроков ребята шли в госпитали к раненым, собирали подарки на фронт. Как в трудную минуту они заменяли у станков отцов и старших братьев. Ребята узнали о подвигах пионеров в тылу врага. О киевском пионере Косте Кравчуке, который спас красные знамёна двух полков и сохранил их до прихода наших, о Вале Котике, который сражался в партизанском отряде в соседней с Тернопольской, Хмельницкой, области и погиб в бою. — Каждый из вас, — сказала она, — может теперь тоже стать юным пионером и вместе со всеми ребятами страны помогать Советской Армии, Родине. Забыв про холод, слушали ребята учительницу. После уроков Вася несмело заглянул в учительскую. Учительница окликнула его: — Заходи, заходи, Шишковский. — А как стать пионером, Александра Лаврентьевна? — Как? — учительница задумалась. В школе не было ни вожатой, ни одного комсомольца. Кому же готовить ребят в пионеры? — Хорошо. Для начала идём, я тебе дам хорошую книжку о пионерах. Сам почитай и ребятам расскажи. Учительница жила тут же, рядом со школой. Комната была ещё не обжита. На грубом столе кучей свалены книги, много книг, столько Вася за всю свою жизнь ещё не видел. Александра Лаврентьевна порылась в этом ворохе и достала книгу в зеленоватом коленкоровом переплёте. — «Пионер Павлик Морозов», — прочитал Вася. — А за что про него такую большую книжку написали? — Ишь, какой нетерпеливый. Прочитай сначала. Что будет непонятно — спроси.

…Утром, перед уроками, учительницу поразила необычная тишина за дверью класса. «Неужели никого?» Открыла дверь и услышала ровный голос. Вася сидел за партой и читал вслух книжку, которую она дала накануне, а вокруг теснились ребята. В этот день учительница записала в блокнот: «Просить в райкоме комсомола, чтобы скорее прислали в школу вожатую для организации пионерского отряда». А на большой переменке принесла ребятам текст торжественного обещания. — Это клятва, которую перед вступлением в пионеры дают ребята, — сказала она. — Каждый пионер должен знать и свято выполнять её. Потом учительница развернула газету и прочитала заметку о том, что по всей области началось движение за постройку танковой колонны — уже собраны десятки тысяч рублей. В этом деле большую помощь оказывают молодёжь, школьники. Ребята дружно заговорили: — Давайте и мы у себя в Шумском начнём собирать средства на танк…

Вася принёс домой лист белой бумаги и красную краску. Всё это учительница раздобыла в райкоме. Он разложил лист на столе и старательно стал рисовать танк с красной звездой на боку и красным флагом над башней. Наутро ребята пошли с плакатом по селу. По-разному встречали их в хатах. Одни без раздумий ставили свои имена на подписных листах. Другие давали деньги, но, отведя глаза в сторону, просили не писать их фамилии и торопились поскорее выпроводить ребят на улицу. Третьи, их было немного, закрывали двери перед ребятами… Под вечер поползли по селу слухи: тем, кто даёт деньги на танковую колонну, бандеровцы грозят спалить хаты. Кто же эти «бандеровцы»? Предатели украинского народа, которые не сумели бежать с фашистами. Они прятались по лесам в землянках — «схронах». Они стреляли из-за угла в коммунистов, комсомольцев. Грозили смертью крестьянам, которые вступали в колхозы. Распускали враждебные слухи. Несмотря на угрозы бандеровцев, ребята собрали 10 000 рублей на танк! 22 апреля, в день рождения Ленина, был создан пионерский отряд. Красные галстуки повязывал ребятам секретарь райкома партии. Он вытянулся по-военному и громко произнёс слова пионерского девиза. — Всегда готовы! — дружно ответил пионерский отряд. И одиннадцать рук впервые взметнулись в пионерском салюте. А потом отряд вышел во двор и перед школьным зданием посадил одиннадцать деревьев. Как-то незаметно получилось, что заводилой всех дел в школе стал Вася. Поэтому и начальником штаба отряда выбрали его. Но особенно выросло уважение ребят к Васе после того, как в школу пришло письмо из действующей армии от лейтенанта Андрея Титова. Командир просил передать благодарность за спасение жизни мальчику Василию, который живёт в крайней хате. Ребята сразу догадались, о ком шла речь в письме — о Шишковском! …Быстро по тропке бежал из школы Вася. Задержался на сборе отряда. Вот сейчас небольшой пустырь, потом бабушкин дом, ещё один и самая крайняя хата — его. На бревне у пустыря сидели двое и дымили цигарками. — Эй, хлопец, поди-ка сюда! Только подошёл, как один из незнакомцев цепко схватил за галстук: — Что это у тебя за тряпка на шее? — Брось, дядька! — пытался вырваться Вася. — Сними тряпку, гадёныш! — зашипел незнакомец. — И ребятам своей пионерией головы не мути.

Вася узнал незнакомца! Это был бывший полицай. Значит, не успел, предатель, удрать с фашистами! — Кончай с ним, — угрюмо бросил другой. В такие мгновения мозг работает необычайно быстро в поисках выхода из, казалось, безнадёжного положения. — Патруль идёт! — крикнул Вася. Село Шумское небольшое. Наутро о встрече Васи с бандитами знали все. А Вася, как обычно, вышел из дома с книжками под мышкой и с красным галстуком на груди. Догнал Петра. У того галстука не было. — А ты не испугался, Василь? — удивлённо спросил Пётр. — Испугался. — А галстук всё равно носишь? — И всегда буду носить. Пётр повернулся круто и побежал домой. Вскоре он догнал Васю. — Глянь, Василь, — потянул его за рукав. На Петре снова был красный галстук. Пришёл праздник Октября. В президиум вместе с самыми уважаемыми людьми района пригласили и представителя пионеров, Васю. Ему дали слово сразу после военного с золотой звездой героя на гимнастёрке. Вася робел выступать, особенно после того, как услышал речь героя, который рассказывал о подвигах советских воинов. А о чём скажет он? Но удивительно тихо сидели все в зале, когда пионер начал рассказывать, как трудно было ребятам в первые месяцы учиться без тетрадок и учебников, в нетопленой школе. Как они после занятий шли из дома в дом и читали газеты, рассказывали о событиях на фронтах. Как собирали металлолом. Как помогали семьям фронтовиков. Он говорил и о врагах, бандеровцах, которые становятся на пути даже у ребят. — Но они не заставят снять нас красные галстуки. В школе сейчас одиннадцать пионеров, но будет сто и двести! Вот что мне поручили сказать ребята. Вася стоял на трибуне и радостно слушал аплодисменты, первые аплодисменты в своей жизни. Сотни лиц улыбались ему. Но что это за фигура, пригнувшись, стала пробираться к выходу? Это же один из тех бандитов, что встретили его на пустыре неподалёку от дома. Так же, пригнувшись, он убегал тогда в сторону Вилии. А может быть, ошибка? Вася торопливо сбежал с трибуны, бросился к выходу, но бандита и след простыл. Всё холоднее становилось на улице, а школьный завхоз не начинал топить. — Дровишки надо экономить, впереди зима, — говорил он. — Ребята, давайте сами по дрова пойдём, — предложил как-то Вася. — Привезём воз, и нам до самой весны хватит. И в ближайшее воскресенье отряд отправился в лес. Возок неторопливо ехал дорогой, припорошённой первым снегом. Ребята, разделившись на две группы, играли в войну. Вместо ружей — палки, вместо пуль — жёлуди. Одной группой командовал Вася, другой — его друг Петро. Отряд Васи теснил «противника» всё глубже и глубже в лес. — А, отступаете?! — кричали ребята. — Вовсе и нет, — оправдывался Петро, — мы вслед за возком двигаемся, а то если вас погоним, никогда дров не наберём. Ребята из отряда. Васи кричали: — Всё равно мы вас побеждаем! — Ах, так! — возмутился Пётр. — Ребята, покажем им. Через несколько минут Вася, связанный по рукам и ногам, лежал на дне повозки, а на него взгромоздился Пётр. — Вот вам отступление, вот вам отступление! — кричал он, размахивая «ружьём». — А ну, стой! Кто такие? Ребята и не заметили, как из-за деревьев вышло несколько оборванных, вооружённых немецкими автоматами людей. «Бандеровцы», — ёкнуло у Петра сердце. — Зачем в лес едете? — спросил один из бандитов. Пётр так растерялся, что остался сидеть на Васильке. — Да вот по дрова едем, а то холодно, — нерешительно сказал кто-то из ребят. — А среди вас Шишковского, сына каменщика, нет? Того, что на собрании речь говорил? Вася шевельнулся под Петром. Тот ещё сильнее навалился на лежавшего и громко, чтобы никто из ребят не успел проболтаться, сказал:

— Нету, дома он сидит, заболел, говорят. — Узнаем — врёте, головы поотрываем. Дрова собирайте здесь. Дальше не суйтесь. Молча, торопливо ребята рубили сухие ветки, накладывали на возок. Без игр, без смеха выехали из лесу. Если бы ребята проехали со своим возком в глубь леса ещё немного, то попали бы на глухую лесную поляну. Там, возле одной из землянок, дымился костёр. Возле костра совещались главари банды. Потеряв половину людей в стычке с милицией и отрядом Советской Армии, банде пришлось покинуть тёплые «схроны» в дальнем лесном хуторе и бежать в леса. Дольше трёх дней теперь не удавалось нигде задержаться. В сёлах их люто ненавидели. И даже пропитание приходилось им теперь добывать ценою крови. У главаря в руках был план села Шумского. — В этой хате уничтожить всех, — он обвёл на плане квадратик, обозначавший дом Шишковских. — Там вся семейка — активисты. Учтите, в селе гарнизон и отряд самообороны. Всё надо кончить молниеносно, до объявления тревоги. И соседям за компанию — красного петуха под крышу. Отряд бросится сюда, а мы — на правление колхоза и магазин… Скоро Новый год. Приближение праздника чувствовалось во всём. В коридоре пахла хвоей небольшая ёлочка. Учительница перед каникулами уже не задала никаких уроков. Вася сидел у стола и мастерил к утреннику маску. А вот и отец пришёл. Стучит сапогами в коридоре, отряхивает снег. Вошёл в комнату — и прямо к печке. — Ну и холодина во дворе! А я не один. С отцом пришла бабушка. У Васи праздник через четыре дня, а у бабушки уже начался. Рождество. Конечно, как пионер, он церковные праздники не признаёт, но почему, например, не пойти к бабушке и не отведать вкусных вещей, которые она к этому дню готовит? Бабушка и сама знает о том, что Вася не прочь пробежаться к ней. — Пусти Васятку ради праздника ко мне на ночёвку, — просит она. Васе только этого и нужно. — Пусти, мама, уроков у меня нет. Тихо стало без сына в хате. Задремал отец. Яркая луна выплыла на небо, синим светом осветила спящее, заснеженное село. Вдруг неистово залаяла соседская собака. У окон заскрипел под чьими-то сапогами снег. Сразу же раздался грубый стук в дверь. — Отворяйте, ночной патруль! Мать загасила лампу. — Погоди, в окно выгляну. В лунном свете промелькнуло несколько фигур. Чёрные силуэты торопливо двигались по улице. Это была совсем не милиция. Да и какой патруль стал бы стучать к Шишковским, когда отец Васи сам был боец отряда самообороны. А стук всё сильнее. — Открывайте, бисовы души! Это были бандеровцы. Раздались выстрелы. Потом подряд два взрыва гранат. Свист осколков у самого окна. Потом где-то совсем рядом послышался крик. Голос, похожий на Васин: — Пусти, гад, слышишь? Возглас: — А, попался, щенок! Выстрел. И пламя за окном вдруг взметнулось к небу тысячей искр… Вася спал крепким сном. Спала и бабка. Их тоже разбудил среди ночи стук в дверь. — Уходите, антихристы, — увещевала из-за двери бабка. Потом раздался испуганный возглас: — Тикаймо, войско! Вася прильнул к окну. От дома убегало несколько фигур, а совсем рядом занимался пожар. — Ой, бабонька, у нас горит! — Рванулся к двери. — Стой, Васята, не уходи, Василёк, убьют! Но разве старухе удержать двенадцатилетнего мальчишку, сильного, ловкого… Побежал он к своей хате быстрее спешивших на выручку солдат. Ведь там отец, мать. Вот и дом. Горит крыша. Рядом полыхает сарай. Стёкла в окнах выбиты. Одна ставня едва держится на петле. В этот момент его схватила чья-то грубая рука. Вася узнал бандеровца. Узнал Васю и бандит. Выстрелил. Мальчик был ещё жив. Тогда бандит бросил Васю прямо в пылавший сарай.
 На следующий день всё село хоронило пионера. Шёл снежок. Он падал на ребячьи лица и таял, смешиваясь со слезами. Очень любила вся школа начальника штаба первого в районе пионерского отряда. Ребята поклялись никогда не забывать своего товарища, а солдаты — отомстить бандитам. Они выполнили свою клятву. Бандитов выкурили из лесов и уничтожили.
А память о Васе живёт. Шумят листвою деревья, посаженные первым пионерским отрядом. По всей Украине сотни дружин носят имя Васи Шишковского. А в центре села, а теперь города Шумска, стоит памятник пионеру Васе Шишковскому.
На следующий день всё село хоронило пионера. Шёл снежок. Он падал на ребячьи лица и таял, смешиваясь со слезами. Очень любила вся школа начальника штаба первого в районе пионерского отряда. Ребята поклялись никогда не забывать своего товарища, а солдаты — отомстить бандитам. Они выполнили свою клятву. Бандитов выкурили из лесов и уничтожили.
А память о Васе живёт. Шумят листвою деревья, посаженные первым пионерским отрядом. По всей Украине сотни дружин носят имя Васи Шишковского. А в центре села, а теперь города Шумска, стоит памятник пионеру Васе Шишковскому.

Последние комментарии
3 часов 1 минута назад
19 часов 5 минут назад
1 день 3 часов назад
1 день 3 часов назад
3 дней 10 часов назад
3 дней 14 часов назад