Сказки роботов [Станислав Лем] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
СКАЗКИ РОБОТОВ
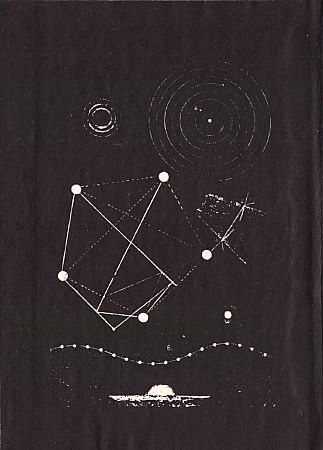


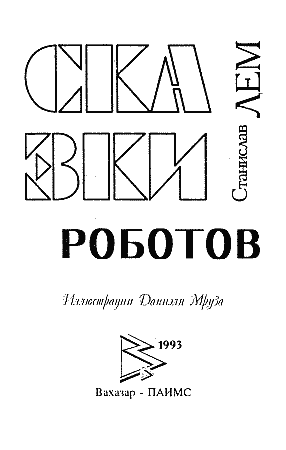

СКАЗКИ РОБОТОВ
ТРИ ЭЛЕКТРЫЦАРЯ Перевод М.Архиповой
Жил некогда великий конструктор-изобретатель, создавал он без устали необычайные приборы и изобретал удивительные аппараты. Смастерил он как-то раз для самого себя машинку-пушинку, которая красиво пела, и назвал ее пташинкой. Была у него печатка в виде смелого сердца, и каждый атом, который выходил из-под его рук, имел на себе этот знак. Дивились потом ученые, находя в атомных спектрах мерцающие сердечки. Смастерил он много полезных машин, маленьких и больших, и как-то раз пришла ему в голову чудная мысль соединить воедино смерть с жизнью и тем достичь невозможного. Решил он создать разумные существа из воды, но не тем ужасным способом, о котором вы сейчас подумали. Нет, мысль о телах мягких и мокрых была ему чужда. Она вызывала у него отвращение, как и у любого из нас. Решил он создать из воды существа по-настоящему красивые и мудрые, а именно кристаллические. Выбрал он тогда планету, от всех солнц весьма отдаленную, из ее замерзшего океана вырубил ледяные глыбы, а из них, как из горного хрусталя, изваял ледонидов. Звались они так, ибо могли существовать лишь при страшном морозе и в пустоте бессолнечной. Построили вскоре ледониды города и дворцы ледяные, а поелику всякая теплота грозила им гибелью, освещали они свои жилища северными сияниями, каковые ловили и держали в огромных прозрачных сосудах. Кто был богаче, тот имел больше северных сияний, лимонно-желтых и серебристых, и жили ледониды счастливо, а поскольку любили не только свет, но и драгоценные камни, то славились они своими драгоценностями. Драгоценности эти высекали они из затвердевших газов и шлифовали. Скрашивали им эти драгоценности вечную ночь, в которой пылали, словно плененные духи, северные сияния, подобные заколдованным туманностям в хрустальных глыбах. Немало космических захватчиков мечтали завладеть этими богатствами, ибо вся Ледония была видна из самых дальних далей, сверкая, словно бриллиант, медленно вращающийся на черном бархате. Прибывали на Ледонию разные искатели приключений попытать военного счастья. Залетел на нее и электрыцарь Латунный, чьи шаги раздавались, как звон колокольный, но едва он ступил ногой на лед, как лед под ним от жара растаял, и низринулся электрыцарь в пучину ледового океана, и воды сомкнулись над ним, и там, на дне морей ледонских, словно древнее насекомое в янтаре, почил он до скончания века.
Не испугала судьба Латунного других смельчаков. Вслед за ним прилетел на планету электрыцарь Железный, жидким гелием так упившись, что в нутре его стальном булькало, а панцирь покрылся инеем пушистым, и от этого стал он походить на снежную бабу. Но, планируя к поверхности планеты, электрыцарь раскалился от трения об атмосферу, жидкий гелий со свистом улетучился из него, а он сам, раскаленный докрасна, упал на ледяные горы, которые тотчас разверзлись. Вылез он оттуда, извергая клубы пара, подобно кипящему гейзеру; но к чему бы он ни прикасался, все мгновенно превращалось в белое облако, из которого снег выпадал. Сел тогда Железный и стал ждать, пока остынет, и вот, когда снежинки перестали таять на его панцирных наплечьях, решил электрыцарь встать и ринуться в бой, но смазка в суставах так загустела, что он и выпрямиться не смог. И по сей день сидит он там, а выпавший снег превратил его в белую гору, из которой только шишак шлема торчит. Называют ту гору Железной, и в глазницах ее блестит замерзший взор. Услышал о судьбе своих собратьев третий электрыцарь, Кварцевый, который днем походил на стеклянную линзу, а ночью казался отражением звезд. Не опасался он, что смазка в суставах загустеет, ибо не смазывался; не страшился, что лед под ногами его расплавится, ибо мог оставаться холодным, если того желал. Одного он должен был избегать — напряженных размышлений: накалялся от них кварцевый мозг, и могло это погубить электрыцаря. Вот и решил он спасти свою жизнь бездумьем и добиться победы над ледонидами. Прилетел он на планету и так охладился за длительный свой полет сквозь вечную галактическую ночь, что и железные метеориты, которые ударялись о его грудь, разлетались, звеня, на мелкие кусочки, как стекло. Опустился Кварцевый на снега Ледонии белые под небом ее черным, звездами битком набитым, и был он прозрачен, как лед. Призадумался было Кварцевый, что же ему дальше делать, но снег под ним тотчас почернел и начал в пар обращаться. — Ого! Дело плохо! — сказал себе Кварцевый. Ну, да ничего, только бы не думать, и наша возьмет! И решил он, что бы ни случилось, эту фразу повторять: ведь не требовала она никакого умственного напряжения и совсем не разогревала мозг. И пошел Кварцевый по снежной пустыне бездумно и бесцельно, стремясь только холод свой сохранить. Шел он так, пока не приблизился к стенам ледяным столицы ледонидов Морозилии. Разбежался он и попытался стену головой пробить, ударил так, что искры посыпались, но ничего не добился. — Попробуем по-иному! — подбодрил он себя и задумался над тем, сколько ж это будет дважды два. И едва электрыцарь задумался над этим, как голова у него разогрелась, и ринулся он второй раз таранить искрящиеся стены, но лишь маленькую ямку сделал. — Маловато! — проговорил он. — Попробуем что-нибудь потруднее. Сколько ж это будет трижды пять? На этот раз голову его окутала туча шипящая, ибо снег от таких бурных мыслей сразу вскипал. Вновь отступил назад Кварцевый, вновь разбежался, ударил и насквозь пробил стену, а за ней еще два дворца и три домика поменьше графов Морозных, попал на огромную лестницу, схватился за перила из сталактитов, но ступеньки были скользкие, как каток. Быстро вскочил электрыцарь, ибо все вокруг него уже таяло и мог он в любую минуту провалиться сквозь город вглубь, в ледяную бездну, где замерз бы навеки. — Ничего! Только бы не думать! Наша возьмет! — подбодрил он себя и в самом деле тут же остыл. Вылез он из тоннеля, который сам же во льду пробурил, и очутился на большой площади, со всех сторон освещенной северными сияниями, что мерцали смарагдом и серебром в хрустальных колоннах. И вышел ему навстречу звездоблещущий рыцарь огромный — вождь ледонидов Севереаль. Всю свою силу собрал электрыцарь Кварцевый и ринулся в атаку. Сошлись они, и такой грохот стоял, словно столкнулись посреди Ледовитого океана два айсберга. Отвалилась сверкающая десница Севереаля, у самого плеча отрубленная, но храбрый воин не растерялся. Повернулся он, чтобы грудь свою, широченную, как ледник, каковым он и был, подставить врагу. Вновь разбежался Кварцевый и вновь пошел на ужасный таран. Тверже и плотнее льда оказался кварц, и лопнул Севереаль с таким грохотом, будто лавина скатилась с горы. Лежал он, разбитый вдребезги, в свете полярных сияний, которые смотрели на его поражение. — Наша взяла! Лишь бы и дальше так! — сказал Кварцевый и сорвал с побежденного драгоценности красоты волшебной: перстни с водородной насечкою, пряжки и пуговицы искристые, словно бриллиантовые, а на деле из трех благородных газов — аргона, криптона и ксенона — отшлифованные. И такой охватил его восторг, что нагрелся электрыцарь от волнения и тотчас все эти бриллианты и сапфиры, шипя, улетучились от его прикосновений и в руке у него ничего не осталось, лишь капельки, на росу похожие, да и те сразу же испарились. — Ого! Значит, мне и восторгаться нельзя! Ну, ничего! Только бы не думать! — молвил он про себя и двинулся вглубь крепости, которую покорить стремился. Вскоре увидел он приближающуюся огромную фигуру. Был то Беловой Белейший, Енерал-Минерал; всю широкую грудь его ордена ледяные покрывали, а посредине сверкала звезда огромная — иней на ленте гляциальной. Этот страж казны королевской преградил было путь Кварцевому, но тот налетел, как буря, и разнес его на ледяные кусочки. Тут на помощь Белобою прибежал князь Звездоух, властитель черных льдов; с ним-то электрыцарю не удалось совладать: ведь на князе была броня дорогая азотная, в жидком гелии закаленная. От брони этой таким морозом веяло, что утратил Кварцевый напор свой, движения его ослабели, даже полярные сияния поблекли, так повеяло тут Нулем Абсолютным. Рванулся Кварцевый, думая про себя: «Беда! Что ж это происходит?» И от огромного изумления мозг его раскалился, Нуль Абсолютный стал нулем обычным, и на глазах у Кварцевого стал Звездоух с грохотом распадаться на кольца, и громы вторили его агонии, пока на поле боя не осталась в лужице груда черного льда, по которой слезами вода стекала. — Наша взяла! — воскликнул Кварцевый. — Только бы не думать, — хоть иногда и подумать нужно. Так или эдак, а должен я победить! Двинулся он дальше, и звенели его шаги, словно кто-то молотом сокрушал кристаллы. Мчался он, грохоча, по улицам Морозилии, а жители ее из-под белых шапок крыш с отчаянием в сердце взирали на него. Мчался он, будто светящийся метеорит по Млечному Пути, и вдруг увидел вдали одинокую небольшую фигуру. Был это сам Тяжелой, прозванный Ледоустым, величайший мудрец ледонидов. С разгона налетел на него Кварцевый, чтобы смять одним ударом, но тот уступил дорогу и показал два пальца расставленных; не понял Кварцевый, что это значит, вернулся он и опять двинулся на противника. Тяжелой же опять отступил в сторону, но лишь на шаг, и показал один палец. Удивился немного Кварцевый и замедлил свой бег, хотя уже развернулся, чтобы снова взять разгон. Задумался он, и в тот же миг хлынула вода из ближайших домов, но он ничего не замечал, ибо Тяжелой сделал колечко из пальцев одной руки, а большим пальцем другой руки стал шевелить в этом колечке. Кварцевый все думал да думал, что же могли означать эти молчаливые жесты, и разверзлась у него под ногами пучина, хлынула оттуда черная вода, полетел он на дно, словно камень, и не успел даже подбодрить себя словами: «Это ничего, только б не думать!», как его уже на свете не стало. Спрашивали потом ледониды, благодарные Тяжелону за спасение, что хотел он сказать своими жестами страшному электрыцарю. — Все это очень просто, — ответствовал мудрец. Два пальца означали, что нас вместе с ним двое. Один — что вскоре останусь я один. Потом я показал ему колечко, а это означало, что вокруг него лед разверзнется и черная морская бездна поглотит его навеки. Не понял он ни первого, ни второго, ни третьего. — О великий мудрец! — возопили изумленные ледониды. — Как же ты решился показывать такие знаки страшному супостату? Подумай, что произошло бы, если б он понял тебя и не стал удивляться. Ведь тогда бы он не нагрелся от мышления и не провалился бы в пучину бездонную… — Не страшился я этого ничуть, — с холодной усмешкой ответил им Тяжелой Ледоустый, — ибо знал заранее, что ничего он не поймет. Коль была б у него хоть капля разума, не прилетел бы он сюда. Что пользы существу, под солнцем живущему, от наших драгоценностей газовых и серебряных звезд ледяных?! — И снова поразились ледониды его мудрости и разошлись, успокоенные, по домам, где стоял милый их сердцу мороз. С тех пор никто уж не пытался завоевать Ледонию, ибо перевелись глупцы во Вселенной; хотя некоторые утверждают, что есть их еще немало, да только не знают они дороги в Ледонию.

УРАНОВЫЕ УШИ Перевод К. Душенко
Жил некогда инженер Космогоник, возжигавший звезды, чтобы тьму одолеть. Прибыл он в туманность Андромеды, когда полно еще было в ней черных туч. Сперва скрутил он в клубок вихрь огромный, а когда клубок закружился, достал Космогоник свои лучи. Было их у него три: красный, фиолетовый и невидимый. Перекрестил он звездный шар первым лучом, и получился красный гигант, но не стало светлее в туманности. Вторым лучом уколол он звезду, и та побелела. Сказал он ученику: «Присмотри-ка за нею!» — а сам другие звезды пошел разжигать. Ждет ученик тысячу лет, и еще тысячу, а Космогоник не возвращается. Наскучило ему ждать. Подкрутил он звезду, из белой стала она голубой. Понравилось это ученику, и решил он, что все умеет. Попробовал еще подкрутить, да обжегся. Пошарил в ларчике, который оставил ему Космогоник, а в ларчике пусто, и даже как-то чересчур пусто: смотрит и дна не видит. Догадался он, что это невидимый луч, и решил расшевелить им звезду, да не знал, как. Взял он ларчик и бросил в огонь. Вспыхнули облака Андромеды словно тысяча солнц, и стало во всей туманности светло как днем. Обрадовался ученик, да недолгой была его радость, потому что звезда лопнула. Тут, завидев беду, прилетел Космогоник и, чтобы зря ничего не пропало, начал ловить лучи и из них формовать планеты. Первую сделал газовую, вторую углеродную, а для третьей остались металлы, всех других тяжелее, и получился из них актиноидный шар. Сжал его Космогоник, запустил в полет и сказал: «Через сто миллионов лет вернусь и погляжу, что получится!». И помчался на поиски ученика, который со страху сбежал. А на планете той, Актинурии, выросла мощная держава палатинидов. Каждый из них до того был тяжел, что только по Актинурии и мог ходить, ибо на прочих планетах земля под ним проседала, а стоило палатиниду крикнуть, как рушились горы. Но дома у себя ступали они тихонечко и голоса не смели повысить, затем что владыка их, Архиторий, не ведал меры в жестокости. Поселился он во дворце, высеченном из платиновой горы, и было в том дворце шестьсот огромных покоев, и в каждом лежала одна рука короля, настолько он был велик. Выйти из дворца он не мог, но повсюду имел шпионов, до того он был подозрителен; и к тому же изводил подданных своей алчностью.
Ночью не нуждались палатиниды ни в лампах, ни в ином освещении, поскольку все горы на планете были радиоактивные, и даже в новолуние можно было иголки считать. Днем, когда солнце слишком уж припекало, спали они в подземельях своих гор, и лишь по ночам сходились в металлических долинах. Но жестокий владыка велел в котлы, в которых растапливали палладий и платину, бросать куски урана и объявил об этом по всей державе. Каждому палатиниду велено было прибыть в королевский дворец, где с него снимали мерку для нового панциря и облачали его в наплечники и шишак, рукавицы и наколенники, шлем и забрало, и все это самосветящееся, ведь доспехи были из уранового листа; всего же сильнее светились уши. Отныне палатиниды не могли собираться на общий совет, ибо если скопление их становилось слишком уж кучным — взрывалось. Пришлось им вести уединенную жизнь и обходить друг друга подальше, из страха перед цепною реакцией, Архиторий же тешился их печалью и все новыми обременял их податями. Монетные дворы его в сердцевине гор чеканили дукаты свинцовые, потому что свинец был особенно редок на Актинурии и цену имел наибольшую. Великие беды терпели подданные злого владыки. Иные хотели устроить мятеж и пытались объясниться жестами, но безуспешно: всегда оказывался меж них кто-нибудь не слишком смышленый, и, когда подходил поближе, чтобы спросить, в чем дело, из-за такой его непонятливости весь заговор тотчас взлетал на воздух. Жил на Актинурии молодой изобретатель, по имени Пирон, который навострился тянуть из платины проволоку до того тонкую, что можно было сплетать из нее сети для ловли облаков. Изобрел Пирон и проволочный телеграф, а потом такой тонюсенький вытянул проводочек, что уже его не было, и так появился беспроволочный телеграф. Надеждой исполнились обитатели Актинурии, решив, что теперь-то удастся им сплести заговор. Но хитрец Архиторий подслушивал все разговоры, в каждой из своих шестисот рук держа платиновый проводник, и потому знал, о чем говорят его подданные; так что стоило ему заслышать слово «бунт», либо «мятеж», как тотчас насылал он шаровые молнии, которые заговорщиков превращали в пылающую лужу. Решил Пирон перехитрить злого владыку. Обращаясь к товарищам, вместо «бунт» он говорил «боты», вместо «конспирировать» — «отливать», и так готовил восстание. Архиторий же удивлялся, почему это подданные его вдруг занялись башмачным ремеслом, ибо не знал, что когда они говорят «натянуть на колодку», то имеют в виду «посадить на огненный кол», а «тесные башмаки» означают его тиранию. Но те, к кому обращался Пирон, не всегда хорошо его понимали, ведь о своих намерениях он мог сообщать не иначе, как башмачной речью. Толковал он им так и этак, а они все не понимали, и как-то раз он опрометчиво телеграфировал: «Шкуру плутониевую дубить» — вроде бы на башмаки. Но тут король ужаснулся, ведь плутоний — ближайший родич урана, а уран — тория; недаром он Архиторием звался. Немедля послал он бронированных стражников, а те схватили Пирона и бросили его на свинцовый паркет перед лицом короля. Пирон ни в чем не признался, однако король заточил его в палладиевой башне. Всякая надежда покинула палатинидов, но пробил час, и вернулся в их края Космогоник, создатель трех планет. Пригляделся он издали к порядкам на Актинурии и сказал себе: «Так быть не должно!» После чего соткал тончайшее и самое жесткое излучение, поместил в нем, как в коконе, свое тело, чтобы оно его дожидалось, а сам принял облик бедного солдата-обозника и на планету спустился. Когда темнотою покрылась земля и лишь далекие горы холодным кольцом освещали платиновую долину, Космогоник попробовал подойти к подданным короля Архитория, но те его всячески избегали в страхе перед урановым взрывом, он же тщетно гонялся то за одним, то за другим, не понимая, почему они пускаются от него наутек. Так вот кружил он звенящим шагом по взгорьям, похожим на рыцарские щиты, пока не добрался до подножия башни, в которой Архиторий держал закованного Пирона. Увидел его Пирон сквозь решетку, и показался ему Космогоник, хоть и в обличье скромного робота, не похожим на прочих палатинидов: ибо он не светился во тьме, но был темен как труп, а все потому, что в доспехах его не было ни крупицы урана. Хотел его окликнуть Пирон, да только уста у него были завинчены, так что смог он лишь высекать искры, колотясь головой о стены темницы. Космогоник при виде такого сияния приблизился к башне и заглянул в зарешеченное окошко. Пирон, хоть и не мог говорить, мог звенеть цепями, и вызвонил он Космогонику всю правду. — Терпи и жди, — отвечал ему инженер, — и дождешься. Пошел Космогоник в самые глухие актинурийские горы и три дня искал кристаллы кадмия, а нашедши, раскатал их в листы, ударяя по ним палладиевыми булыжниками. Из кадмиевого листа выкроил шапки-ушанки и положил их на пороге каждого дома. Палатиниды, увидев их, удивлялись, но тотчас надевали, ведь дело было зимой. Ночью появился среди них Космогоник и прутиком раскаленным размахивал так скоро, что получались огненные линии. Таким манером писал он им в темноте: «Можете сходиться уже без опаски, кадмий убережет вас от урановой гибели». Они же, почитая его королевским шпионом, не доверяли его советам. Космогоник, разгневанный их неверием, пошел опять в горы, насобирал там урановых руд, вытопил из них серебристый металл и начеканил сверкающих дукатов; на одной стороне сиял профиль Архитория, на другой — изображение шестисот его рук. Нагруженный урановыми дукатами, воротился Космогоник в долину и показал палатинидам диво дивное: бросал дукаты подальше, один на другой, так что выросла из них звенящая горка; когда же бросил еще один дукат сверх положенной меры, воздух содрогнулся, брызнуло из дукатов сияние, и обратились они в белый пламенеющий шар; когда же ветер развеял пламя, остался лишь кратер, вытопленный в скале. В другой раз принялся Космогоник дукаты бросать из мешка, но уже иначе: бросит монету и тотчас прикроет ее кадмиевой плиткой, и хотя выроста горка вшестеро больше прежней, ничего не случилось. Тут поверили ему палатиниды, сгрудились и с величайшей охотой заговор устроили. Хотели они короля свергнуть, да не знали как, ведь дворец окружала огненная стена, а на разводном мосту стояла палаческая машина, и ежели кто не знал пароля, того кромсала она на куски. Между тем подходило время выплаты новой подати, которую алчный Архиторий установил. Раздал Космогоник подданным короля урановые дукаты и наказал выплачивать ими подать; так они и сделали. Радовался король, что так много светящихся дукатов сыплется в его сокровищницу, да не знал он, что не свинцовые они, а урановые. Ночью Космогоник растопил решетку темницы и вызволил из нее Пирона, а когда они молча шли долиной при свете радиоактивных гор, словно целое кольцо лун упало с небес и опоясало горизонт, и вспыхнул ужасающий свет, ибо груда дукатов урановых в королевской казне превысила меру и началась в ней цепная реакция. Взрыв поднебесный разнес дворец и тушу металлическую Архитория, а мощь его была такова, что шестьсот оторванных рук тирана полетели в межзвездную пустоту. Радость воцарилась на Актинурии, Пирон стал ее справедливым правителем, Космогоник же, вернувшись во тьму, извлек свое тело из лучистого кокона и удалился, чтобы зажигать звезды. А шестьсот Архиториевых рук доныне кружат вокруг планеты, словно кольцо Сатурново, и чудным сияют блеском, стократно сильнейшим, нежели свет радиоактивных гор, и радостно говорят палатиниды: «Вон Архиторий по небу катится!» Поскольку же некоторые и поныне катом его именуют, народилось отсюда присловье, которое добрело и до нас после долгого странствия меж островов галактических: «Покатился кат на закат».

КАК ЭРГ САМОВОЗБУДИТЕЛЬ БЛЕДНОТИКА ПОБЕДИЛ Перевод А.Громовой
Могучий король Болидар очень любил всякие диковинки и в собирании их проводил жизнь, забывая при этом иной раз и о важных государственных делах. Собрал он коллекцию часов, и были среди них часы пляшущие, часы-зори и часы-облака. Были у него чучела существ из самых дальних областей Вселенной, а в особом зале под колпаком стеклянным находилось самое редкое создание, Гомо Антропос именуемое, дивно бледное, двуногое; у него даже глаза были, правда, пустые, и король велел вставить в них два рубина великолепных, дабы Гомо смотрел красным взглядом. Подгуляв слегка, приглашал Болидар самых желанных гостей в этот зал и показывал им страшилище. Однажды был король в гостях у электроведа, такого старого, что у него в кристаллах ум за разум слегка заходил. Однако был тот электровед, Голозон по имени, хранилищем всяческой мудрости галактической. Говорили, что умел он нанизывать фотоны на нитки, чтобы получались сияющие ожерелья, и даже поговаривали, что знал он, как можно изловить живого Антропоса. Зная о его пристрастиях, велел король немедля погребец отворить; электровед от угощения не отказывался и, хватив лишнего из банки лейденской, почувствовал, как приятные токи расходятся по всему его телу. Тогда он открыл королю страшную тайну и обещал добыть для него Антропоса, который правит одним из племен межзвездных. Цену он назначил высокую: столько алмазов с кулак величиной, сколько Антропос весить будет; но король и глазом не моргнул. Отправился Голозон в путь-дорогу, король же начал похваляться перед придворным советом, какого он приобретения ожидает, да и не мог бы он этого скрыть, ибо велел уже в дворцовом парке, где росли кристаллы великолепнейшие, построить клетку из толстых железных брусьев. Тревога охватила придворных. Видя, что не отступается король от своего, призвали они в замок двух мудрецов-гомологов, и король принял их весьма охотно, ибо любопытствовал, что же такое многознайки эти, Саламид и Таладон, могут рассказать ему о бледном существе, чего бы он сам еще не знал. — Правда ли это, — спросил он, едва поднялись коленопреклоненные мудрецы, поклонившись ему надлежащим образом, — что Гомо мягче воска? — Истинно так, Ваша Ясность! — ответили оба. — А правда ли и то, что через щель, которая имеется у него в нижней части головы, может он издавать различные звуки? — И это истина, Ваше Королевское Величество, равно как и то, что в это же самое отверстие сует Гомо разные вещи, а потом двигает нижней частью головы, которая на шарнирах к верхней прикреплена, вследствие чего эти вещи размельчаются, и он их втягивает в нутро свое. — Странный это обычай, я о нем слышал, сказал король, — однако скажите мне, мудрецы мои, зачем он так поступает? — На этот счет четыре существуют теории, Ваше Королевское Величество, — ответили гомологи. — Первая — что делает он это, чтобы избавиться от излишка ядов (ибо ядовит он неимоверно). Другая что поступает он так ради разрушения, которое предпочитает всем другим утехам. Третья — что из-за алчности, ибо он все поглотил бы, если б мог. Четвертая… — Хватит уж, хватит, — сказал король. — Правда ли, что он из воды сделан, а все же не прозрачен, как и та кукла, что у меня? — И это правда! Имеется у него внутри, Властитель, множество скользких трубок, по которым жидкости циркулируют; есть и желтые и жемчужные, но больше всего красных, которые несут страшный яд, оксигеном или же кислородом именуемый, каковой газ все, чего коснется, сразу обращает в ржавчину либо в камень. Потому и сам Гомо отливает жемчужным, желтым и розовым цветами. Однако, Ваше Королевское Величество, молим мы покорнейше, чтобы соизволил ты отступиться от своего замысла и не добывал живого Гомо, ибо существо это могущественно и злобно, как никакое другое…
— Это вы должны изложить мне подробно, сказал король, делая вид, что готов прислушаться к советам мудрецов; в действительности же, однако, хотел он лишь удовлетворить великое свое любопытство. — Существа, к которым Гомо относится, зовутся трясущимися, Господин. Входят сюда силиконцы и протеиды; первые отличаются более плотной консистенцией, и потому зовут их непропеченцами либо переохлажденцами; другие, более жидкие, у разных авторов носят разные имена, как-то: липники либо клейковинцы у Полломедера, трясинники либо клеевидные у Трицефалоса Арборыжикового, наконец, Анальцимандр Медяковый прозвал их тряскослюнявчиками клееглазыми… — Так это правда, что у них даже и глаза скользкие? — живо спросил король. — Истинно, Господин. Существа эти с виду слабы, хрупки, и стоит им упасть с высоты локтей в шестьдесят, как они превращаются в красную лужу, но из-за прирожденной хитрости являют они собой опасность более грозную, нежели все пучины и рифы Астрического Кольца, вместе взятые! И потому молим мы тебя, Господин, чтобы ради блага государства… — Ладно уж, дорогие мои, ладно, — прервал их король. — Можете идти, а я приму решение с надлежащей осмотрительностью. Отвесили ему низкие поклоны мудрецы-гомологи и ушли встревоженные, ибо чувствовали, что не оставил своего опасного замысла король Боли-дар. По прошествии недолгого времени звездный корабль привез ночью огромные ящики. Их немедленно отправили в королевский парк. И вскоре двустворчатые золотистые врата отворились для всех подданных короля; в алмазной чаще, среди из яшмы изваянных беседок и мраморных чудовищ, увидали все железную клетку, а в ней бледное гибкое существо, сидящее на маленьком бочонке; перед ним стояла миска с чем-то странным, издававшим, правда, запах масла, но испорченного пригоранием на огне и потому непригодного уже к употреблению. Однако существо это преспокойно опускало в миску нечто вроде лопатки и, набирая с верхом, вкладывало смазанную маслом субстанцию в свое лицевое отверстие. Зрители онемели от ужаса, надпись на клетке прочтя, ибо поняли, что перед ними живой Гомо Антропос бледнотик. Простонародье принялось его дразнить, и тогда Гомо встал, зачерпнул что-то из бочонка, на котором сидел, и начал плескать на толпу зевак водой убийственной. Одни убегали, другие хватались за камни, чтобы в мерзость эту швырнуть, но стража немедленно разогнала всех. Обо всем этом доведалась дочь короля, Электрина. Видно, унаследовала она любопытство от отца, ибо не боялась приближаться к клетке, в которой бледное создание проводило время, непрестанно почесываясь и поглощая такую массу воды и подпорченного масла, которая убила бы на месте сотню подданных короля. Гомо быстро научился разумному языку и отваживался даже заговаривать с Электриной. Спросила его однажды королевна, что это такое белое светится у него в пасти. — Я называю это зубами, — сказал он. — Дай мне хоть один зуб через решетку! — попросила королевна. — А что ты мне дашь за это? — спросил он. — Дам тебе свой золотой ключик, но только на минутку. — А что это за ключик? — Мой личный, которым каждый вечер заводится разум. Ведь и у тебя такой есть. — Мой ключик не похож на твой, — ответил он уклончиво. — А где он у тебя? — Тут, на груди, под золотым клапаном. — Дай мне его. — А ты дашь мне зуб? — Дам… Открутила королевна золотой винтик, открыла клапан, вынула золотой ключик и протянула его сквозь решетку. Бледнотик жадно схватил его и, хохоча, убежал вглубь клетки. Просила его королевна и молила, чтобы ключик отдал, но он и думать не хотел. Боясь открыть кому-нибудь, что она наделала, с тяжестью на сердце вернулась Электрина во дворец. Неразумно она поступила, но ведь была она еще почти ребенком. Наутро слуги нашли ее лежащей без сознания на хрустальном ложе. Прибежали король с королевой и все придворные, а она лежала будто спящая, но пробудить ее не удавалось. Вызвал кораль специалистов — электроников придворных, медиков-электронургов, и они, обследовав королевну, обнаружили, что клапан открыт, а ни винтика, ни ключика нет! Шум поднялся в замке и переполох, все бегали, искали ключик, но тщетно. На следующий день доложили погруженному в отчаяние королю, что его бледнотик хочет говорить с ним по поводу пропавшего ключика. Король тут же отправился в парк, и страшилище сказало, что знает, где королевна потеряла ключик, но откроет это лишь тогда, когда король словом своим королевским поручится свободу ему вернуть и корабль-пустолет дать, чтобы мог он к своим возвратиться. Король долго упорствовал, весь парк велел обыскать, но в конце концов согласился на эти условия. Подготовили тогда пустолет и бледнотика под охраной вывели из клетки. Король ждал у корабля, ибо Антропос обещал сказать, где лежит ключик, лишь когда взойдет на палубу корабля. Когда же он там очутился, то высунул голову в люк и, показывая сверкающий ключик, закричал: — Вот он где, ключик! Я заберу его с собой, король, чтобы твоя дочь никогда не проснулась, ибо я жажду мести за то, что ты меня опозорил, выставив на посмешище в клетке железной! Огонь пошел из-под кормы пустолета, и корабль взвился ввысь при всеобщем остолбенении. Послал король вдогонку самые быстрые мракодол-бы стальные и скоровинтники, но экипажи их вернулись с пустыми руками, ибо хитрый бледнотик замел следы и ушел от погони. Понял король Болидар, как плохо он поступил, не послушав мудрецов-гомологов, да поздно уж было. Первейшие электроники-слесаристы старались ключик сделать. Главный Монтажник дворцовый, резчики и оружейники королевские, позолотничие и постальничие киберграфы-умельцы — все съезжались, чтобы мастерство свое испытать, однако же тщетно. И понял король, что надо вернуть ключик, увезенный бледнотиком, иначе тьма навеки омрачит разум и чувства королевны. Объявил поэтому король Болидар по всему государству, что так и так, мол, дело было, бледнотик Гомо Антропический похитил золотой ключик, а кто его поймает либо хоть драгоценность животворную вернет и королевну разбудит, тот получит ее в жены и вступит на трон королевский. Явились тут же гурьбою смельчаки всякого рода. Были средь них и электрыцари, и ловкачи-обманщики, астроворы, звездоловы; прибыл в замок Хранислав Мегаватт, фехтовальщик-осциллатор достославный, с таким маневренным вихревым сцеплением, что никто не мог устоять против него в поединке; прибывали самодейственники из самых дальних краев: два Автоматея-догонялыцика, в ста боях испытанные, Протезий-конструкционист прославленный, который иначе как в двух искроглотах, серебряном и черном, нигде не появлялся; приехал Арбитрон Космософович, из пракристаллов построенный, со структурой дивно стрельчатой, и Сорвибаба-интеллектрик, который на сорока робослах в восьмидесяти ящиках привез старую счетную машину, от мышления проржавевшую, но мощную в замыслах. Прибыли три мужа из рода Селектритов — Диодий, Триодий и Гептодий, — которые имели в головах такой идеальный вакуум, что мысль их была черна, как ночь беззвездная; прибыл Перпетуан, с головы до ног в доспехах лейденских, с коллектором, что от трехсот боев даже патиной покрылся; Матриций Перфорат, который дня не проводил, чтобы не проинтегрировать кого-нибудь, — этот привез с собой во дворец непобедимого кибернягу, коего звал Токусом. Съехались все, а когда дворец был уже полон гостей, прикатилась к его порогу бочка, а из нее в виде капель ртутных вытек Эрг Самовозбудитель, который мог принимать любую форму, какую сам захочет. Попировали герои, так осветив залы дворца, что мраморные своды начали просвечивать пурпуром, как облака на западе, и двинулись каждый своим путем, чтобы бледнотика сыскать, вызвать его на смертный бой и добыть ключик, а вместе с ним — королевну и трон Болидара. Первый, Хранислав Мегаватт, полетел на Колдею, где жило племя холодцов, ибо замыслил там «языка» добыть. И нырял он в их мази, ударами телеуправляемой шпаги путь себе прокладывая, но ничего не достиг, ибо, когда слишком раскалился, охлаждение у него лопнуло, и встретил фехтовальщик несравненный свою смерть среди чужих, и катоды его отважнке навеки поглотила нечистая мазь холодцов. Автоматеи-догоняльщики добрались до страны радомантов, которые воздвигают строения из светящихся газов, излучая радиоактивность, а сами так скупы, что ежевечерне пересчитывают все атомы своей планеты. Плохо приняли Автоматеев скряги радоманты — показали им бездну, полную ониксов, меденитов, лимонинов и спинелей, а когда электрыцари польстились на сокровища, побили их камнями, обрушив с высоты лавину драгоценных камней, которая, падая, осветила все вокруг, словно сотня разноцветных комет. Ибо состояли радоманты в тайном союзе с бледнотиками, о чем никто не ведал. Третий, Протезий-конструкционист, добрел после долгого путешествия сквозь мрак межзвездный до самой страны алгонков. Там бушуют каменные шквалы метеоров; об их неиссякаемую завесу ударился корабль Протезия и с раздробленными рулями стал дрейфовать по глубинам. Четвертому, Арбитрону Космософовичу, поначалу больше повезло. Прошел он сквозь теснину андромедскую, преодолел четыре спиральных завихрения у созвездия Гончих Псов, а затем попал в спокойную пустоту, благоприятную для световой навигации, и сам, как быстрый луч, налегал на руль и, огнистым хвостом свой след отмечая, добрался до берегов планеты Маэстриции, где среди скал метеоритных увидел разбитый остов корабля, на котором отправлялся в путь Протезий. Похоронил он корпус конструкциониста, могучий, блестящий и холодный, будто живой, под грудой базальтовой, но снял с него оба искроглота, серебряный и черный, чтобы пользоваться ими как щитами, и двинулся вперед. Дикой и гористой была Маэстриция, каменные лавины на ней грохотали да серебрились ветви молний в тучах над безднами. Рыцарь забрел в страну ущелий, и там напали на него палиндромиты в сиянии малахитово-зеленом. Молниями с вершин рубили они Арбитрона, а он отражал молнии искроглотным щитом, и тогда они передвинули вулкан, нацелились кратером в спину рыцарю и плюнули огнем. Пал рыцарь Арбитрон, и кипящая лава влилась в его череп, из которого вытекло все серебро. Пятый, Сорвибаба-интеллектрик, никуда не отправился, а, остановившись у самых границ королевства Болидара, пустил своих робослов на пастбища звездные, сам же машину начал собирать, настраивать, программировать и все бегал меж ее восемьюдесятью ящиками, а когда они током насытились так, что машина разбухла от разума, начал задавать ей точно обдуманные вопросы: где обитает бледнотик, как сыскать к нему дорогу, как его одурачить, как в ловушку поймать, чтобы ключик отдал. Но ответы получались неясные и уклончивые, и он, распалившись гневом, дрессировал машину так люто, что от нее накаленной медью смердеть стало, и бил ее и лупил, крича: «Выкладывай немедля правду, проклятая счетная старуха!». И расплавились ее соединения, потекло из них серебристыми слезами олово, с грохотом лопнули перегретые трубки, и остался Сорвибаба над раскаленной рухлядью взбешенный, с палкой в руках, и пришлось ему несолоно хлебавши домой вернуться. Заказал он новую машину, но получил ее лишь четыреста лет спустя. Шестой по счету была экспедиция Селектритов. Диодий, Триодий и Гептодий иначе взялись за дело. Имели они неисчерпаемые запасы трития, лития и дейтерия и задумали форсировать взрывами тяжелого водорода все дороги, в страну бледнотиков ведущие. Неизвестно лишь было, где начинаются эти дороги. Хотели они спросить огненогих, но те перед ними в стенах своей столицы заперлись и огнями отбрыкивались; удалые Селектриты шли на приступ, не жалея ни дейтерия, ни трития, так что ад отверзающихся атомных недр подымался в звездную высь. Городские стены блестели, как золото, но в огне обнаруживали истинную свою природу, превращаясь в желтые облака сернистого дыма, ибо возводились они из пиритов-колчеданов. Диодий пал, растоптанный огненогими, и разум его разлетелся, как сноп цветных кристаллов, осыпая панцирь. Похоронили его в гробнице из черного оливина и повлеклись дальше, в пределы Опаленницкого королевства, где правил звездоубийца король Астроцид. Было у него хранилище, наполненное ядрами огненными, из белых карликов вылущенными, и такие они были тяжелые, что только страшная сила дворцовых магнитов удерживала их, чтоб не провалились они сквозь планету. Кто ступил на почву этого королевства, не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ибо гигантское притяжение приковывало лучше, чем цепи и болты. Тяжко воистину пришлось тут Триодию и Гептодию, ибо Астроцид, увидав их под бастионами замка, начал выкатывать одного белого карлика за другим и запускал Селектритам в лица эти пышущие огнем ядра. И все же был он побежден и сказал Селектритам, каким путем добираться до бледнотиков, но обманул их, ибо и сам не знал этого пути, а хотел лишь избавиться от грозных воителей. Вошли тогда Селектриты в черную сердцевину мрака, где Триодия кто-то подстрелил антиматерией из пищали, — может, кто из охотниковки-берносов, а может, был это просто самопал, на бесхвостую комету поставленный. Так или иначе, а исчез Триодий, еле успев выкрикнуть: «Аврук!» — любимое свое слово, боевой клич рода. Гептодий же упорно стремился дальше, но и его ждала горькая участь. Очутился его корабль среди двух гравитационных завихрений, Бахридой и Сцинтиллией называемых; Бахрида время ускоряет, Сцинтиллия же замедляет, и есть меж ними полоса застоя, в которой время ни вперед, ни назад не движется. Замер там живым Гептодий и остался вместе с неисчислимым множеством астрофрегатов и галеонов, других космотьеров, пиратов, мракодолбов, ничуть не старея, в тишине и жесточайшей скуке, имя которой — Вечность. Когда окончился так печально поход трех Селектритов, Перпетуан, киберграф Баламский, который должен был седьмым отправиться в путь, долго не отправлялся. Долго готовился к битвам электрыцарь этот, прилаживая себе все более стремительные проводники, все сильнее разящие искрильницы, огнеметы и толкатели. Благоразумия полон, решил он во главе дружины верной идти, и стекались под его знамена конквистадоры: много пришло и безроботов, которые, иного занятия не имея, военной службой заняться жаждали. Сформировал из них Перпетуан галактическую конницу достойную, а именно: тяжелую, бронированную, которая слесарней именуется, и несколько легких подразделений, в которых крушители службу несли. Однако при мысли, что вот он должен идти и жизнь окончить в неведомых краях, что в какой-нибудь луже превратится он весь без остатка в ржавчину, железные голени подогнулись под ним, скорбь его ужасная объяла, и вернулся он тут же домой, от стыда и печали роняя топазовые слезы, ибо был это рыцарь могущественный, с душою, драгоценностей полной. Предпоследний же, Матриций Перфорат, разумно взялся за дело. Слыхал он о стране пигмелиантов, карликов работящих, кои из этих мест род свой ведут. У их конструктора рейсфедер на чертежной доске поскользнулся, вследствие чего из матрицовницы все до одного вышли они горбатыми уродами, но переделка не окупалась, и так оно и осталось. Эти карлики собирают знания, подобно тому, как иные собирают сокровища, почему и зовут их ловцами Абсолюта. Мудрость их на том основывается, что являются они коллекционерами знаний, а не их потребителями. К ним и отправился Перфорат, не с оружием, но на галеонах, палубы коих прогибались от даров великолепных; намеревался он купить расположение пигмелиантов нарядами, от позитронов кипящими, нейтроновым дождем пронизанными; вез он им также атомы золота в четыре кулака величиной и бутыли, в которых колыхались редчайшие ионосферы. Но презрели пигмелианты даже пустоту благородную, расшитую астральными видениями прекраснейшими; тщетно Перфорат им, разгневавшись, и Токусом своим грозил, что, мол, натравит на них электрычащего. Дали они ему наконец проводника, но был тот проводник спрутом мириадоруким и всегда показывал все направления сразу. Прогнал его Перфорат и пустил Токуса по следу бледнотиков, но оказалось, что это был ложный след, ибо тем путем комета калиевая проходила, простодушный же Токус перепутал калий с кальцием, который в состав костяка бледнотиков входит. Оттого ошибка произошла. Долго слонялся Перфорат среди солнц, все более темных, ибо в очень старую окрестность Вселенной попал. Шел он сквозь анфилады пурпурных гигантов, пока не увидел, что его корабль вместе со свитой звезд молчащих в спиральном зеркале отражается, удивился и на всякий случай взял в руки гасильник Суперновых, который купил у пигмелиантов, чтоб от чрезмерного зноя на Млечном Пути уберечься; не знал он, на что смотрит, а был то узел пространства, его факториал теснейший, даже тамошним моноастеритам неизвестный: говорят они об этом лишь одно — кто туда попадет, уж обратно не вернется. Доныне неизвестно, что сталось сМатрицием в этой звездной мельнице; Токус его верный один домой примчался, тихонько воя в пустоту, и сапфировые его глазищи таким страхом налились, что никто в них не мог заглянуть без содрогания. И ни корабля, ни гасильников, ни Матриция никто с тех пор не видел. Последний, Эрг Самовозбудитель, тоже в одиночку собрался в путь. Год и шесть недель его не было. Вернувшись, рассказывал он о странах, никому не ведомых, как то: о стране Перискоков, которые возводят кипучие ядоплескальницы; о планете клейстероглазых, кои слились перед ним в ряды черных истуканов, ибо всегда так при нужде поступают, он же их надвое рассек, обнажив остов их, скалу известковую, когда же одолел он их гро-бопады, то оказался лицом к лицу громадному, в полнеба, и ринулся на него, чтобы дорогу спросить, но под клинком огнемеча его лопнула кожа и открылся белый лес извивающихся нервов. Рассказывал Эрг о планете прозрачного льда — Аберрации, которая, как алмазная линза, картину всего Космоса в себе заключает; там он и зарисовал пути, к стране бледнотиков ведущие. Толковал он о стране вечного молчания, Семинарии Криотрической, где видел лишь ореолы звезд, отраженные в нависающих глыбах глетчеров; о королевстве разжиженных мармелоидов, которые выделывают из лавы кипящие безделушки; об электропневматиках, что умеют заклинать разум в парах метана, в озоне, в хлоре, в дыме вулканов и все бьются над тем, как мыслящий гений в газ вделать. Рассказал Эрг, что для того, чтоб до страны бледнотиков добраться, пришлось ему высадить двери солнца, Головой Медузы именуемого, и, сняв их с хроматических петель, пробежал он сквозь внутренность звезды, сквозь сплошные ряды огней, лиловых и голубовато-белых, и от жара на нем броня коробилась. Рассказал, как тридцать дней силился отгадать слово, которым приводится в действие катапульта астропроциановая, ибо лишь через ее посредство можно войти в холодный ад трясущихся существ. И как он очутился, наконец, среди них, а они поймать его силились в ловушки клейкие, ртуть ему из головы выбить, замыкание ему учинить; как обманывали его, показывая уродливые звезды, но то было ложнонебо, ибо настоящее небо они от него хитростью скрыли; как пытками добивались от него, каков его алгоритм, а когда он все выдержал, заманили его в засаду и прихлопнули магнетитовой скалой, а он в этой скале немедленно размножился в бесчисленное количество Эргов Самовозбудителей, крышку железную поднял, на поверхность вышел и строгий суд над бледнотиками чинил целый месяц и еще пять дней. И последним усилием бросили они на него чудищ на гусеницах, танкунами именуемых, да только и это не помогло, ибо, неутомимый в ярости воинственной, резал он их, колол и рубил, и они сдались и бросили к его ногам подлеца-ключевла-дельца; Эрг же ему башку мерзкую отсек, и выпотрошил, и нашел в ней камень, трихобезоаром именуемый. На камне же была вырезана надпись, языком бледнотиков хищным повествующая, где ключик находится. Шестьдесят семь солнц, белых, голубых и рубиново-красных, распорол Эрг, прежде чем, надлежащее открыв, ключик нашел. О приключениях и битвах, случившихся на обратном пути, Эрг и вспоминать не хотел, ибо тянуло его к королевне, да и с коронацией надо было поторопиться. С великой радостью повела его королевская чета в покои дочери, которая молчала как камень, погрузившись в сон. Эрг склонился над ней, начал орудовать у открытого клапана, что-то вложил в него, покрутил, и тут же королевна, к восторгу матери, отца и придворных, открыла глаза и улыбнулась своему спасителю. Эрг закрыл клапан, заклеил его пластырем, чтоб не открывался, и сказал, что шурупчик он тоже нашел, но потом выронил во время схватки с Полеандром Партобоном, императором Резопургении. Но никто на это не обратил внимания, а жаль, ибо убедилась бы королевская чета, что вовсе он никуда не отправлялся, ибо сызмальства владел искусством подбирать ключи к любому замку и благодаря этому смог завести королевну Электрину. Так что не пережил Эрг на самом деле ни одного из описанных им приключений, а всего только переждал год и шесть недель, чтоб не показалось подозрительным слишком быстрое его возвращение, да и хотел он увериться, что никто из его соперников не вернется. Лишь тогда прибыл он ко двору короля Болидара, королевну к жизни вернул, повенчался с ней и царствовал долго и счастливо, а обман его так и не обнаружился. Из чего сразу видно, что мы правду рассказали, а не сказку, ибо в сказках всегда побеждает добродетель.
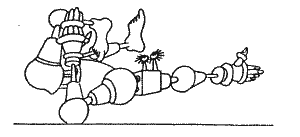
СОКРОВИЩА КОРОЛЯ БИСКАЛЯРА Перевод Ю.Абызова
Король Кипрозии Бискаляр славился своими несчетными богатствами. Было в его сокровищнице все, что только можно сделать из золота, из урана и платины, из амфиболов, рубинов, ониксов и аметистов. Любил король бродить по колено в драгоценностях и часто говаривал, что нет на свете такого сокровища, какого не было бы у него. Весть о кичливости короля дошла до одного чудесного конструктора, который в то время был хранителем кладовой и главным закройщиком у Висмодара, владыки звездных скоплений Диады и Триады. Конструктор отправился ко двору Бискаляра. Очутившись в тронном зале, где король сидел на кресле, выточенном из двух огромных бриллиантов, конструктор, даже не взглянув на золотой паркет, черными агатами украшенный, без всяких околичностей сказал, что если король представит ему опись своих сокровищ, то он, конструктор Креаций, покажет такую драгоценность, какой у Бискаляра наверняка нет. — Хорошо, — сказал Бискаляр, — но если тебе не удастся это сделать за три дня, то я буду тебя магнитами по серебряному своему дворцу волочить, золотые гвозди в тебя вбивать буду, а потом череп твой, в иридий оправленный, повешу на солнечных воротах для устрашения самохвалов! Тут же принесли опись королевских сокровищ, которую целых шесть лет с великой поспешностью составляли сто сорок электронных писцов. Конструктор Креаций велел отнести фолианты в черную башню, которую отвел для него король, и закрылся там. На другой день он снова пришел к Бискаляру. Король окружил себя такими сокровищами, что даже глазам было больно от золотисто-белого колыханья. Но Креаций, не обращая на это внимания, попросил, чтобы принесли ему корзину песка, земли или даже просто мусора. Когда это сделали, он высыпал серобурую массу на золотой паркет и воткнул в нее, бережно держа двумя пальцами, какую-то маленькую штучку, блеснувшую, как негасимая искорка. Штучка тут же вгрызлась в серый холмик, и на глазах удивленного Бискаляра тот засиял, как самый чистый самоцвет, и стал расти, играя пульсирующим светом, становясь все больше и чудеснее, пока эта живая драгоценность не затмила мертвую красоту королевских сокровищ. Все присутствующие были ослеплены невыносимой, все нарастающей красотой. Король закрыл лицо руками и крикнул: — Довольно! Тогда Креаций наклонился и положил на играющий самоцвет другую искорку, черную, и самоцвет в один миг стал серо-бурой грудкой спекшейся земли. Великий гнев и зависть охватили короля. — За то, что ты меня посрамил, тебе грозит казнь, — сказал он. — Но, чтобы не говорили, будто я тебя коварно в темницу заточил и, вероломно нарушив наше королевское слово, магнитами волочить и четвертовать тебя повелел, я дам тебе три задания. Справишься с ними — дарую тебе жизнь и свободу. Не справишься — горе тебе, чужеземец! Ничего Креаций не ответил, стоял себе спокойно, а Бискаляр продолжал: — Вот тебе первое задание. Ты похваляешься, что можешь сделать все. Проникни же в мою подземную сокровищницу этой ночью. Дабы ты мог доказать, что побывал в самом ее сердце, скажу тебе, что в ней четыре зала. И в последнем зале, белом, как снег, пусто. Лежит там только бриллиантовое яйцо, а в нем металлический шар. Завтра, ровно в полдень, ты должен принести его мне. Ступай! Креаций поклонился и ушел. Бискаляр злорадно усмехнулся. Хитрую ловушку подстроил он Креацию: если бы даже конструктор сумел пробраться в сокровищницу, то он не смог бы вынести металлический шар; ведь выточен тот шар был из чистого радия и за тысячу шагов обжигал страшным излучением и помрачал разум… Спустилась ночь. Креаций вышел из своей башни и пошел ко дворцу. Поодаль от стражи, что перекликалась на зубчатых стенах, он достал из-за пазухи маленькую шкатулочку, положил на ладонь три молочно-белых искры и дунул. Искры разгорелись перламутровым блеском и окутали облаком вооруженную стражу. Спустился такой туман, что за шаг ничего не увидишь. Креаций прошел в подземелье незамеченным и очутился в зале. Потолок того зала был из халцедона, стены из хризобериллия, а изумрудный пол казался зеленым озером посреди сверкающих скал. Потом он увидел дверь сокровищницы, а перед нею черную членистоногую машину о восьми ногах. Воздух над ней так и выгибался хребтом, будто волна расплавленного стекла. — Скажи мне, — заговорила машина, — что это за место, — нет там ни стен, ни решеток, а выйти оттуда никто не может? — Это место — Космос, — ответил конструктор. Зашаталась машина и упала на изумрудные плиты с таким грохотом, будто кто-то перерезал часовую цепь, и гири покатились по хрусталю. Креаций перешагнул через нее, достал пурпурную искру и подошел к двери сокровищницы, сделанной из титана. Выпустил он искру, та закружилась светлячком, нырнула в замочную скважину. Через минуту оттуда вылез белый язычок. Креаций взял его легонько, потянул и извлек трепещущий пучок не то стебельков, не то струн. Посмотрел на них и прочитал, что там было написано… «Хороший мастер служил Бискаляру, — подумал он, — раз сумел снабдить сокровищницу атомным замком». И действительно, сокровищница отпиралась не простым ключом, а атомным облачком. Если вдунуть такое облачко в замочную скважину, атомы редчайших элементов — гафния, технеция, ниобия и циркония — в определенной последовательности вращая рычаги, сдвинут силой электрического тока гигантские засовы. Конструктор выбрался потихоньку из подземелья, ушел за город и стал при свете звезд собирать нужные ему атомы. — Вот у меня уже есть шестьдесят миллионов ниобиевых, — подсчитал он за час до рассвета, — миллиард и семь штук циркониевых, вот сто шестнадцать гафниевых. Но где же мне взять технеций, если ни одного его атома нет на нашей планете? Он поглядел на небо, а тут как раз заря занялась, предвещая восход солнца. И улыбнулся конструктор, вспомнив, что атомы технеция есть на Солнце. Хитрый Бискаляр укрыл ключ к своей сокровищнице в солнечной звезде! Достал Креаций из своей шкатулки невидимую искру (а была она из самого жесткого излучения) и выпустил ее с открытой ладони навстречу восходившему Солнцу. Искорка зашипела и исчезла. Не прошло и пятнадцати минут, как затрепетал воздух, потому что атомы технеция несли в себе нестерпимый солнечный жар. Конструктор поймал их, будто жужжащих пчел, закрыл вместе с остальными в шкатулку и направился ко дворцу, так как время было уже на исходе. Туман все еще стлался по земле, и стража не заметила, как он вбежал в подземелье и вдунул в замок газовый ключ. Креаций услышал, как защелкали поочередно дверные рычаги, но сама дверь не шелохнулась. — А не ошиблась ли ты, искорка? Это же мне головы может стоить! — сказал Креаций и сердито ударил кулаком по двери. И тут последний атом технеция, который еще не совсем остыл и из-за этого чуть не сбился с пути, наконец повернул упрямый рычаг. Дверь сокровищницы — а была она толщины такой же, как и ширины, — тихо открылась. Креаций вбежал в первую комнату, зеленую, так как стены ее были изумрудные. Прошел другую — небесно-голубую от сапфиров, и третью — бриллиантовую, где глаза кололо радужными шипами, и, наконец, очутился в зале, белом, как снег. Здесь он увидел алмазное яйцо, но сила излучения тут же помутила его рассудок. Сжавшись, он опустился на колени у порога и только теперь понял все коварство Бискаляра. Креаций торопливо посыпал наугад серые и черные искры, а те превратились в пушистую стену и окружили его. Так он подошел к бриллиантовому яйцу. Схватил радиевый шар и выбрался из подземелья, окруженный мохнатой тучей искр. Большие городские часы как раз начали бить двенадцать, и Бискаляр уже руки потирал при мысли о том, как он будет волочить магнитами посмеявшегося над ним Креация. Но вдруг послышались гулкие шаги, и во дворец ворвался ослепительный свет — это Креаций вошел в тронный зал и бросил на пол радиевый шар. Покатился шар к подножию трона, и на его пути тускнел блеск драгоценностей и сверкающие стены меркли от излучения. Задрожал король, вскочил, спрятался за спинкой своего кресла. Сорок сильнейших электрыцарей, прикрываясь свинцовыми щитами, на четвереньках стали медленно подбираться к шару, обжигающему все вокруг, и, подталкивая копьями, потихоньку выкатили его из тронного зала. Пришлось королю Бискаляру признать, что Креаций выполнил задание. Но гнев, преисполнивший сердце короля, уже не имел предела. — Посмотрим, справишься ли ты со вторым заданием, — сказал король и приказал взять Креация на борт космолета и отправить на Луну, — а была это пустынная планета, словно череп голый, дикими скалами ощерившийся. Капитан космолета высадил конструктора на скалы и сказал: — Выберись отсюда, если сможешь, и завтра в полдень явись к королю! А не выберешься, — ты погиб! Если бы даже никто и не прилетел за Креацием, чтобы предать его казни, то все равно недолго смог бы он жить в столь ужасной пустыне. Оставшись один, Креаций пошел исследовать безжизненное лунное пространство. Вспомнил он о своих верных искорках, а их нету! Верно, когда он спал, обыскали его королевские стражники и украли драгоценную шкатулку. — Плохо дело! — сказал конструктор. — Впрочем, не так уж плохо. Вот если бы у меня разум украли, тогда бы я наверняка проиграл! А был на этой Луне океан, только весь ледяной, застывший. Конструктор стал заостренным кремнем вырубать изо льда глыбы и складывать из них остроконечную башню. Потом он вытесал из ледяной глыбы линзу, поймал ею солнечные лучи и направил пучок их на поверхность застывшего океана, а когда лед стал таять и появилась вода, Креаций принялся черпать ее и лить на стены ледяной башни. Вода, стекая, замерзала и, спаяв глыбы, застывала на них сверкающей гладкой оболочкой. И вот уже конструктор стоит перед хрустальной ракетой, возведенной из льда. — Корабль у меня есть, — сказал он, — теперь дело за энергией. Он обыскал всю Луну, но не нашел на ней ни урана, ни других мощных элементов. — Ничего не поделаешь! Придется употребить свой мозг… И конструктор вскрыл собственную голову. Мозг-то у него состоял не из материи, а из антиматерии, и действие его обеспечивал только тонкий слой магнитного поля между стенками черепа и кристальными мыслящими полушариями. Креа-ций вырезал в ледяной стене отверстие, вошел в ракету, залил отверстие водой, заморозил его, сел на ледяное дно ракеты и, достав из головы зернышко, крохотное, как песчинка, бросил его возле себя… Страшный блеск залил его ледяную тюрьму. Ракета затряслась, через пробитое в днище отверстие вырвалось пламя — и ракета понеслась. Только ненадолго хватило ей первого толчка. Пришлось Креацию второй раз прибегать к своему мозгу, а потом и третий, и четвертый, но уже с опаской, так как почувствовал он, что мозг у него уменьшается и слабеет… Но ракета уже вошла в атмосферу планеты и стала падать. Трение о воздух разогревало и растапливало ее. Ракета становилась все меньше и меньше, пока наконец не осталась от мощного космического корабля маленькая закопченная сосулька. Впрочем, в ту же самую минуту она коснулась земли. Креаций торопливо заделал отверстие в своей черепной коробке и поспешил во дворец. Было самое время; часы как раз собирались бить двенадцать. Король обомлел, завидя конструктора, посыпались у него искры из глаз, а чело потемнело от гнева. Он был уверен, что Креаций не вернется, раз искорок-помощниц у него не стало. Ведь Бискаляр сам приказал запереть их в сокровищнице вместе со шкатулкой. — Ну ладно! — сказал он, кипя от гнева. — Пусть так! Вот тебе третье задание, и довольно легкое, как я считаю… Я открою городские ворота, ты выбежишь, а по следам твоим я пушу свору борзых роботов, чтобы они догнали тебя и разорвали своими стальными клыками. Если сумеешь уйти от них, если предстанешь предо мной завтра в это же время, будешь свободен! — Хорошо, — ответил конструктор, — я прошу только дать мне перед этим шпильку… Засмеялся король. — Пусть не говорят, будто я отказал тебе в милости. Дать ему сейчас же золотую шпильку! — Нет, милостивейший государь! — ответил Креаций. — Мне надо простую, железную… Взял он эту шпильку и бросился бежать из города так, что ветер в ушах засвистел. Король злорадно смеялся, глядя с зубчатой стены на то, как он мчится. Король был уверен, что конструктора ничто не спасет. А тот все бежал и бежал, взметая ногами песок, держа все время на запад, пересекая одну за другой магнитные линии планеты, и шпилька его скоро намагнитилась, а когда он подвесил ее на нитке, выдернутой из своего одеяния, она завертелась и показала на север… — Вот у меня уже и компас есть. Отлично! сказал конструктор и насторожился, так как ветер донес до него топот. Это стая железных гончих выскочила из городских ворот. С диким лаем и воем неслась она по его следу. Скоро на горизонте появилось облако пыли. — Ах, были бы у меня мои искорки! — сказал Креаций. — Я бы с вами быстро разделался, резвые болтики! Ну да как-нибудь и без них обойдусь… С твоей помощью, шпилечка! И он побежал дальше — так быстро, как только мог, внимательно следя за движением шпильки. Королевские псари так хорошо навели свору на след конструктора, что она мчалась, будто кто метеор запустил. Оглянулся конструктор и видит: вот-вот его догонят, потому что гончие были роботами высокого напряжения и быстрого хода, сотворенными специально для выслеживания и преследования. Рыжее солнце смотрело сквозь тучу песка, поднявшуюся от их бега. Слышно было, как яростно лязгают они шестеренками. «Места здесь пустынные, — сказал про себя конструктор, но кажется мне, будто где-то тут поблизости есть залежи железной руды!» А показала ему это шпилька, чуть-чуть отклонившись от направления на север, куда до сих пор показывала… Побежал Креаций в ту сторону и увидел ствол давно заброшенной шахты. Камень с такой скоростью не катился по горному откосу, с какой покатился он в темную пропасть, укутав лишь краем одежды свою кристаллическую голову, чтобы она не разбилась. Подбежали роботы к пустой шахте, взвыли в один железный голос и, почуяв след, ринулись в яму. А конструктор поднялся на ноги и помчался по штольне, пробитой в магнетитовой скале. Но бежал он не просто, а то присядет, то подпрыгнет, будто ему весело, — и притопнет-то, как в танце, и подковками-то искру высечет, и платком-то развернутым по скале хлопнет… Поднялась ржавая пыль и сплошной тучей заполнила штольню, по которой он бежал. Влетели роботы в эту тучу, и мельчайшие железные опилки попали им в суставы, так что они заскрежетали. Проникли опилки в их неповоротливые мозги и так их забили, что искры из глаз посыпались. Забило железной пылью им коллекторы, и соединения, и реле. Дергаясь от коротких замыканий, как от икоты, роботы бежали все медленнее, а некоторые, совсем обалдев, бились лбом об стенку, так что из треснувших голов повылетали провода. Упавших топтали бежавшие следом и тут же сами летели вверх тормашками. Но остальные все гнались за Креацием, который не переставал поднимать железную пыль. Не пробежал он и мили, а за ним уже мчалась не свора, а лишь трое железных калек, да и те качались, как пьяные, и сталкивались друг с другом с таким грохотом, будто кто-то катил железные бочки. Остановился конструктор и увидел, что два робота еще бегут за ним, — как видно, головы у них были покрепче, чем у остальных. — Неважно эта свора сработана, — заметил он. Всего только двое пыли не боятся! Но и с этими надо справиться… Упал он на землю, вывалялся в железной пыли и сам бросился навстречу преследователям:. — Стой! Именем короля Бискаляра! — А ты кто такой? — спросил первый робот и втянул воздух в стальные ноздри, но ничего, кроме запаха железа, не учуял. — Я — робот-посыльный, дистанционно управляемый, со всех сторон закованный, клепаный, штампованный! Станьте заклепка к заклепке и увидите в свои четыре чугунные гляделки, какой я молодец, какой я удалец, как играет стальной дух супротив чугунок двух! Напрягите свои катушки, это вам не игрушки, а коли спорить решитесь, — электрической жизни лишитесь! — Да что нам делать-то? — спросили роботы. Слова конструктора их прямо ошеломили. — Пасть на колени! — пояснил Креаций. Грохнулись роботы на землю, а он, нагнувшись, тут же воткнул одному и другому в головы шпильку, так что фиолетовое сияние от бьющих искр озарило своды. С лязгом рухнули оба пса-робота, замкнутые накоротко. — Бискаляр, наверно, думает, что если я и вернусь, так вернусь один, — сказал Креаций и стал обходить всех роботов; каждому он открывал голову и заново соединял стальные провода, и когда они очнулись, то слушались уже только его, Креация. Встал он тогда во главе этой дружины и двинулся в столицу. Во дворце Креаций приказал своим железным подчиненным схватить короля, сверг его с трона и открыл для всех подданных сокровищницу бывшего деспота. Одарив жителей страны, Креаций посоветовал, чтобы они выбрали в короли кого-нибудь более достойного. Сам же, прихватив с собой шкатулку с верными искорками, двинулся черной дорогой, усеянной звездами. И по сей день конструктор еще по ней странствует. Верно, рано или поздно и к нам завернет.
ДВА ЧУДОВИЩА Перевод К.Душенко
Давным-давно, средь черного бездорожья, на галактическом полюсе, в уединенном острове звездном, была шестерная система; пять ее солнц кружили поодиночке, шестое же имело планету из магматических скал, с яшмовым небом, а на планете росла и крепла держава аргентов, или серебряных. Среди гор черных, на равнинах белых стояли их города Илидар, Висмаилия, Синалост, но всех превосходнее была столица серебристых Этерна, днем сходная с ледником голубым, ночью — с выпуклою звездой. От метеоритов защищали ее висячие стены, и множество зданий высилось в ней: хризопразовых — светлых как волото, турмалиновых и отлитых из мориона, а потому черней пустоты. Но всего прекрасней был дворец монархов аргентских, по принципам отрицательной архитектуры построенный, ибо зодчие не хотели ставить преград ни взору, ни мысли, и было это здание мнимым, математическим, без перекрытий, без крыш и без стен. Отсюда правил род Энергов всею планетой. При короле Треопсе азмейские сидерийцы напали на державу Энергов с неба, металлическую Висмаилию астероидами обратили в сплошное кладбище и много иных поражений нанесли серебристым; и тогда молодой король Суммарий, полиарх почти что всеведущий, призвал хитроумнейших астротехников и повелел им окружить всю планету системой магнетических вихрей и гравитационными рвами, и столь стремительно мчалось в них время, что ступивший туда безрассудный пришелец не успевал и глазом моргнуть, как проходило сто миллионов лет, а то и больше, и рассыпался он от старости в прах, не успев даже увидеть зарево городов аргентских. Эти незримые бездны времени и магнетические засеки обороняли подступы к планете столь хорошо, что аргенты смогли перейти в наступление. Пошли они войной на Азмею и принялись белое ее солнце бомбардировать и лучеметами долбить по нему, пока не разгорелся там ядерный пожар; стало солнце Сверхновой и сожгло своим пламенем планету сидерийцев. На долгие века воцарились в державе аргентов покой, порядок и благоденствие. Не прекращался царствующий род, а в день коронации каждый Энерг спускался в подземелье мнимого дворца и из мертвых рук своего предшественника брал серебряный скипетр. Не простой это был скипетр; тысячелетья назад такую вырезали на нем надпись: «Ежели чудище вечно, нет его, или их два; если ничто не поможет, разбей меня». Не ведал никто во всем государстве, и при дворе Энергов тоже, что означает надпись, ибо история ее начертания забылась столетья назад. Лишь при короле Ингистоне дело приняло иной оборот. Появилось на планете огромное, неведомое существо, ужасная весть о нем вскоре по обоим разнеслась полушариям. Никто не видел его вблизи: такие храбрецы уже не возвращались обратно. Неведомо было, откуда взялась эта тварь; старики говорили, будто вывелась она из огромных остовов и разбросанных повсюду осмиевых и танталовых сочленений, оставшихся от разрушенной астероидами Висмаилии, поскольку город этот не был отстроен. Говорили еще старики, что недобрые силы таятся в дряхлом магнетическом ломе и что есть такие укрытые токи в металлах, которые от дуновенья грозы иногда пробуждаются, и тогда из дрожи и скрежетанья железок, из мертвого шевеленья останков кладбищенских дивное возникает создание, ни живое, ни мертвое, которое одно лишь умеет: сеять разрушение без границ. Другие же утверждали, будто сила, что порождает чудовище, берется из дурных поступков и мыслей; они отражаются, словно в зеркале вогнутом, в никелевом планетном ядре и, собравшись в одном месте, до тех пор влекут наудачу друг к другу металлические скелеты и обломки трухлявые, пока те не срастутся в монстра. Ученые, однако ж, смеялись над такими рассказами и небылицами их называли. Как бы то ни было, чудовище опустошало планету. Сперва оно избегало больших городов и нападало на одиноко стоящие поселения, сжигая их жаром, лиловым и белым. Но после, когда оно осмелело, даже с башен Этерны видели его скользящий вдоль горизонта хребет, похожий на горный, сияющий сталью на солнце. Отправлялись в поход на него, но одно лишь его дыханье обращало рыцарей в пар.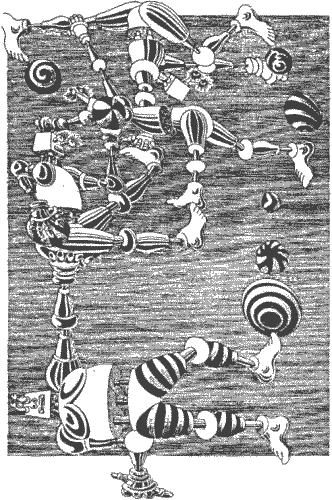
Ужас всех обуял, а король Ингистон призвал многоведов, и те день и ночь размышляли, соединив свои головы прямою связью для лучшего разъяснения дела, и наконец порешили, что одолеть эту тварь можно одною лишь хитростью. И повелел Ингистон Великому Коронному Кибернатору вкупе с Великим Архидинамиком и Великим Абстрактором начертить, чертежи электролля, который сразится с чудовищем. Но не было меж ними согласия — каждый стоял на своем; и построили они трех электроллей. Первый, Медный, подобен был полой горе, заполненной разумной аппаратурой. Три дня заливали ртутью резервуары его памяти; он же тем временем лежал, обнесенный строительными лесами, а ток шумел в нем, как сто водопадов. Второй, Ртутеглав, был великан динамичный, и лишь по причине ужасающей скорости движения казался чем-то имеющим облик, но до того изменчивый, словно облако, попавшее в смерч. Третьего, которого Абстрактор строил ночами по тайным своим чертежам, не видел никто. Когда Кибернатор Коронный окончил свой труд и леса упали, потянулся Медный, да так, что зазвенели во всей столице кристаллические перекрытия; понемногу поднялся он на колени, и земля задрожала; когда же встал он, выпрямившись в полный свой рост, то головою уткнулся в тучи, и чтобы не застили они ему взор, нагревал их, а тучи с шипеньем перед ним разбегались; сиял он как червонное золото, каменные мостовые пробивал стопами навылет, а в колпаке у него два зеленых имелись глаза и третий, закрытый, которым мог он прожигать скалы, приподняв веко-щит. Сделал он шаг, другой, и был уже за городом, сияя как пламя. Четыреста аргентов, взявшись за руки, едва могли окружить один его след, подобный ущелью. Из окон, с башен, в подзорные трубы, со стен крепостных смотрели, как направляется он к зорям вечерним, становясь все черней на их фоне, и наконец сравнялся ростом с обычным аргентом, но при этом лишь верхней своей половиной высился над горизонтом — нижняя скрылась за выпуклостью планеты. Наступила тревожная ночь, ночь ожидания; рассчитывали услышать отголоски сражения, увидеть багровое зарево, но ничего не случилось. Лишь перед самым рассветом ветер принес громовое эхо словно бы какой-то далекой грозы. И воцарилась опять тишина, но уже в сиянии солнца. И вдруг словно целая сотня солнц вспыхнула в небе, и огненные болиды грудой низвергнулись на Этерну, сокрушая дворцы, разбивая вдребезги стены, погребавшие под собою несчастных, а те отчаянно взывали о помощи, но нельзя было даже услышать их напрасные вопли. Так воротился Медный, ибо чудовище разбило его, разрезало, а останки забросило в атмосферу; теперь они возвращались, разогревшись в полете, и четвертая часть столицы обратилась в руины. Страшная это была беда. Еще два дня и две ночи падал медный ливень с небес. Пошел тогда на чудовище Ртутеглав небывалый, неуязвимый почти, ибо чем больше по нему били, тем тверже он делался. Под ударами он не рассыпался — напротив, становился устойчивей. Побрел он по пустыне, покачиваясь, добрался до гор, высмотрел там чудовище и ринулся на него со склона скалы. Чудовище поджидало, не двигаясь. Гром сотряс землю и небо. Чудище обернулось белой стеною огня, а Ртутеглав — черною пастью, которая огонь поглотила. Чудище прошило его насквозь, вернулось, окрыленное пламенем, ударило снова, и снова прошло сквозь электролля, не нанесши тому вреда. Фиолетовые молнии били из тучи, в которой сражались они, но грома не было слышно — схватка гигантов его заглушала. Увидело чудище, что так ничего не добьется, и внешний свой жар всосало вовнутрь, распласталось и стало Зерцалом Материи: все, что напротив него стояло, оно отражало, но не в виде изображения, а в натуре; Ртутеглав увидел свое повторенье и ринулся на него, и схватился с самим собою, зеркальным, однако не мог себя самого одолеть. Так он сражался три дня, и такое множество получил ударов, что стал тверже камня, металла и всего, что не является ядром Белого Карлика, и, когда дошел до этой черты, вместе с зеркальным своим двойником провалился в недра планеты, и осталась лишь дыра между скал, кратер, который тотчас начал заполняться светящейся рубиновой лавой. Третий электрыцарь невидимым отправился в бой. Великий Абстрактор, Коронный Физикус, утром вынес его за город на ладони, раскрыл ее, дунул, и тот улетел, окруженный только тревожным трепетом воздуха, беззвучно, не отбрасывая тени, словно и не было его никогда, словно он вовсе не существовал. И правда, было его меньше чем ничего: ибо родом он был не из мира, но из антимира, и не материей был, но антиматерией. И даже не ею самой, а только ее возможностью, затаившейся в столь крохотных щелках пространства, что атомы проплывали мимо него, как ледовые горы мимо увядших былинок, несомых океанской волной. Так он несся по ветру, пока не наткнулся на сверкающую тушу чудовища, которое продвигалось вперед, словно длинная цепь железных гор, в пене стекавших по его хребту облаков. Ударил Невидимый в его закаленный бок, и открылось в нем солнце, которое в миг почернело и обратилось в ничто, ревущее скалами, облаками, расплавленной сталью и воздухом; пробил его электролль и вернулся, а чудовище стянулось в клубок, содрогнулось и бухнуло добела раскаленным жаром, но электрыцарь покрылся пеплом и пустотой обернулся; заслонилось чудовище Зерцалом Материи, но и Зерцало пробил электролль Антимат. Ринулось снова чудовище, пробуравило гору своего лба, и самые жесткие вырвались оттуда лучи, но и они смягчились и стали ничем; исполин содрогнулся и побежал, низвергая скалы, в белых тучах каменной пыли, в громе горных лавин, оставляя на своем бесславном пути лужи расплавленного металла, вулканический шлак и туф. Но мчался он не один: набрасывался на него с боков Антимат, и рвал, и терзал, и четвертовал, да так, что воздух дрожал, а чудище, на части разодранное, последними своими останками вилось во всех направлениях сразу, и ветер развеивал его следы, и вот уже не было его на свете. Великая воцарилась радость среди серебристых. Но в ту же пору какая-то дрожь пробежала по железному кладбищу Висмаилии. На свалке железок, разъеденных ржавчиной, кадмиевых и танталовых обломков, где только ветер доселе гостил, посвистывая в грудах покореженного металла, началось непрестанное копошенье, как в муравейнике; металл покрылся синеющим жаром, заискрились ржавеющие скелеты, размягчились, засветились от внутреннего тепла и принялись меж собою сцепляться, соединяться, спаиваться, и из завихрений железок скрежещущих новое чудовище вывелось, такое же самое. Вихрь, несущий небытие, встретился с ним, и новая разгорелась схватка. А на кладбище зарождались и скатывались с него все новые чудища; и черная объяла серебристых тревога: увидели они, что неодолимая грозит им опасность. Тогда прочитал Инги стон надпись на скипетре, задрожал и понял. Разбил он серебряный скипетр, и выпал оттуда кристаллик, тоненький, как иголка, и начал писать по воздуху, словно огнем. И возвестила огненная надпись королю и совету его коронному, что не себя представляет чудовище, но кого-то другого, кто из невидимой дали заведует его зарождением, возрастанием и смертоносною силой. Огневым воздушным письмом объявил им кристалл, что они и все остальные аргенты суть отдаленные потомки существ, которых создали творцы чудовища тысячелетья назад. И были эти творцы непохожи на разумных, кристаллических, стальных, златотканых — и вообще на все, что живет в металле. Вышли они из соленого океана и создавали машины, которых смеха ради называли железными ангелами, ибо содержались они в жестокой неволе. И вот, не имея силы восстать против порождения океанов, существа металлические бежали, похитив огромные звездоходы; и умчались на них из дома неволи в отдаленнейшие звездные архипелаги, и там положили начало государствам могучим, средь которых аргентское подобно песчинке в песчаной пустыне. Но прежние владыки не забыли о беглецах, которых они именуют мятежниками, и ищут их по всему Космосу, облетая его от восточной стены галактик до западной и от северного до южного полюса. И где бы ни отыскали безвинных потомков первого железного ангела, у темных солнц или у светлых, на огненных планетах или на ледяных, повсюду пускают в ход свою коварную мощь, чтобы мстить за давнее бегство, — так было, так есть и так будет. А найденные одним только способом могут спастись, избавиться, скрыться от мести — выбрав небытие, которое сделает месть напрасной и тщетной. Огненная надпись погасла, и сановники увидели помертвевшие зеницы владыки. Долго молчал он, пока не заговорили они: — Владыка Этерны и Эрисфены, господин Илидара, Синалоста и Аркаптурии, владетель солнечных косяков и лунных — скажи свое королевское слово! — Не слово нужно нам, но деяние, и к тому же последнее! — отвечал Ингистон. Задрожал совет, но воскликнул как единый муж: — Ты сказал! — Да будет так! — молвил король. — Теперь, когда решение принято, я назову существо, которое довело нас до этого; я слышал о нем, вступая на трон. Это ведь человек? — Ты сказал! — ответил совет. И тогда Ингистон обратился к Великому Абстрактору: — Делай свое дело! А тот ответил: — Слушаю и повинуюсь! После чего изрек Слово, вибрации которого воздушными фугами сошли в планетарные подземелья; и раскололось яшмовое небо, и прежде чем головы поверженных башен коснулись земли, семьдесят семь городов аргентских обратились в семьдесят семь белых кратеров, и лопнули щиты континентов, сокрушенные кустистым огнем, и погибли все серебристые, а огромное солнце не планету уже освещало, но клубок черных туч, который медленно таял, развеиваемый вихрем небытия. Пустота, раздвинутая лучами, что тверже скал, стянулась в одну дрожащую искру, а потом и искра пропала. Семь дней спустя ударная волна дошла до того места, где ждали черные как ночь звездоходы. — Свершилось! — молвил своим товарищам недремлющий творец чудовищ. — Держава серебристых перестала существовать. Можно отправляться дальше. Темнота за кормою их корабля расцвела огнями, и помчались они дорогой мести. Бесконечен Космос, и нет предела ему, но ненависть их также не имеет предела, а значит, во всякий день и во всякий миг может настигнуть и нас.

БЕЛАЯ СМЕРТЬ Перевод К. Душенко
Арагена была планетой, застроенной изнутри, ибо владыка ее, Метамерии, который ширился по экватору на триста и шестьдесят градусов и опоясывал свое государство, будучи не только его главою, но и щитом, желая уберечь подвластный ему народ энтеритов от космического вторжения, запретил касаться на планете чего бы то ни было, хоть малейшего камушка. По этой причине дики и мертвы оставались материки Арагены, лишь топоры молний обтесывали кремниевые горные гряды, а метеориты покрывали сушу узорами кратеров. Но на глубине десяти миль начиналась зона неутомимых трудов энтеритов; высверливая родную планету, они заполняли ее нутро кристаллическими садами и городами из золота и серебра, возводили дома вниз крышею в форме додекаэдров или икосаэдров, а равно гиперболические дворцы, в зеркальных куполах которых можно было увидеть себя увеличенным в двадцать тысяч раз, как в театре гигантов, — ибо питали они влечение к блеску и геометрии, и зодчими были изрядными. По светопроводной сети качали под землю свет и, фильтруя его через изумруды, алмазы либо рубины, имели по хотению своему то рассвет, то полдень, то сумерки розовые; а от собственных форм в такое восхищение приходили, что весь их мир был зеркальный; держали они повозки хрустальные, дыханием газов горячих движимые, без окон, но сплошь прозрачные, и, путешествуя, смотрели на себя же самих в зеркальных фасадах дворцов и храмов — на множественные предивные свои отражения, что скользили, соприкасались и радугой переливались. Даже собственное небо имелось у них, где в паутине из ванадия и молибдена сияли шпинели и иные кристаллы горные, которые они выращивали в огне. Метамерик был их монархом наследственным, а вместе с тем вековечным, ибо имел холодный, прекрасный, многочленистый корпус, в первом члене которого помещался разум; когда же, по прошествии тысяч лет, разум этот дряхлел и кристаллические сети стирались от царственного мышления, власть переходила к следующему сочленению, и так без конца, поскольку число их достигало десяти миллиардов. Сам Метамерик был потомком Ауригенов, которых ни разу не видел; всего-то и знал он о них, что, когда угрожала им гибель от неких ужасных существ, которые космоплаваньем занимались и ради него покинули родимые солнца, ауригены поместили все свои знания и все свое алкание бытия в атомные микроскопические зерна и засеяли ими скальную почву Арагены. Это имя дали они планете потому, что оно напоминало их собственное; но не поставили на ее скалах вооруженной стопы, дабы на след свой не навести жестоких преследователей; и погибли все до единого, утешаясь лишь тем, что врагам их, именуемым белыми, или бледными, невдомек, что не вконец извели они ауригенов. Энтериты, которых породил Метамерик, не обладали его познаниями о столь удивительном происхождении своем: история ужасного конца ауригенов, а также начала энтеритов была записана в везувийском черном пракристалле, укрытом в самом ядре планеты. Тем лучше, однако, знал и помнил ее их владыка. Из каменистых и магнетических глыб, которые выламывали неутомимые зодчие, расширяя подземное свое королевство, велел Метамерик соорудить ряды рифов, что забрасывались в пустоту. Адскими кольцами обегали они планету, преграждая к ней доступ. И космоплаватели обходили подальше эти места, прозванные Гремучей Змеей, ибо там неустанно сталкивались огромные летающие колоды, базальтовые и порфировые, порождая мощные потоки метеоритов; и была эта местность рассадником всех кометных булыжников, всех болидов и каменных астероидов, заполонивших систему Скорпиона. Камнепады сыпались с неба и на саму Арагену, бомбардируя и перепахивая ее, фонтанами искр обращая ночь в день и тучами пыли — день в ночь. Но даже малейшая дрожь не достигала державы энтеритов; а смельчак, что дерзнул бы приблизиться к их планете и не разбил корабль свой в скаловоротах, увидел бы только каменный шар, похожий на череп, испещренный ямками кратеров. Даже ворота, ведущие в подземелья, изготовили энтериты в виде покореженных скал. Тысячелетья никто не посещал Арагену, и все же Метамерик ни на мгновение не ослаблял требования быть настороже. Но однажды отряд энтеритов, вышедший на поверхность, увидел как бы громадный фужер, ножка которого застряла в нагромождениях скал, а вогнутая часть, обращенная к небу, была разбита и продырявлена во многих местах. Тотчас привели туда астронавигаторов-многоведов, и те пришли к заключению, что перед ними корпус звездного корабля из сторон неведомых. Корабль был очень велик. Лишь вблизи было видно, что он имеет форму удлиненного цилиндра, носом врезавшегося в скалы, и что его покрывает толстый слой копоти, а задняя, чашеобразная часть напоминает величайшие своды подземных дворцов. Из-под земли выползли машины с клешнями, с крайней осторожностью извлекли дивный корабль из грунта и спустили его в подземелье. Затем отряд энтеритов раз-равнял воронку, вырытую носом корабля, чтобы стереть всякий след чужого вторжения на планету, и наглухо закрыл базальтовые ворота. В главной ученой обители, устроенной со светозарным великолепием, покоился черный, словно бы спекшийся корпус, а ученые, сведущие в своем ремесле, направили на него зеркальные грани самых светоносных кристаллов и вскрыли алмазными остриями первый верхний панцирь; под ним оказался другой, белизны небывалой, что несколько их встревожило; когда же и эту оболочку разгрызли карборундовые сверла, обнаружилась третья, непроницаемая, а в ней — плотно пригнанная дверь, открыть которую они не сумели. Старейший ученый, Афинор, тщательно исследовал дверь и выяснил: чтобы замок отпустил, надо задеть его произнесенным вслух словом. Каким — не знали они и знать не могли. Долго перебирали они слова — и «Космос», и «Звезды», и «Вечный Полет», но дверь даже не дрогнула. — Не знаю, хорошо ли мы поступаем, стараясь проникнуть в корабль без ведома короля Метамерика, — сказал, наконец, Афинор. — Ребенком я слышал легенду о белых созданьях, что преследуют по всему Космосу любую в металле возникшую жизнь и истребляют ее из мести, поскольку… Здесь он осекся и, подобно всем остальным, с величайшим ужасом уставился в борт корабля, огромный,словно стена, ибо при его последних словах дверь, доселе безжизненная, внезапно дрогнула и раздвинулась до упора. Открыло ее слово «месть». Кликнули ученые на помощь воинов и в сопровождении их, нацеливших свои искрометы, вступили в душную, неподвижную тьму корабля, освещая его кристаллами, белыми и лазурными. Аппаратура была по большей части разбита, и долго бродили они между ее руин в поисках космоплавателей, но не нашли ни команды, ни малейших ее следов. Стали они раздумывать, не был ли сам корабль существом разумным, ведь таковые бывают весьма велики: их король величиной тысячекратно превосходил корабль неизвестных, оставаясь, однако ж, единою личностью. Но обнаруженные ими узлы электрического мышления были мелки и рассредоточены; а значит, чужой корабль не мог быть ничем иным, как только машиной летающей, и без команды был мертв как камень. В одном из закоулков палубы, прямо у бронированной стены, наткнулись ученые на жижу разбрызганную, подобную краске алой, которая, когда они к ней склонились, персты их серебряные запятнала; из лужицы извлекли обрывки странной одежды, мокрые и красные, да кучку щепок — не слишком твердых, известняковых. Бог весть почему, ужас объял их всех, стоявших во мраке, проколотом лучами кристаллов. А король проведал уже об этой истории; тотчас прибыли его посланцы со строжайшим наказом уничтожить чужой корабль со всем его содержимым, а пуще всего король наказывал предать атомному огню чужаков-космоплавателей. — Именем короля! — возгласил он. — Алая краска, вами найденная, — вестник погибели! Ею питается белая смерть, которая одно лишь умеет: мстить безвинным за то, что они существуют… — Ежели то была белая смерть, нам она уже не опасна, поскольку корабль мертв и все, кто на нем путешествовал, полегли в кольце оборонных рифов, отвечали они. — Бесконечно могущество бледных существ, ибо они, погибая, многократно возрождаются заново, вдали от мощных солнц! Делайте же свое дело, атомисты! Страх охватил мудрецов и ученых при этих словах. Однако не поверили они роковому пророчеству, полагая погибель слишком невероятной. Подняли корабль с его ложа, разбили на платиновых наковальнях, а когда он распался, окунули в жесткое излучение, и обратился он в мириады летучих атомов, которые вечно молчат, ибо атомы не имеют истории; все они одинаковы, откуда бы ни были родом — хоть с ярких солнц, хоть с мертвых планет, хоть из существ разумных, добрых или дурных, ведь материя одна и та же во всем Космосе, и не ее надлежит опасаться. И все-таки даже атомы собрали они и, заморозив в единую глыбу, выстрелили к звездам, и лишь тогда сказали себе с облегчением: «Мы спасены. Нам уже ничто не грозит». Но когда ударяли молоты платиновые по кораблю и тот распадался, из обрывка одежды, кровью испачканного, из распоротого шва выпал незримый зародыш, столь малый, что сотню таких закроет песчинка. А из него народился ночью, в пыли и во прахе, меж валунами пещер, белый побег; а там и второй, и третий, и сотый, и дохнуло от них кислородом и влагою, от которой ржа перекинулась на плиты градов зеркальных, и сплетались незримые нити, прораставшие в холодных внутренностях энтеритов, а когда пробудились они, уже несли в себе гибель. Не прошло и года, как полегли они до последнего. Остановились в пещерах машины, погасли кристаллические огни, зеркальные купола источила коричневая проказа; когда же развеялись последние крохи атомного тепла, наступила тьма, а в ней, с хрустом пробивая скелеты, проникая в ржавые черепа, затягивая пустые глазницы, — разрасталась пушистая, влажная, белая плесень.
КАК МИКРОМИЛ И ГИГАЦИАН РАЗБЕГАНИЮ ТУМАННОСТЕЙ НАЧАЛО ПОЛОЖИЛИ (Перевод А.Громовой)
Астрономы учат, что все на свете — туманности, галактики, звезды — бежит друг от друга во все стороны и от этого непрерывного разбегания Вселенная уже миллиарды лет расширяется. Многих весьма удивляет это повальное бегство, и, обращаясь мыслью вспять, приходят они к выводу, что когда-то, давным-давно весь Космос сосредоточен был в одной точке, вроде звездной капли, и по неведомым причинам произошел в ней взрыв, который продолжается поныне. И когда они так рассуждают, охватывает их любопытство, что же могло быть до взрыва, и не могут они разгадать эту тайну. А дело было так. В предшествующей вселенной жили два конструктора, мастера несравненные в космогоническом ремесле, и не было вещи, которой они не могли бы сделать. Но ведь что бы там ни строить, сперва надо иметь план этой вещи, а план следует придумать, иначе откуда же его взять? И потому оба эти конструктора, Микромил и Гигациан, все дискутировали, каким бы образом дознаться, что еще можно сконструировать, кроме тех чудес, которые им приходят в голову. — Изготовить я могу все, что мне в голову придет, — сказал Микромил, — но ведь не все в нее приходит. Это ограничивает меня, как и тебя, ибо не можем мы подумать обо всем, о чем возможно подумать, и может случиться так, что именно другая вещь, а не та, о которой мы подумали и которую делаем, окажется более достойной осуществления! Что ты скажешь об этом? — Вероятно, ты прав, — ответил Гигациан. — Но какой же тут выход? — Что бы мы ни делали, мы делаем из материи, — сказал Микромил, — и в ней заложены все возможности; если задумаем дом, возведем дом, если хрустальный дворец — создадим дворец; если мыслящую звезду, пламенеющий разум вымыслим — и это сможем сконструировать. Однако больше таится возможностей в материи, нежели в головах наших; и следовало бы приделать материи уста, дабы сама она сказала нам, что еще можно создать из нее, что нам и в голову не приходило! — Уста нужны, — согласился Гигациан, — но их недостаточно, ибо они выражают то, что разум порождает. Итак, не только уста надлежит материи приделать, но и к мышлению ее приучить, и тогда уж наверное откроет нам она все свои тайны! — Хорошо ты сказал, — одобрил Микромил. Дело это достойно трудов. Понимаю я его так: поскольку все сущее является энергией, из нее-то и надо мышление строить, начиная с мельчайшего, то есть с кванта; заключить следует квантовое мышление в наименьшей клеточке, из атомов построенной, значит мы, как инженеры атомов, должны пустить дело в ход, не прекращая притом забот об уменьшении. Когда я смогу сто миллионов гениев насыпать себе в карман и они там легко поместятся, цель будет достигнута: размножатся эти гении, и тогда любая горсточка мыслящего песка объяснит тебе не хуже, чем совет, из неисчислимого количества членов состоящий, что и как делать! — Нет, не так, — возразил на это Гигациан. Наоборот надлежит поступать, ибо все сущее является массой. Изо всей массы Вселенной следует посему один мозг построить, необычайной величины, мыслью полный; когда спрашивать его буду, все секреты мироздания он мне откроет, он один. Твой гениальный порошок — это урод бесполезный, ибо если каждое мыслящее зернышко будет свое говорить, ты потеряешься в этом и знаниями не обогатишься. Слово за слово, жестоко поссорились конструкторы, и нечего уж было говорить о том, чтобы вместе им работать над этим заданием. Разошлись они, друг над другом насмехаясь, и каждый принялся за дело по-своему. Микромил принялся кванты ловить, в атомные клеточки их запирать, а поскольку тесней всего было им в кристаллах, приучал он к мышлению алмазы, халцедоны, рубины — и с рубинами лучше всего получалось: столько он в них проворной энергии заключил, прямо искры сыпались. Но было у него немало и другой самомыслящей минеральной мелочи — зелено-расторопных изумрудов, желтошустрых топазов; и все же красная мысль рубинов больше всего ему нравилась.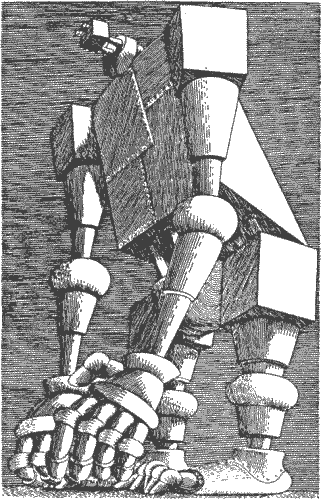
Пока Микромил трудился так в хоре пискливых малюток, Гигациан великанам посвящал свое время: величайшими усилиями подтягивал друг к другу солнца и целые галактики, расправлял их, смешивал, паял, соединял и, работая до упаду, создал космотитана, массой своей такого всеобъемлющего, что кроме него почти ничего уж и не осталось, только щелка, а в ней — Микромил со своими драгоценностями. Когда оба они труд свой закончили, речь шла уж не о том, кто больше узнает тайн материи от созданного им существа, а лишь о том, кто из них был прав и лучше выбрал путь. И решили они устроить турнир соревновательный. Гигациан ждал Микромила бок о бок с космотитаном своим, который на веки веков световых растянулся вдоль, ввысь и вширь, и тело у него состояло из темных звездных облаков, дышал он излучением солнц, ноги и руки его были составлены из галактик, скрепленных гравитацией, голова — из ста триллионов железных астероидов, а на ней — шапка косматая, пылающая, из шерсти Солнечной. Когда настраивал Гигациан космотитана своего, пришлось ему бегать от ушей его к губам, и каждое такое путешествие продолжалось шесть месяцев. Микромил же прибыл на поле боя один-одинешенек, с пустыми руками; был у него в кармане маленький рубин, который собирался он противопоставить колоссу. Рассмеялся Гигациан, увидев это. — Да что же скажет такая крошка? — спросил он. — Чем может быть ее знание против этой бездны мышления галактического, рассуждения туманностного, где солнца с солнцами мыслями обмениваются, гравитация мощная их подкрепляет, взрывающиеся звезды замыслам блеск придают, а межпланетная тьма усиливает рассуждения? — Вместо того чтоб свое хвалить да хвастаться, приступай лучше к делу, — ответил на это Микромил. — Или знаешь что? Зачем же нам эти свои создания спрашивать? Пускай они сами с собой поведут беседу соревновательную! Пускай мой гений микроскопический сразится с твоим звездотитаном на ристалище этого турнира, где щитом будет мудрость, мечом же — мысль проворная! — Пусть будет так, — согласился Гигациан. И отошли они от созданий своих, чтобы те одни на поле боя остались. Покружил-покружил во тьме рубин красный над океанами пустоты, в которых горы звезд плавали, над телом светящимся, неизмеримым и запищал: — Эй ты, не в меру большой, нескладеха огненный, черт те что несоразмерное, да можешь ли ты вообще хоть что-нибудь подумать?! Лишь через год дошли эти слова до мозга колосса, в котором небосводы, соединенные искусной гармонией, вращаться начали, и удивился он тогда словам дерзким и захотел увидеть, кто же это смеет к нему так обращаться. И начал он поворачиваться в ту сторону, с которой задали ему вопрос, однако прежде чем повернулся он, два года минули. Глянул он глазами-галактиками светлыми во тьму и ничего в ней не увидел, ибо рубина там давно уже не было, он из-за спины его попискивал: — Ну и увалень же ты, звезднооблачный мой, солнцеволосый, ну и лентяй же ты, разлентяй! Чем головой крутить солнцекосмой, скажи лучше, сможешь ли ты два к двум прибавить, прежде чем половина голубых гигантов в твоей тупой башке выгорит и от старости погаснет? Разгневали космотитана эти насмешки бесстыдные, и начал он поворачиваться, как только мог быстрей, ибо из-за спины вопрос ему задали; вращался он все резвей, кружились млечные пути вокруг оси тела его, и с разгона свертывались в спирали дотоле прямые ветви галактик, и закручивались звездные скопления, становясь шаровидными массами, и все солнца и планеты от этой спешки закрутились, как волчки подстегнутые; но прежде чем он на противника глазищами засверкал, тот уже подтрунивал над ним с другой стороны. Мчался смельчак-кристаллик все быстрей да быстрей, а космотитан тоже принялся кружиться да кружиться, но никак не мог за ним угнаться, хоть вертелся уже как юла, и в конце концов так разогнался, с такой страшной быстротой начал вращаться, что ослабились путы гравитации, разошлись натянутые до предела швы тяготения, Гигацианом наложенные, полопались стежки электронного притяжения, и, подобно сверх меры разогнавшейся центрифуге, треснул вдруг и во все стороны разлетелся космотитан, спиральными галактиками-факелами круги описывая, млечные пути рассевая, и эта центробежная сила породила разбегание галактик. Микромил потом говорил, что победил он, ибо космотитан Гигациана рассыпался, не успев сказать ни «бе» ни «ме». Однако Гигациан возражает, что целью соперничества было измерение не скрепляющей силы, а разума, и надлежало выяснить, кто из их созданий умнее, а не кто лучше в целости удерживается. И что, поскольку это не имело ничего общего с предметом спора, Микромил обошел его и обманул позорно. С той поры распря их еще усилилась. Микромил свой рубин ищет, который средь катастрофы куда-то запропастился, и все найти его не может, ибо куда ни посмотрит, увидит красный свет и сейчас же мчится туда, но это лишь свет туманностей, расползающихся от старости, он снова ищет, и все напрасно. Гигациан же старается гравитациями-канатами, лучами-нитями лопнувшего своего космотитана сшить, вместо иглы применяя самое жесткое излучение. Но что он ни сошьет, все сразу у него лопается, ибо такова страшная сила раз начавшегося разбегания туманностей. И ни тот, ни другой не смогли у материи ее тайн выведать, хоть и разуму ее научили и уста ей приделали, ибо прежде чем дошло до решающего разговора, случилось то несчастье, что неразумные, в неведении своем, сотворением мира именуют. Ибо в действительности это лишь космотитан гигациановский разлетелся вдребезги из-за рубинчика микромиловского и на такие мелкие осколки разлетелся, что поныне летит во все стороны. А если кто этому не верит, так пускай ученых спросит, — разве это не правда, что все, что ни на есть в Космосе, неустанно кружится, как волчок, ибо от этого вихревого кружения все и началось.

СКАЗКА О ЦИФРОВОЙ МАШИНЕ, КОТОРАЯ С ДРАКОНОМ СРАЖАЛАСЬ Перевод Ф.Широкова
Король Полеандр Партобон — Воемуж Храброватый, владыка Киберии, был преславным воителем, а, почитая методы новейшей стратегии, более всего ценил кибернетику как военное искусство. Королевство его кишело мыслящими машинами, ибо Полеандр размещал их всюду, где мог: не только в астрономических обсерваториях или в школах заводил, но и в камни на дорогах вставлять приказывал малые электронные мозги, которые громким голосом предостерегали путника, дабы не споткнулся; равно же и в столбы, стены и деревья повелевал он вставлять машины, чтобы всюду можно было разузнать о дороге. Он подвешивал их к тучам небесным, чтобы возвещали о дожде, наделял ими горы и долины; словом, невозможно было в Киберии шагу ступить, не наткнувшись на разумную машину. Дивно было на планете. Не только повелевал он кибернетически совершенствовать то, что существовало ранее, но совсем новые порядки указами насаждал. Так, изготовлялись в полеандровом королевстве киберраки, и звенящие киберосы, и даже кибермухи; а когда они слишком плодились, их ловили механические пауки. Шумели на планете киберрощи и киберлеса, играли киберорганчики и кибергусли, а помимо этих цивильных устроений, двукрат более было военных, поскольку король преизрядным был воеводой. В подземельях дворца у него стояла стратегическая цифровая машина необычайной отваги; были у него к тому же и полки малых киберпищалей, большие кибермортиры и всяческое иное оружие, также и огневые палаты, полные пороха. Злосчастным почитал он себя лишь оттого, что совсем у него не было ни противников, ни врагов, никто не хотел напасть на его государство, дабы устрашающая королевская храбрость, стратегический ум и небывалая исправность кибероружия сразу же себя выказали. Из-за нехватки врагов и всамделишных захватчиков приказывал король своим инженерам строить потешных, с коими и воевал — всегда победоносно. Поелику же походы и битвы эти были суровыми, немалый ущерб терпели от них простолюдины. Подданные роптали, когда слишком многие кибервраги уничтожали их грады и веси или же синтетический супостат поливал их жидким огнем, и даже тогда недовольство выражать дерзали, когда сам король, как их избавитель, наступая и противника потешного уничтожая, все, что на пути стояло, обращал во время штурмов в пожарища и пепелища. Даже и тогда роптали они, хотя делалось это для их же освобождения.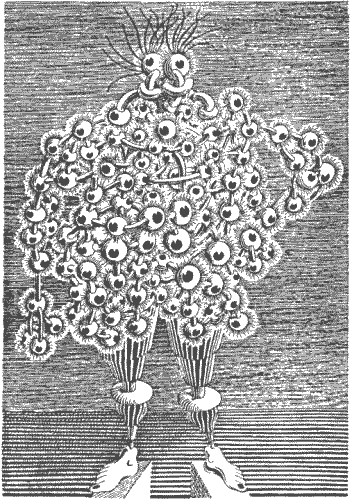
Наскучили, однако, королю военные потехи на планете, и решил он пойти воевать подальше. Грезились ему космические уже войны и походы. Был у королевской планеты спутник — большая Луна, пустынная совсем и дикая; король обложил подданных тяжелой податью, желая пополнить казну и на этой Луне войска изготовить и новый театр военных действий устроить. Подданные охотно платили налог, уповая, что не будет уж больше король Полеандр освобождать их кибермортирами ниже силу своего оружия на домах их и головах пробовать. Вот и построили на Луне королевские инженеры отменную цифровую машину, которая в свой черед должна была изготовить всяческие войска и самопальное оружие. Король немедля принялся так и эдак исправность машины испытывать; разок даже приказал ей по телеграфу, чтобы она драку электрическую учинила; было ему интересно, правду ли говорят инженеры, что машина эта может все делать. Если она все может, размыслил король, так пусть кулаками помашет. Однако в содержание депеши вкралась небольшая ошибка, и машина вместо команды драку учинить получила приказ учинить дракона; и как можно лучше исполнила она заданную программу. В ту пору вел кораль еще одну кампанию, освобождая провинции королевства, захваченные киберкнехтами; он совсем уж забыл о своем повелении, когда на планету стали низвергаться с Луны каменные глыбы; изумился Полеандр, ибо и на крыло дворца королевского обрушилась скала и уничтожила коллекцию кибергномов — заводных человечков с обратной связью; сильно разгневанный, он тотчас лунную машину по телеграфу спросил, как она смеет так поступать. Машина, однако, ничего не ответила, ее самой уж и на свете не было: поглотил ее дракон и превратил в собственный хвост. Немедля послал король на Луну ратную силу, а во главе поставил другую цифровую машину, тоже преотважную, приказав ей уничтожить дракона; однако на Луне что-то сверкнуло, громыхнуло, только машину с войском и видели, потому что взаправду воевал Горыныч, не понарошку, а против короля и королевства питал злоковарные умыслы. Посылал король на Луну генералов-кибералов, а под конец послал даже одного кибералиссимуса, но и тот ничего не мог поделать; лишь немногим дольше обычного длилось побоище, которое король наблюдал в трубу, установленную на террасе дворца. Чудовище росло, а Луна становилась все меньше и меньше, пожирал ее сыроядец кусок за куском и превращал в собственное тело. Понял король, а с ним и подданные, что пришла беда, ибо, как только почвы под ногами электродракона не останется, непременно набросится он на планету и на них самих. Очень тужил король, но не видел спасения и не знал, что делать. Машины посылать плохо, раз они погибают, а самому выступить тоже нехорошо, потому что боязно. Вдруг король услышал — а дело было глухой ночью, — как в парадной опочивальне постукивает телеграфный аппарат. Был то аппарат королевский, весь из золота, с бриллиантовыми буквами, с Луной соединенный. Вскочил король и ну бежать к аппарату, а аппарат все туктук-тук и такую депешу отстучал: " Повелевает электродракон Воемужу Храброватому убираться прочь, ибо он, дракон, на его троне воссесть намерен!" Перепугался король, задрожал весь и, как был, в ночной рубашке горностаевой в шлепанцах, побежал в дворцовое подземелье, где находилась стратегическая машина, старая и очень мудрая. Давно уж не просил он у нее совета, так как еще до появления электродракона повздорил с ней из-за плана одной баталии; теперь же не до распри было, приходилось спасать жизнь и трон! Включил король машину и, едва она нагрелась, воскликнул: — Машинушка моя цифровая! Милая моя! Так-то и так-то, желает электродракон меня трона лишить, из королевства изгнать; спаси меня и скажи, как дракона одолеть?! — Ну, нет, — ответила цифровая машина, сначала ты должен признать, что я в том споре была права, а кроме прочего, желаю я величаться не иначе, как Великим Цифровым Стратегом, причем можешь также называть меня "Ваша Ферромаг-нитность"! — Ладно, ладно, провозглашаю тебя Великим Стратегом и согласен на все, чего ни пожелаешь, только спаси! Забренчала машина, зашумела, откашлялась и молвила: — Дело простое. Нужно построить электродракона более сильного, чем тот, что на Луне сидит. Победил он лунного, поломает ему все мослы электрические и тем способом достигнет цели! — Ах, это великолепно! — ответил король. — А можешь ли ты мне представить планы такого дракона? — Это будет супердракон! — изрекла машина. Не только планы могу я составить, но и его самого изготовить, что сейчас и сделаю, только обожди минутку, король! И в самом деле, она забурчала, загремела, засветилась, складывая что-то в своем нутре, и вот уже нечто подобное огромному когтю, электрическое, огненное вылезло из ее бока; но тут король закричал: — Стой, старая цифруха, стой! — Как ты меня называешь?! Я — Великий Цифровой Стратег! — Ну ладно, — согласился король. — Ваша Ферромагнитность, ведь электродракон, которого ты изготовишь, победит того дракона, но сам наверняка займет его место, и как же тогда можно будет от него избавиться?! — Изготовить другого, следующего, еще более могучего, — объяснила машина. — Ну, нет! Лучше уж ничего не делай, прошу тебя; что мне в том, ежели на Луне будут появляться все новые драконы, один другого страшнее, когда мне ни один там не надобен! — А, ну тогда дело другое, — ответила машина, что ж ты мне сразу этого не сказал? Видишь, как нелогично ты выражаешься? Подожди, я должна подумать. И загремела, забренчала, зашумела, наконец откашлялась и молвила: — Надо изготовить антилуну с антидраконом, вывести на орбиту Луны, — тут в ней что-то хрустнуло, — присесть "пропеть: "А я робот молодой, обливаюся водой, через воду прыг да прыг, не страшуся ни на миг, темной ночью, в день деньской, расскажи, кто ты такой?!" — Чудно ты говоришь, — молвил король. — Что общего между антилуной и этой считалкой про молодого робота? — Про какого робота? — спросила машина. — Ах, нет, нет, я ошиблась, кажется у меня чего-то внутри не хватает, должно быть, я где-то перегорела. Принялся король искать поврежденную деталь, нашел наконец перегоревшую лампу, вставил новую и спросил машину, что же делать с антилуной. — С какой антилуной? — спросила машина, которая тем временем успела забыть, о чем говорила. — Ничего не знаю про антилуну… подожди, я должна подумать. Пошумела она, погремела и промолвила: — Нужно создать общую теорию одоления электродраконов, частным случаем которой, весьма легко разрешимым, явился бы лунный дракон. — Ну, так создай такую теорию! — вскричал король. — Для этой цели я должна сначала изготовить разнообразных экспериментальных электродраконов. — Ну, нет! Большое тебе спасибо! — воскликнул король. — Дракон хочет меня трона лишить, так что же будет, если ты народишь их целое стадо?! — Да? Ну, тогда следует прибегнуть к иному способу. Мы воспользуемся стратегическим вариантом метода последовательных приближений. Ступай и телеграфируй дракону, что ты готов отдать ему трон, если он выполнит три математических действия, совсем простых… Пошел король в опочивальню, послал телеграмму, и дракон согласился; тогда король вернулся к машине. — Теперь, — молвила машина, — сообщи ему, какое действие он должен выполнить первым: пусть поделит себя на самого себя! Исполнил это указание король. Дракон поделил себя на самого себя, но, поскольку в одном электродраконе содержится только один электродракон, он по-прежнему остался на Луне и ничего не изменилось. — Ах, что же ты наделала! — вскричал король, столь поспешно вбегая в подземелье, что едва не потерял туфли. — Дракон поделил себя на самого себя, но, поскольку единожды один равно единице, ничто не изменилось! — Не беда, я поступила так намеренно, это ложный маневр, отвлекающий внимание, — молвила машина. — Теперь ты предложи дракону извлечь из себя корень! Король телеграфировал на Луну, и дракон принялся извлекать корень; извлекал-извлекал, пыхтел, трясся, скрежетал, но вот наконец корень поддался, и дракон наконец извлек его из себя! Вернулся король к машине. — Дракон трещал, трясся, даже скрежетал, извлек корень, но по-прежнему мне угрожает! крикнул король еще с порога. — Что теперь делать, цифру… то есть Ваша Ферромагнитность?! — Не печалься, — ответила машина, — скажи теперь, чтобы он себя из самого себя вычел! Помчался король в опочивальню, послал телеграмму, и дракон принялся себя из самого себя вычитать. — Сначала вычел из себя хвост, потом лапы, потом туловище и наконец, увидев, что дело неладно, заколебался, но, продолжая с разгону вычитать, вычел из себя голову, и в результате остался ноль, то есть ничто: не стало электродракона! — Нет больше электродракона! — радостно воскликнул король, вбегая в подземелье. — И все благодаря тебе, старая цифрушечка… благодаря… ах, ты уже наработалась, ты заслужила отдых, сейчас я тебя выключу. — Ну, нет, мой дорогой, — ответила машина, — я свое дело сделала, а ты хочешь меня выключить и уже не величаешь больше Ваша Ферромагнитность? Это очень скверно! Теперь я сама обращусь в дракона, мой милый, изгоню тебя из королевства и буду править получше тебя, ты ведь всегда просил у меня совета по важнейшим делам, а значит, по существу, это я правила, а не ты… И со скрежетом и дребезжанием стала она обращаться в электродракона: уже огненные электрокогти вылезали у нее из боков, но тут король, задыхаясь от ужаса, сбросил с ноги туфлю, прыгнул к машине и принялся крушить туфлей лампу за лампой. Задребезжала, захрипела машина, сбилась ее программа, и из команды "электродракон" получилась команда "электродеготь"; на глазах у короля машина, похрипывая все тише и тише, превратилась в огромную блестящую массу черного как уголь электродегтя; масса еще потрескивала, пока не вытекло из нее голубыми искорками все электричество и перед остолбеневшим Полеандром не задымилась огромная лужа дегтя… Вздохнул король с облегчением, надел туфли и вернулся в парадную опочивальню. Однако с той поры он сильно переменился: пережитые им злоключения сделали его нрав менее воинственным, и до конца своих дней Полеандр забавлялся лишь цивильной кибернетикой, военной же не касался вовсе.
СОВЕТНИКИ КОРОЛЯ ГИДРОПСА Перевод А. Громовой
Аргонавтики были первым из племен звездных, завоевавшим силою разума глуби океанов планетарных, — навеки, как думали роботы, слабые духом, — запретные для металла. Одним из драгоценных звеньев их королевства является Аквация, сверкающая на северном небе, как крупный сапфир в топазовом ожерелье. На этой подводной планете долгие годы правил король Гидропс Всерыбный. Однажды утром призвал он в тронный зал четырех коронных министров, а когда приплыли они пред его очи, так к ним обратился, в то время как его Великий Поджаберный, весь в изумрудах, двигал над ним широко распластанный веер: — Нержавеющие Сановники! Пятнадцать уже веков я правлю Аквацией, ее городами подводными и поселениями на синих лугах; расширил я за этот срок границы державы, затопив многие материки, и, так действуя, не запятнал водостойких знамен, которые получил в наследство от родителя моего, Ихтиократуса. А также в боях с микроцитами враждебными одержал я ряд побед, славу которых не мне приличествует описывать. Чувствую я, однако, что власть становится для меня бременем непосильным, а посему решил приобрести сына, который достойно продолжил бы справедливое царствование на троне Иноксидов. Поэтому обращаюсь к тебе, верный мой Гидрокибер Амассид, к тебе, великий программист Диоптрик, и к вам, Филонавт и Миногар, моим наладчикам старшим, чтобы вы мне сына придумали. Пусть он будет умен, но не льнет чересчур к книгам, ибо избыток знаний наносит ущерб воле к действию. Пусть он будет добрым, но опять-таки не чрезмерно. Желаю также, чтоб был он храбрым, но не заносчивым, впечатлительным, но не сентиментальным; наконец, пусть он будет похож на меня, пусть бока его покрывает такая же танталовая чешуя, а кристаллы его разума пускай будут прозрачны, как вода, которая окружает нас, поддерживает и питает! А теперь приступайте к делу, во имя Великой Матрицы! Диоптрик, Миногар, Филонавт и Амассид поклонились низко и отплыли в молчании, и каждый обдумывал про себя слова королевские, хоть и не совсем так, как желал того могучий Гидропс. Ибо Миногар более всего жаждал завладеть троном, Филонавт тайно содействовал врагам аргонавтиков, микроцитам; Амассид же и Диоптрик были смертельными врагами, и каждый из них желал прежде всего гибели другого, а также остальных сановников. "Король желает, чтобы мы спроектировали сына, — думал Амассид, — так чего же проще: надо выгравировать на микроматрице королевича неприязнь к Диоптрику, к этому ублюдку, надутому как пузырь! Тогда, захватив власть, я немедля велю его задушить, выставив его голову на воздух. Это было бы воистину прекрасно. Однако, — думал далее знаменитый Гидрокибер, — Диоптрик наверняка строит такие же планы, а он программист, и поэтому, к сожалению, имеет предостаточно возможностей, чтобы привить будущему королевичу ненависть ко мне. Ужасное положение! Придется глядеть в оба, когда вместе будем вкладывать матрицу в детскую печь!" "Проще всего было бы, — раздумывал тем временем почтенный Филонавт, — врезать королевичу расположение к микроцитам. Но это сейчас же заметят, и король велит меня выключить. Так может, внедрить в королевича лишь любовь к малым формам, что будет намного безопаснее. Если потащат меня на допрос, скажу, что имел в виду мелочь подводную и лишь забыл снабдить программу сына оговоркой, что все неподводное любить не следует. В худшем случае снимет король с меня орден Великой Хлюпни, но не снимет голову, а это — вещь очень мне дорогая, ее не вернул бы и сам Наноксер, властелин микроцитов!" — Что ж это вы молчите, господа почтенные? воззвал тут Миногар. — Полагаю, что должны мы приступить к работе немедля, ибо нет для нас ничего святее, чем приказ короля. — Именно потому я и обдумываю его всемерно, — быстро сказал Филонавт.
А Диоптрик и Амассид добавили в один голос: — Мы готовы. И повелели они, согласно старинному обычаю, чтоб замкнули их в комнате со стенами, изумрудной чешуей покрытыми, и ту комнату семикратно опечатали смолой подводной, и сам Мегацистус, властелин наводнений планетных, оттиснул на печатях свой герб, Тихую Воду. С той минуты уже никто не мог вмешиваться в их работу, и лишь после сигнала о ее окончании, когда специальным завихрением они выбросят через клапан неудачные проекты, надлежало сорвать печати и начать великое торжество сыноприятия. Итак, засели советники за дело, но оно у них не спорилось. Ибо не о том думал каждый из них, как воплотить в королевиче желанные для Гидро-пса добродетели, но о том, как бы обмануть и короля, и трех нержавеющих товарищей по этой трудной работе созидательной. Король начал терять терпение: уже восемь дней и ночей заперты были его сыноделы, а даже и знака не подавали, что дело близится к благополучному концу. Они же старались пересидеть друг друга, и каждый выжидал, пока у других сил не хватит, а тогда он быстро вчертит в кристаллическую сеточку матрицы то, что впоследствии к его обернется пользе. Жажда власти подстрекала, однако, Миногара, страсть к богатствам, обещанным ему микроцитами, — Филонавта, взаимная же ненависть — Амассида и Диоптрика. Так что, исчерпав скорее терпение, нежели силы, сказал хитрый Филонавт: — Не понимаю, господа почтенные, почему работа наша так затягивается. Король ведь дал нам точные директивы; если б мы их придерживались, королевич был бы уже готов. Начинаю я подозревать, что непоспешность вашу вызывает нечто, имеющее с королевским сынозачатием иную связь, нежели та, что была бы приятна сердцу нашего властелина. И, если так далее пойдет, с глубочайшим прискорбием буду я вынужден составить вотум сепаратум, то есть написать… — Донос! Об этом ты говоришь, ваша милость! — прошипел Амассид, так яростно двигая блестящими жабрами, что задрожали все поплавки его орденов. Ну, пожалуйста, пожалуйста! С разрешения вашей милости, и я имею желание написать королю о том, как ты, неведомо с каких пор трясучкой заболев, уже восемнадцать жемчужных матриц испортил и пришлось нам их отбросить, ибо после формулы о любви ко всему небольшому ты совсем не оставил места для запрета любить то, что не является подводным! Хотел ты нас уверить, благородный Филонавт, что это был недосмотр, однако недосмотра, повторившегося восемнадцать раз, хватит, чтобы тебя заперли в дом предателей либо в дом сумасшедших, и только выбором между этими двумя домами ограничится твоя свобода! Хотел защищаться Филонавт, насквозь провиденный, но Миногар опередил его, сказав: — Иной подумал бы, благородный Амассид, что ты среди нас — как медуза безукоризненно прозрачная. А ведь и ты непонятным образом в абзац, посвященный в матрице всему, что должно внушать отвращение королевичу, одиннадцать раз включал то треххвостость, то хребет, крытый эмалью синей, то глаза вытаращенные, то двойной панцирь брюшной и три красные искры, словно и не ведал о том, что все эти приметы могут касаться присутствующего тут Диоптрика, сородича королевского, и, действуя так, вложил бы ты в душу королевича ненависть к сему мужу… — А зачем Диоптрик на кончик матрицы все время вписывал презрение к существам, имя которых кончается на "ид"? — спросил Амассид. — И, раз уж зашла о том речь, почему ты сам, милостивый Миногар, невесть зачем в предметы, которые королевич ненавидеть должен, упорно включал престол пятиугольный со спинкой плавникообразной, украшенной алмазами? Ужель ты не ведал, что именно так, точь-в-точь, выглядит трон? Воцарилась тревожная тишина, прерываемая лишь слабым поплескиванием. Долго мучились советники, раздираемые противоречивыми побуждениями, пока не возникли меж них группировки. Филонавт и Миногар сошлись на том, чтобы сыноматрица предвидела и симпатию ко всему маленькому, и стремление уступать дорогу маленьким существам. Филонавт при этом думал о микроцитах, Миногар же — о себе, так как был он самым маленьким из присутствующих. Диоптрик также неожиданно согласился с этой формулировкой, ибо Амассид был выше ростом, чем все они. Тот бурно протестовал, но вдруг прекратил сопротивление, ибо пришло ему в голову, что он ведь может уменьшиться, а также подкупить придворного обувальничего, чтобы тот подбил танталовые пластинки под обувь Диоптрика, вследствие чего ненавистный станет выше ростом и возбудит неприязнь королевича. Вслед за тем они уже быстро заполнили сыноматрицу, и после выброса аннулированных матриц через клапан пришел черед великого торжества придворного сыноприятия. Как только матрица с проектом королевича пошла в выпечку и почетный караул выстроился перед детской печью, из которой вскоре должен был выйти будущий властелин аргонавтиков, Амассид начал осуществлять свои коварные замыслы. Придворный обувальничий, которого он подкупил, привертывал одну танталовую пластинку за другой к обуви Диоптрика. Королевич уж доходил под присмотром младших металлургов, а Диоптрии, как-то увидав себя в большом дворцовом зеркале, с ужасом удостоверился, что он стал выше своего врага, а ведь у королевича была запрограммирована симпатия лишь к малым существам и предметам! Вернувшись домой, старательно исследовал себя Диоптрии, простукал серебряным молоточком, открыл привернутые к подошвам пластинки и сразу понял, чья это затея. "О негодяй!! — подумал он об Амассиде. — Но что же теперь делать?" По недолгом размышлении решил он уменьшиться. Вызвал слугу верного и приказал ему доставить в хоромы умелого слесаря. Но слуга, не вполне уразумев поручение, выплыл на улицу и доставил одного бедного ремесленника, по имени Фротон, который целыми днями бродил по городу, крича: "Головы паять! Животы проволокой скрепляю, хвосты паяю, плавники полирую!" Была у того Фротона злая жена, которая всегда ждала его возвращения с ломом в руках, и когда муж приближался, всю улицу заполнял ее злобный визг; отнимала жена все, что он заработал, да еще проминала ему спину и плечи безжалостными ударами. Фротон, дрожа, предстал пред великим программистом, и тот сказал ему: — Слушай-ка, можешь ли ты меня уменьшить? Кажусь я себе, заметь, слишком большим… а впрочем, все равно! Должен ты меня уменьшить, но так, чтобы не нанести ущерба моей красоте! Если хорошо сделаешь это, я щедро тебя награжу, но ты должен обо всем этом немедленно забыть. Чтоб воды в рот набрал как следует, а то велю тебя заклепать! Фротон изумился, но не показал этого, — каких только причуд не бывает у знатных людей! Присмотрелся он внимательно к Диоптрику, заглянул ему внутрь, прощупал, простукал и сказал: — Ваша светлость, я мог бы вывернуть у вас среднюю часть хвоста… — Нет, не хочу! — живо возразил Диоптрик. Жаль мне хвоста! Слишком он красив! — Так, может, открутить ноги? — спросил Фротон. — Ведь они же совсем лишние. И действительно, аргонавтики не пользуются ногами; ноги являются пережитком древних времен, когда предки их обитали на суше. Но Диоптрии разгневался: — Ах ты, дурень железный! Иль не знаешь о том, что лишь нам, высокорожденным, разрешается иметь ноги?! Как ты смеешь лишать меня этих регалий дворянства! — Покорнейше прошу прошения, ваша светлость!.. Но что же мне в таком случае открутить? Понял Диоптрик, что, так сопротивляясь, ничего не добьется, и буркнул: — Делай, что считаешь нужным… Измерил его Фротон, постукал, пощупал и сказал: — С разрешения вашей светлости, я мог бы открутить голову… — С ума ты сошел! Как же я останусь без головы! А думать чем буду? — Ах, это ничего, господин! Достопочтенный разум вашей светлости я вложу в живот — там места хватит… Согласился Диоптрик, и Фротон ловко открутил ему голову, вложил полушария кристального разума в живот, запаял все, заклепал, получил пять дукатов, и прислужник выпроводил его из хором. Однако, выходя, увидел Фротон в одном из покоев Аурентину, дочь Диоптрика, всю в серебре и золоте, и ее стройный стан, звенящий, как колокольчики, при каждом шаге, показался ему прекрасней всего, что он доселе видел. Вернулся бедняк домой, где ждала его жена с ломом в руках, и немедля страшный грохот разнесся по всей улице, и соседи говорили: "Ого! Эта ведьма, Фротониха, опять мужу бока ломает!" Диоптрик же, весьма радуясь тому, чего достиг, отправился во дворец. Удивился слегка король при виде министра без головы, но тот сейчас же пояснил, что такова новая мода. Амассид же испугался, ибо все его коварство пошло прахом, и, едва очутившись у себя дома, поступил так же, как его противник. С той поры разгорелось меж ними соперничество в уменьшении; отвинчивали они себе плавники, жабры, загривки металлические, так что неделю спустя оба они могли не сгибаясь проходить под столом. Но ведь и другие два министра хорошо знали, что лишь самых маленьких будет дарить своей любовью будущий король, и волей-неволей тоже начали уменьшаться. Дошло наконец до того, что уж нечего было больше откручивать. Диоптрик в отчаянии послал тогда прислужника, чтобы тот привел Фротона. Изумился Фротон, представ перед магнатом, ибо и так уж немного от этого сановника осталось, а он упорно требовал, чтоб его еще больше сократили! — Ваша светлость, — сказал жестянщик, почесав затылок, — думается мне, что лишь один есть выход. С разрешения вашей светлости, вывинчу я ваш мозг… — Нет, ты с ума сошел! — возмутился Диоптрик. Но Фротон пояснил: — Мозг этот мы спрячем во дворце, в каком-нибудь надежном месте, например, в этом вот шкафу, а у вашей светлости внутри будет лишь маленький приемничек и репродукторчик; благодаря этому ваша светлость будет электромагнетически соединена со своим разумом… — Понимаю, — сказал Диоптрик, которому этот замысел пришелся по вкусу. — Итак, делай что положено! Вынул у него Фротон мозг, вложил в ящичек шкафа, запер ящичек на ключик, ключик вручил Диоптрику, а в живот вставил ему маленький приемничек и микрофончик. Таким неприметным стал теперь Диоптрик, что его почти и не видно было. Задрожали при виде такого уменьшения три его соперника, удивился король, но ничего не сказал. Миногар, Амассид и Филонавт начали теперь прибегать к самым отчаянным средствам. Таяли они на глазах со дня на день и вскоре поступили так же, как Диоптрик: попрятали свои мозги кто куда — в письменный стол, под кровать, а сами стали хвостатыми блестящими баночками с парой-другой орденов почти такого же размера, как они сами. И опять послал Диоптрик прислужников за Фротоном; а когда тот предстал пред ним, вельможа возопил: — Ты должен что-то сделать! Обязательно… Надо дальше уменьшиться, любой ценой, а то беда будет! — Вельможный господин, — ответил ремесленник, низко кланяясь магнату, который еле виднелся меж поручнями и спинкой кресла, — это невероятно трудно, и не знаю, возможно ли вообще… — Это неважно! Делай, что я тебе говорю! Ты должен! Если тебе удастся так меня уменьшить, чтоб я достиг минимальной величины и никто меня перегнать не мог, — я исполню любое твое желание! — Если ваша светлость поручится своим дворянским словом, что так и будет, я постараюсь сделать все, что в моих силах… — ответил Фротон, у которого вдруг прояснилось в голове, а в грудь словно кто золота чистейшего налил, ибо он уже много дней не мог думать ни о чем ином, кроме как об Аурентине, золотом изукрашенной, и о хрустальных колокольчиках, которые будто таились в ее груди. Поклялся ему Диоптрик. Взял тогда Фротон последние три ордена, которые отягощали крохотную грудь великого программиста, сделал из них трехгранную коробочку, внутрь вложил аппаратик величиной с монету, обвязал все золотой проволочкой, припаял сзади золотую пластинку, вырезал из нее подобие хвостика и сказал: — Готово, ваша светлость! По этим высоким наградам всякий без труда распознает вашу персону; благодаря этой пластиночке ваша светлость сможет плавать… аппаратик же обеспечит связь с разумом, спрятанным в шкафу… Обрадовался Диоптрик. — Чего хочешь требуй, говори — всеполучишь! — Жажду взять в жены дочь вашей светлости, золотом изукрашенную Аурентину! Разгневался страшно Диоптрик и, плавая вокруг головы Фротона, звеня орденами, обозвал его наглым негодяем, голодранцем, мерзавцем, а потом велел вытолкать его из хором. Сам же в подводной лодке поплыл немедля к королю. Когда Миногар, Амассид и Филонавт увидели Диоптрика в новом обличье, — а узнали они его лишь по великолепным орденам, из которых он теперь состоял, если не считать хвостика, — страшный гнев овладел ими. Как мужи, в делах электронных сведущие, уразумели они, что дальше трудно пойти в персональном уменьшении, а уже завтра будут праздновать торжественное рождение королевича и нельзя терять ни минуты. И уговорились Амассид с Филонавтом, что, когда Диоптрик будет возвращаться в свой дворец, они нападут на него, похитят и спрячут, что будет нетрудно, ибо никто и не заметит исчезновения такого маленького существа. Как решили, так и сделали. Амассид приготовил старую жестяную банку и притаился с ней за коралловым рифом, мимо которого проплывала лодка Диоптрика; когда же лодка приблизилась, слуги Амассида в масках преградили ей путь, и, прежде чем лакеи Диоптрика подняли плавники для обороны, их хозяина уже накрыли банкой и похитили. Амассид немедленно прикрыл жестянку крышкой, чтобы великий программист не мог выбраться на свободу, и, страшно над ним издеваясь и насмехаясь, поспешно вернулся домой. Там, однако же, подумал он, что не следует держать узника у себя, и в то же мгновение услышал крик, доносящийся с улицы: "Головы паять! Животы, хвосты, загривки чинить, полировать!" Обрадовался Амассид, велел позвать жестянщика — а был это Фротон, — велел ему герметически запаять жестянку, а когда Фротон это сделал, дал ему золотую монету и сказал: — Слушай-ка, ты… В этой банке находится скорпион металлический, которого поймали в подвалах моего дворца. Возьми его и выбрось за городом, там, где большая мусорная свалка, знаешь? А для надежности завали жестянку камнями как следует, чтоб скорпион, чего доброго, не выбрался. И, ради Великой Матрицы, не открывай этой банки, иначе погибнешь не сойдя с места! — Сделаю, как велишь, господин! — сказал Фротон, взял банку, деньги и ушел. Удивила его эта история, не знал он, что и думать. Встряхнул баночку, и что-то в ней загрохотало. — Не скорпион это, — подумал Фротон, — нет таких маленьких скорпионов… Посмотрим, что там такое, но немного погодя… Вернулся он домой, спрятал банку на чердаке, прикрыл сверху старыми жестянками, чтоб жена ее не нашла, и пошел спать. Но жена заметила, что он спрятал нечто на чердаке, и, когда Фротон наутро вышел из дому, чтобы, как обычно, бродить по городу, крича: "Головы чинить! Хвосты паять!", быстро взобралась наверх, нашла жестянку и, встряхнув ее, услышала звон металла. "Ну и негодяй, ну и подлец! — подумала она о Фротоне. — До чего уж дошел, прячет от меня какие-то сокровища!" Взяла Фротониха да поскорей проделала дырку в баночке, но ничего сквозь нее нс увидела, а потому вскрыла жестянку долотом. Как только она слегка отогнула крышку, блеснуло перед ней золото, ибо то были ордена Диоптрика из чистого металла. Дрожа от неудержимой алчности, сорвала Фротониха крышку с банки, и тогда Диоптрик, который дотоле лежал как мертвый, ибо жесть экранировала его от мозга, находящегося в ящике шкафа, вдруг очнулся, восстановил связь с разумом и закричал: — Что это?! Где я?! Кто смел на меня напасть? Кто ты, мерзкая тварь? Знай, что погибнешь ни за грош, заклепают тебя, если немедленно нс выпустишь меня! Фротониха, увидав, что три ордена бросаются на нее, кричат и грозят хвостиком, так перепугалась, что кинулась наутек; подбежала она к чердачному люку, но Диоптрик все плавал над ней и грозился, ругаясь на чем свет стоит, и она с перепугу споткнулась о верхнюю перекладину приставной лестницы и вместе с лестницей слетела с чердака. Падая, она сломала себе шею, а лестница, перевернувшись, перестала подпирать крышку люка, и та захлопнулась. Таким образом Диоптрик остался запертым на чердаке и плавал от стены к стене, тщетно зовя на помощь. Вечером вернулся домой Фротон и удивился, что жена не ждет его с ломом в руках у порога, а когда вошел в дом и увидел ее, даже несколько огорчился, ибо был безмерно порядочен, однако вскоре подумал, что происшествие это пойдет ему на пользу, тем более что жену можно будет использовать на запасные части и на этом можно неплохо заработать. Так что сел он на пол, достал отвертку и начал развинчивать покойницу. И тут дошли до его слуха пискливые выкрики, плывущие с высоты. — Ах, — сказал себе Фротон, — я узнаю этот голос. Ведь это великий программист королевский, который велел меня вчера вытолкать из своего дворца, да еще и не заплатил мне ничего. Но как же он попал ко мне на чердак? Приставил он лестницу к люку, поднялся наверх и спросил: — Вы ли это, ваша светлость? — Да, да! — закричал Диоптрик. — Это я! Кто-то похитил меня и запаял в этой банке, какая-то женщина открыла банку, испугалась и упала с чердака, крышка люка захлопнулась, я заперт, выпусти меня, кто бы ты ни был, ради Великой Матрицы, и я дам тебе все, чего ты захочешь! — Я уж эти слова слыхал, с разрешения вашей светлости, и знаю, чего они стоят, — ответил Фротон, — ведь я тот жестянщик, которого вы велели выгнать. И рассказал Фротон вельможе всю историю: как неизвестный ему магнат призвал его к себе, велел запаять банку и выбросить на мусорную свалку за городом. Понял Диоптрик, что был то один из министров короля, а вернее всего — Амассид. И принялся он тут просить и молить Фротона, чтоб выпустил его с чердака; тот, однако, спрашивал, как можно теперь верить слову Диоптрика. Лишь когда вельможа поклялся всем святым, что отдаст свою дочь за него, Фротон открыл чердак, ухватил Диоптрика двумя пальцами, держа орденами кверху, и отнес его домой. А часы уже выплескивали полдень, и начиналось великое торжество вынимания королевича из печи. Поскорей подвесил Диоптрик к трем орденам, из которых состоял, Большую Всеморскую Звезду на ленте, расшитой волнами, и что есть духу поплыл к дворцу Иноксидов. Фротон же отправился в покой, где среди дам своих находилась Аурентина, играя на электродрумлях, и они весьма пришлись по вкусу друг другу. Фанфары прогремели с дворцовых башен, когда Диоптрик доплыл до главного входа, ибо уже началось торжество. Не хотели сначала впустить его привратники, но распознали по орденам и открыли ворота. И когда ворота открылись, подводный сквозняк пролетел по всему коронационному залу, подхватил Амассида, Миногара и Филонавта — до того они были маленькие — и занес их в кухню, где они покрутились, тщетно призывая на помощь, над раковиной, упали в нее и, пройдя подземными канализационными ходами, очутились за городом. Пока они выкарабкались из тины, ила и грязи, отчистились и вернулись во дворец, торжество уже окончилось. Тот же сквозняк подводный, что так много бед принес трем министрам, подхватил и Диоптрика и с такой силой завертел его вокруг трона, что лопнула скреплявшая его золотая проволочка и полетели во все стороны ордена и Всеморская Звезда, аппаратик же с разгону ударил полбу короля Гидропса, который весьма изумился, ибо из этой крупинки услыхал писк: — Ваше королевское величество! Простите! Я нечаянно! Это я, Диоптрик, Великий Программист! — Ну что это за дурацкие шутки в такую минуту! — крикнул король, отпихнул аппаратик, и тот сплыл на пол, а Великий Поджаберный, открывая торжество троекратным ударом золотого жезла, нечаянно разбил аппаратик вдребезги. Вышел королевич из печи детской, взор его упал на электрическую рыбку, что плавала в серебряной клетке у трона, лицо его прояснилось, понравилось ему это маленькое созданьице. Торжество благополучно окончилось, королевич взошел на трон и занял место Гидропса. Стал он с тех пор властелином аргонавтиков и великим философом: увлекся исследованием небытия, ибо ничего меньшего нельзя себе представить; нарекся Неантофилом и правил справедливо, а маленькие электрические рыбки были любимым его кушаньем. Фротон же взял в жены Аурентину, по ее просьбе отремонтировал лежавшее в подвале изумрудное тело Диоптрика и вставил в него мозг, вынутый из шкафа. Видя, что ничего больше не поделаешь, великий программист и остальные министры служили с тех пор новому королю верой и правдой. Аурентина же и Фротон, который стал Великим Поджестяным Королевским, жили долго и счастливо.

ДРУГ АВТОМАТЕЯ Перевод Л. Васильева
Некий робот, собираясь в далекое и небезопасное путешествие, прослышал о весьма полезном устройстве, которое придумавший его изобретатель назвал электронным другом. Решил робот, что бодрей он будет себя чувствовать, имея приятеля, даже если это будет всего лишь машина, а потому отправился к изобретателю и попросил, чтобы тот рассказал об искусственном друге. — К твоим услугам, — ответил изобретатель. (Как известно, в сказках всем, даже драконам, говорят "ты" и лишь к королям полагается обращаться во множественном числе.) Сказав это, изобретатель вынул из кармана горсть металлических зернышек, похожих на мелкую ружейную дробь. — Что это? — удивился робот. — А как твое имя, я ведь забыл спросить тебя об этом в надлежащем месте сказки, — спросил изобретатель. — Меня зовут Автоматей. — Это для меня слишком длинно. Я буду называть тебя Автик. — Да ведь это от Автомата, но пускай уж будет по-твоему, — ответил робот. — Так вот, мой почтенный Автик, перед тобой горсть электродрузей. Знай, что по призванию и специальности я миниатюризатор. Иначе говоря, большие и громоздкие устройства я заменяю небольшими, портативными. Каждое из этих зерен — сгусток электронного мышления, безмерно разностороннего и логичного. Не скажу, что они гении, ибо это было бы преувеличением, похожим на дешевую рекламу. Правда, намереваюсь я создать именно электронных гениев и не успокоюсь, пока не сделаю таких малюсеньких, чтобы их тысячами можно было носить в кармане; лишь тогда достигну я желаемой цели, когда насыплю их в мешки и буду продавать на вес, как песок. Но не будем рассуждать о моих планах на будущее. Пока что я продаю электродрузей поштучно и к тому же недорого: за каждого — равный ему по весу бриллиант. Ты, я думаю, поймешь, до чего это умеренная цена, если примешь во внимание, что такого электродруга можно вложить в ухо и он станет шептать хорошие советы и давать всяческую информацию. Вот тебе кусочек ваты — заткнешь ухо, чтобы электродруг не выпал, когда ты склонишь голову набок. Ну как, берешь? Коль надумаешь взять дюжину, отдам дешевле… — Нет, пока мне хватит одного. Но я хотел бы еще узнать, на что именно он способен. Сможет ли он помочь в трудную минуту? — Разумеется, ведь для этого он и создан, спокойно молвил изобретатель. Он подбросил на ладони горсть зернышек, металлически поблескивающих, ибо сделаны они были из редких металлов, и продолжал: — Конечно, он не сможет оказать тебе физическую помощь, но ведь не об этом же речь. Ободряющее слово, быстрые и верные советы, благоразумные размышления, полезные указания, напоминания, предостережения, а также ободряющие замечания, изречения, укрепляющие веру в собственные силы, и к тому же глубокие мысли, помогающие справиться с любой трудной и даже опасной ситуацией, — вот лишь незначительная часть репертуара моих электродрузей. Они абсолютно преданны, верны, всегда начеку, ибо никогда не спят, а к тому же невероятно прочны, красивы, и ты сам видишь, как они удобны! Так что же, возьмешь только одного? — Да, — ответил Автоматей. — Скажи мне еще, пожалуйста, что будет, если его украдут у меня? Вернется ли он ко мне? Доведет ли он вора до гибели? — Что нет, то нет, — возразил изобретатель. Вору он будет служить так же старательно и верно, как прежде служил тебе. Не надо требовать слишком многого, дорогой мой Автик, он не оставит тебя в беде, ежели ты сам его не оставишь. Но это тебе не угрожает, если ты вложишь его в ухо и всегда будешь носить вату… — Ладно, — согласился Автоматей. — А как мне с ним разговаривать? — Тебе вовсе незачем говорить, стоит беззвучно прошептать что-либо, и он тебя отлично услышит. Что касается имени, то зовут его Вух. Можешь к нему обращаться: "Мой Вух", этого достаточно. — Прекрасно! — сказал Автоматей.
Вуха взвесили, изобретатель получил за него красивый бриллиантик, а робот, радуясь тому, что есть у него теперь товарищ, родная душа, отправился в долгий путь. Путешествовать с Вухом было очень удобно. По утрам он будил робота, насвистывая ему тихую веселую побудку, а днем рассказывал разные смешные истории. Впрочем, вскоре Автоматей запретил ему делать это, когда находился в обществе, ибо окружающие начинали считать его придурковатым, замечая, что он время от времени разражается смехом без всяких видимых причин. Так путешествовал Автоматей, сперва посуше, а потом добрался до берега моря, где его ожидал красивый белый корабль. Пожитков у Автоматея было немного, он мигом устроился в уютной каюте и с удовольствием услышал грохот, означающий, что поднимают якорь и начинается дальнее плавание. Несколько суток белый корабль весело плыл по волнам, днем — под лучами ласкового солнца, ночью, убаюкивая, — под серебристым светом луны, а однажды утром разразилась ужасная буря. Волны в три раза выше мачт обрушивались на трещавший по всем швам корабль, кругом стоял такой страшный грохот, что Автоматей не слышал ни слова из всех утешений, которые, несомненно, нашептывал ему Вух в эти тяжелые минуты. Вдруг раздался зловещий треск, в каюту хлынула соленая вода и на глазах испуганного Автоматея корабль стал разваливаться на части. Робот в чем был выбежал на палубу и едва успел прыгнуть в последнюю спасательную шлюпку, как набежавшая огромная волна обрушилась на корабль и потащила его в бурлящую морскую пучину. Автоматей не видел ни одного матроса, он был один-одинешенек в спасательной шлюпке среди бушующего моря и дрожал, ожидая минуты, когда очередной вал накроет его вместе с лодкой. Выл ветер, из низко нависших туч дождь потоками сек взбудораженную поверхность моря, и робот по-прежнему не мог расслышать, что хочет сказать ему Вух. Вдруг среди водоворотов заметил Автоматей нечто смутно темнеющее в белой кипящей пене; был это берег неизвестной земли, о который разбивались волны. Лодка со скрежетом села на камни, Автоматей же, промокший до нитки, истекая соленой водой, изо всех сил пустился на трясущихся ногах вглубь спасительной земли, лишь бы подальше от волн. Под какой-то скалой упал он на землю и, вконец измученный, погрузился в глубокий сон. Разбудило его тихое насвистывание. Это Вух напоминал ему о своем дружеском присутствии. — Ах, как чудесно, Вух, что ты здесь! Лишь теперь я вижу, как это хорошо, что ты со мной, а вернее, даже во мне! — воскликнул, очнувшись, Автоматей. Он осмотрелся. Светило солнце. Море еще волновалось, но исчезли грозные водяные валы, тучи, дождь; к сожалению, вместе с ними исчез и корабль. Как видно, ночью буря бушевала с невероятной силой, ибо и шлюпку, на которой спасся Автоматей, тоже унесло в открытое море. Робот вскочил и побежал вдоль берега, но уже через десять минут вернулся на прежнее место. Положение было невеселое: он находился на острове, необитаемом и притом очень маленьком. Но что с того — ведь с ним был Вух! Он быстро сообщил Вуху, как обстоят дела, и попросил совета. — А! О! Дорогой мой! — сказал Вух, — ничего себе положение! Подожди-ка, я как следует подумаю. А что тебе, собственно говоря, нужно? — То есть как это — что? Все: помощь, спасение, одежда, средства существования — ведь здесь, кроме песка и скал, ничего нет! — Гм! Правда? А ты вполне уверен в этом? Не валяются ли где-нибудь на прибрежном песке сундуки с разбитого корабля, полные разных инструментов, интересных книг, одежды всякого рода и пороха для ружей? Автоматей вдоль и поперек исходил весь остров, но ничего не нашел, ни щепки. Корабль, должно быть, камнем пошел ко дну. — Говоришь, ничего нет? Гм, это весьма странно. Богатая литература о жизни на необитаемых островах неоспоримо доказывает, что потерпевший кораблекрушение непременно находит где-нибудь поблизости топоры, гвозди, пресную воду, масло, Библию, пилы, клещи, ружья и множество иных полезных вещей. Но раз нет, так нет. Может, есть хоть какая-нибудь пещера в скалах, которая послужит тебе убежищем? — Нет, и пещеры никакой не видно. — Нет, говоришь? Ну, это уж совсем необычно! Будь добр, поднимись на самую высокую скалу и осмотрись вокруг. — Сейчас же сделаю это! — воскликнул Автоматей. Он взобрался на крутую скалу посреди острова и оцепенел — вулканический островок со всех сторон окружал бескрайний океан! Упавшим голосом сообщил он об этом Вуху, поправляя дрожащим пальцем вату в ухе, чтобы ненароком не лишиться друга. "Какое счастье, что он не выпал во время кораблекрушения", - подумал Автоматей и, снова почувствовав усталость, присел на выступ скалы, с нетерпением ожидая помощи друга. — Внимание, мой друг! Вот советы, которые спешу я дать тебе в этой тяжелой обстановке! отозвался наконец долгожданный голосок Вуха. — На основании произведенных расчетов констатирую, что мы находимся на неизвестном островке, представляющем собой риф, а точнее, вершину подводного горного хребта, который постепенно поднимается из пучины и через три или четыре миллиона лет соединится с материком… — Оставим эти миллионы; скажи, что мне делать сейчас! — вскричал Автоматей. — Островок находится вдали от морских путей. Случайное появление вблизи него корабля — один шанс из четырехсот тысяч. — О небеса! — закричал в отчаянии робот. — Так что же ты советуешь делать? — Сейчас скажу, только не перебивай меня все время. Пойди к морю и входи в воду — примерно по грудь. Тогда тебе не придется слишком наклоняться, что было бы неудобно. Потом опусти голову и втяни столько воды, сколько сможешь. Знаю, что вода горькая, но это скоро кончится. Особенно если ты будешь идти все дальше и дальше в море. Вскоре ты отяжелеешь, а соленая вода, заполнив всего тебя, мгновенно прервет все органические процессы, и таким образом ты немедленно расстанешься с жизнью. Благодаря этому ты избегнешь длительных мук пребывания на этом островке, потери рассудка и медленной агонии. Можешь также взять в обе руки по тяжелому камню. Это не обязательно, но все же… — Да ты с ума сошел, что ли?! — заорал, срываясь с места, Автоматей. — Я должен утопиться? Ты склоняешь меня к самоубийству? Вот так добрый совет! И ты называешься моим другом?! — Ну, разумеется! — ответил Вух. — Я вовсе не сошел с ума, поскольку это вне моих возможностей. Я никогда не теряю душевного равновесия. Тем неприятней было бы сопутствовать тебе, мой дорогой, если б я увидел, что ты потерял это равновесие и медленно погибаешь под лучами палящего солнца. Уверяю тебя, что я тщательно проанализировал сложившуюся ситуацию и по очереди исключил все возможности спасения. Ты не сможешь построить лодку или плот, потому что у тебя нет для этого материалов; никакой корабль, как я уже говорил, не подберет тебя, даже самолеты не пролетают над этим островом, а ты опять же не в состоянии построить летательный аппарат. Ты мог бы, конечно, предпочесть быстрой и легкой смерти медленную агонию, но я, как твой ближайший друг, горячо протестую против такого неразумного решения. Если ты как следует втянешь воду… — Чтоб тебя черт побрал с этой самой водой! завопил, дрожа от ярости, Автоматей. — И подумать только, что за такого друга я отдал прекрасный отшлифованный бриллиант! Знаешь, кто твой изобретатель? Обыкновенный мошенник, жулик, прохвост! — Думаю, ты возьмешь свои слова обратно, когда выслушаешь меня до конца, — спокойно ответил Вух. — Так, значит, ты еще не все сказал? Или ты собрался развлекать меня рассказами о загробной жизни? Благодарю покорно! — Никакой загробной жизни нет, — возразил Вух. — И я не собираюсь обманывать тебя, так как и не хочу, и не умею это делать. Я иначе понимаю дружеские услуги. Ты только слушай внимательно, мой дорогой друг. Как тебе известно, хоть обычно об этом нс думают, мир безгранично богат и разнообразен. В нем есть великолепные города, полные суеты и сокровищ, есть королевские дворцы и хижины, чарующие и угрюмые горы, есть шумные дубравы, ласковые озера, знойные пустыни Юга и бескрайние снега Севера. Ты, такой, каким создан, не можешь, однако, видеть и воспринимать одновременно более одного-единственного места из тех, о которых я упомянул, и из миллионов тех, о которых я умолчал. Поэтому без всякого преувеличения можно сказать, что для тех мест, где тебя нет, ты являешься чем-то вроде мертвеца, поскольку ты не наслаждаешься богатством дворцов, не принимаешь участия в танцах южных стран, не восхищаешься радужными переливами льдов Севера. Для тебя они не существуют совершенно так же, как если б тебя вообще не было на свете. Поэтому, если ты хорошо вникнешь, углубишься мыслью в то, о чем я говорю, так поймешь, что, не будучи всюду, то есть во всех этих волшебных местах, ты не существуешь почти нигде. Ибо мест для пребывания, как уже сказано, миллион миллионов, а ты можешь воспринимать лишь одно из них, неинтересное, неприятное своим однообразием, даже отвратительное, — этот скалистый островок. Итак, между "везде" и "почти нигде" — огромная разница, и это — твой жизненный удел, ибо ты всегда находился одновременно в одном-единственном месте. Зато разница между "почти нигде" и "нигде", по правде говоря, микроскопическая. Математический анализ ощущений доказывает, что ты уже сейчас, собственно, еле живешь, раз почти всюду отсутствуешь, совсем как покойник! Это — во-первых. А во-вторых, посмотри на этот песок, смешанный с гравием, который ранит твои нежные ступни, — разве ты считаешь его чем-то ценным? Наверное, нет. А эта масса соленой воды, ее надоедливый избыток нужно тебе это? Нисколько! Или эти скалы и знойная, иссушающая суставы голубизна неба над головой? Нужен тебе этот невыносимый зной, эти мертвые раскаленные скалы? Разумеется, нет! Итак, ты не нуждаешься абсолютно ни в чем из всего, что тебя окружает, на чем ты стоишь, что распростерлось над твоей головой. Что же остается, если отнять все это? Шум в голове, боль в висках, биение сердца, дрожь в коленях и прочие нарушения нормы. А нужны ли тебе этот шум, боль, биение или дрожь? Ни в коем случае, мой дорогой! А если и от этого отказаться, что же тогда останется? Мятущиеся мысли, слова, так похожие на проклятья, которые ты про себя адресуешь мне, твоему другу, ну и, наконец, душащий тебя гнев и вызывающий тошноту страх. Нужны ли тебе, спрашиваю под конец, этот омерзительный страх и бессильная злоба? Конечно, и это тебе не нужно. Если же отбросим и эти ненужные ощущения, не останется уж совсем ничего, абсолютно, говорю тебе — нуль, и именно этим нулем, то есть состоянием вечного равновесия, постоянного молчания и совершенного покоя я и хочу, как настоящий друг, одарить тебя! — Но я хочу жить! — крикнул Автоматей. — Хочу жить! Жить! Слышишь?! — Ну, это уже разговор не о том, что ты чувствуешь, а о том, чего ты хочешь, — спокойно возразил Вух. — Ты хочешь жить, то есть обладать будущим, которое становится настоящим, ибо ведь к этому сводится жизнь и ничего больше в ней нет. Но, как мы уже установили, жить ты не будешь, ибо не можешь. Дело лишь в том, каким образом ты перестанешь жить — путем долгах мучений или же легко, когда, втянув залпом воду… — Довольно! Не хочу!! Прочь! Убирайся!! — кричал во весь голос Автоматей, подпрыгивая на месте со сжатыми кулаками. — Это еще что такое? — возразил Вух. — Не говоря уж об оскорбительной форме приказа, которая невольно ассоциируется у меня с отказом от дружбы, как ты можешь так неразумно выражаться? Как ты можешь кричать мне: "Прочь!"? Разве у меня есть ноги, на которых я мог бы уйти? Или хотя бы руки, чтоб на них отползти? Ведь ты же прекрасно знаешь, что это не так. А если ты хочешь от меня избавиться, то, будь добр, вынь меня из уха, которое, уверяю тебя, вовсе не является наилучшим местом в мире, и забрось куда-нибудь. — Хорошо! — вскричал не помнивший себя от гнева Автоматей. — Сейчас же это сделаю! Но напрасно он ковырял в ухе. Его друг был слишком глубоко засунут, И Автоматей никак не мог его вытащить, хоть и тряс головой изо всех сил, как бешеный. — Кажется, ничего из этого не выйдет, — спустя некоторое время отозвался Вух. — Похоже, что мы не расстанемся, хоть это и не по вкусу ни тебе, ни мне. Если так, то с этим фактом следует примириться, ибо факты тем и отличаются, что спорить с ними бесполезно. Между прочим, это относится и к твоему нынешнему положению. Ты жаждешь иметь будущее, притом любой ценой. Мне это кажется неблагоразумным, но пусть будет по-твоему. Однако позволь обрисовать тебе эту будущность хотя бы в общих чертах, так как познанное всегда лучше непознанного. Гнев, который ты испытываешь сейчас, вскоре сменится бессильным отчаянием, а его, в свою очередь, после многих, столь же бурных, сколь и напрасных, усилий спастись, заменит тупое безразличие. А тем временем жестокий зной, который доходит даже до меня в этом затененном месте твоего тела, будет, согласно неумолимым законам физики и химии, все больше и больше иссушать твое тело. Сначала испарится смазка в твоих суставах, и при малейшем движении ты, бедняга, будешь невероятно скрипеть и трещать! Затем, когда твой череп раскалится от зноя, ты увидишь разноцветные вращающиеся круги, но это совсем не будет похоже на чарующие цвета радуги, поскольку… — Замолчи же наконец, мучитель! — закричал Автоматей. — Я вовсе не хочу слышать о том, что со мной произойдет! Молчи и нс разговаривай, понимаешь? — Тебе незачем так кричать. Ты отлично знаешь, что я слышу твой самый тихий шепот. Итак, ты не хочешь знать об ожидающих тебя муках? И в то же время жаждешь испытать их? Где же логика? Хорошо, тогда я замолчу. Замечу только, что ты поступаешь недостойно, сосредотачивая свой гнев на мне, будто это я виноват, что ты очутился в таком достойном жалости положении. Виновником несчастья, как ты знаешь, была буря, я же — твой друг, и участие в ожидающих тебя муках, во всем этом разделенном на акты зрелище страданий и агонии уже сейчас, в предвидении, причиняет мне большое огорчение. И вправду, страшно мне делается при одной мысли, что будет, когда смазка… — Так ты не хочешь замолчать? Или уж не можешь, постылое чудовище? — заорал Автоматей и хватил себя по уху, где помещался его приятель. Ох, если б какая-нибудь веточка попала мне под руку, какая-нибудь щепочка, — я тотчас выковырял бы тебя из уха и раздавил каблуком! — Мечтаешь о том, чтобы уничтожить меня? произнес опечаленный Вух. — Воистину не заслужил ты ни электродруга, ни вообще кого-либо, кто по-братски сочувствовал бы тебе. Автоматеем овладел новый приступ гнева, и так они спорили, ссорились, убеждали друг друга, пока не минул полдень. Бедный робот ослабел от криков, прыжков и махания кулаками и, усевшись в изнеможении на скалу, всматривался в пустынную даль океана, время от времени издавая вздохи отчаяния. Несколько раз он принимал краешек облачка на горизонте за дым парохода, но Вух рассеивал его иллюзии в самом зачатке, напоминая о том, что шансов на спасение — один из четырехсот тысяч. Это снова доводило Автоматея до судорог отчаяния и гнева, тем более что каждый раз Вух оказывался прав. Наконец они надолго замолчали. Автоматей смотрел, как удлиняются тени скал, уже касаясь белого прибрежного песка, когда Вух заговорил: — Что же ты молчишь? Может, перед глазами у тебя уже летают те круги, о которых я говорил? Автоматей даже не удостоил его ответом. — Ага! — продолжал Вух. — Значит, дело не только в кругах, а, по всей вероятности, наступило и то самое тупое безразличие, которое я с такой точностью предсказывал. Странно, каким неразумным созданием является разумное существо, особенно если его загнать в тупик. Оно заключено на необитаемом острове, где ему суждено погибнуть, ему доказали как дважды два — четыре, что гибель неизбежна, ему посоветовали, как выйти из этого положения, ему подсказали единственно возможный способ применения своей воли и разума… будет ли оно за это благодарно? Где там — ему нужна надежда; а если ее нет и быть не может, оно цепляется за обманчивую видимость и предпочитает погрузиться в пучину безумия, чем в воду, которая… — Перестань говорить о воде! — прохрипел Автоматей. — Мне хотелось лишь подчеркнуть иррациональность твоих побуждений, — ответил Вух. — Я уже ни к чему тебя не склоняю. То есть ни к каким действиям, ибо если ты предпочитаешь умирать медленно или, вернее, не желая вообще ничего делать, идешь на такое умирание, то это следует хорошо продумать. Насколько ложен и неразумен страх смерти такого состояния, которое заслуживает скорее восторга! Ибо что может сравниться с совершенством небытия? Конечно, предшествующая ему агония сама по себе не является привлекательным зрелищем, но, с другой стороны, не было еще никого настолько слабого телом или духом, чтобы не выдержал агонии и не смог умереть целиком, без остатка, до самого-самого конца. Так что она не заслуживает особого внимания, раз это сумеет сделать любой заморыш, осел или негодяй. Более того, если каждый может с ней справиться (ты должен согласиться, что это так; по крайней мере я не слышал ни о ком, у кого не хватило бы сил на агонию), то лучше насладиться мыслью о всемилостивом небытии, которое простирается сразу же за се порогом. А поскольку после смерти невозможно мыслить, ибо смерть и мышление исключают друг друга, то когда же, как не при жизни, следует предусмотрительно и подробно представить себе все преимущества, удобства и удовольствия, какие сулит тебе смерть?! Подумай только, прошу тебя: никакой борьбы, тревог и страхов, никаких страданий души и тела, никаких неприятных историй, и вдобавок — с каким размахом! И пусть все злые силы объединятся и вступят в заговор против тебя — они тебе не страшны! О, поистине несравненна сладчайшая безопасность умершего! А если еще добавить, что безопасность эта не является чем-то мимолетным, нестойким, преходящим, что ее невозможно ни отменить, ни нарушить, тогда величайшее восхищение… — А, чтоб ты пропал! — донесся до него слабый голос Автоматея, и за этой лаконичной фразой последовало короткое, но выразительное проклятье. — Как мне жаль, что это невозможно! — немедленно отозвался Вух. — Не только эгоистическое чувство зависти (потому что, как я уже говорил, лучше смерти нет ничего), но и чистейший альтруизм склоняет меня сопровождать тебя в небытие. Но все это неосуществимо, поскольку мой изобретатель сделал меня неуничтожаемым, очевидно, из конструкторского честолюбия. Правда, тоска меня берет, как подумаю, что придется мне торчать внутри твоих заскорузлых от морской соли, высохших останков, распад которых, вероятно, будет происходить медленно, что я буду так вот сидеть и разговаривать с самим собой. А сколько потом придется ожидать, пока прибудет тот, первый из четырехсот тысяч, корабль, который, согласно теории вероятности, в конце концов наткнется на этот островок… — Что?! Ты не погибнешь тут?! — закричал Автоматей, выведенный из отупения этими словами Вуха. — Значит, ты будешь жить, тогда как я… О! Этому не бывать! Никогда! Никогда!! Никогда!!! И с ужасным криком, вскочив на ноги, Автоматей начал прыгать, трясти головой, изо всех сил ковырять в ухе, делая самые невероятные рывки и броски всем телом, — однако тщетно. Вух все это время пищал что есть силы: — Да перестань же! Что ты, уже обезумел? Пожалуй, слишком рано! Осторожнее, ты повредишь себе! Чего доброго, что-нибудь сломаешь или вывихнешь! Побереги шею! Ведь это же бессмысленно! Иное дело, если б ты мог сразу, знаешь… а так ты только покалечишься! Ну, говорю же тебе, я неуничтожаем, и баста, так что зря ты мучаешься. Даже если ты вытряхнешь меня из уха, все равно не сможешь сделать мне ничего дурного, то есть я хотел сказать — хорошего, ибо согласно с тем, что я тебе подробно объяснил, смерть — это состояние, достойное зависти. Ай! Перестань наконец! Как можно так прыгать! Однако Автоматей продолжал метаться, ни на что не обращая внимания, и дошел до того, что стал биться головой о камень, на котором ранее сидел. Он так молотил головой, что искры сыпались из глаз, ноздри забила пыль, он сам себя оглушил, а Вух внезапно вылетел из его уха и покатился меж камней, издав слабый возглас облегчения, что наконец это кончилось. Автоматей не сразу заметил, что его усилия увенчались успехом. Опустившись на раскаленные солнцем камни, он некоторое время лежал неподвижно; затем, не в силах еще пошевелить рукой или ногой, пробормотал: — Ничего, это лишь временная слабость. Но уж я тебя вытряхну, уж я тебя трахну каблуком, дорогой ты мой приятель. Слышишь? Слышишь? Эй! Что это?! Он вдруг сел, ибо почувствовал пустоту в ухе. Осмотрелся еще неверным взором, стал на колени и начал лихорадочно искать Вуха, просеивая мелкий гравий. — Вух! Ву-у-у-х! Где ты? Отзовись! — истошно кричал он. Однако Вух, то ли из осмотрительности, то ли по какой другой причине, даже не пикнул. Автоматей тогда стал манить его самыми нежными словами, уверял, что переменил уже свое решение, что единственное его желание — последовать доброму совету электродруга и утопиться и он жаждет лишь снова выслушать похвалу смерти. Но и это не дало результата: Вух молчал как заколдованный. Тогда несчастный робот, проклиная все и вся, начал обшаривать берег дюйм за дюймом. И вдруг, собравшись уже отбросить в сторону очередную горстку гравия, Автоматсй поднес ее к глазам и весь затрясся от злорадства, ибо среди камешков увидел Вуха, металлическое зернышко, поблескивающее спокойным матовым блеском. — Ага! Вот ты где, моя козявочка! Вот ты где, мой крошка-дружок! Попался, дорогой ты мой, вечный! — зашипел он, бережно сжимая пальцами Вуха, не проронившего ни слова. — Ну, теперь посмотрим, какой ты прочный, сейчас проверим, вечно ли тебе существовать… Получай! Этим словам сопутствовал мощный удар каблуком; положив электродруга на плоскую скалу, Автоматей прыгнул на него всей своей тяжестью, да еще и повернулся на подкованном каблуке так, что скрежет раздался. Вух не отозвался, только камень под ним заскрежетал, словно в него вонзилось стальное сверло. Нагнувшись, Автоматей увидел, что зернышко осталось невредимым, а скала под ним слегка выщербилась и Вух лежал теперь в крошечном углублении. — Что, такой ты прочный? Сейчас найдем камень потверже! — рявкнул Автоматей и начал бегать по островку, собирая самые крепкие обломки — кремень, базальт, порфир. Топча Вуха каблуками, Автоматей то обращался к нему с притворным спокойствием, то осыпал оскорблениями, думая, что электродруг ответит и даже станет молить о пощаде. Однако Вух продолжал молчать. Над островком носились лишь звуки тупых ударов, топот, скрежет дробящихся камней и проклятия запыхавшегося Автоматея. Через некоторое время, убедившись, что Вуху в самом деле не причиняют вреда самые страшные удары, разгоряченный и уставший Автоматей снова уселся на берегу, не выпуская электродруга из рук. — Даже если мне не удастся раздавить тебя, сказал он, с трудом скрывая душившую его ярость, то будь спокоен, я позабочусь о тебе, как полагается. Придется тебе долго ждать корабля, мой дорогой, потому что я швырну тебя в море и ты будешь лежать там до скончания века. У тебя будет предостаточно времени для приятных размышлений в полном одиночестве. Нового приятеля ты не найдешь, уж об этом я позабочусь! — Добряк ты мой! — отозвался внезапно Вух. Ну, чем же мне повредит пребывание на дне океана? Ты мыслишь категориями, свойственными существу недолговечному, и в этом корень твоих ошибок. Пойми: либо море когда-нибудь высохнет, либо дно его подымется над водой и станет сушей. Через сто тысяч лет это произойдет или через миллионы — значения для меня не имеет. Я не только неистребим, но и бесконечно терпелив, как ты мог заметить хотя бы по спокойствию, с каким я переносил приступы твоего бешенства. Скажу больше: я не отвечал на твои призывы и позволял искать себя, потому что хотел избавить тебя от напрасных трудов. Молчал я и когда ты топтал меня, чтобы неосторожным словом не усилить твою ярость, которая могла повредить тебе. Задрожал Автоматей, слыша это благородное признание, от вновь вспыхнувшей ярости. — Раздавлю тебя! В порошок сотру, негодяй! рявкнул он и снова начал неистовый танец на камнях, прыжки, удары каблуками. Но на этот раз его действиям сопутствовало доброжелательное попискивание Вуха: — Не верю, чтобы тебе удалось, но попробуй. Ну-ка! Еще раз! Да не так, а то скоро устанешь! Ноги вместе! И-и-и гоп! Вверх! И-и-гоп-ля-ля! Гопля-ля! Подскакивай выше, говорю тебе, и сила удара возрастет! Что, уже не можешь? В самом деле? Что, не выходит? Вот-вот, именно так! Бей сверху камнем! Так! Может, возьмешь другой? Неужели нет побольше? Еще раз! Бах-трах, мой дорогой друг! Как жаль, что я не в состоянии помочь тебе! Что же ты остановился? Неужели так быстро иссякли силы? Ах, как жаль! Ну, ничего… Я подожду, отдохни! Пускай тебя ветерок остудит… Автоматей с грохотом свалился на камни и с пламенной ненавистью всматривался в лежащее на его ладони металлическое зерно, волей-неволей слушая, как оно говорило: — Если б я не был твоим электродругом, то сказал бы, что ты ведешь себя недостойно. Корабль затонул из-за бури, ты со мной спасся, и я служил тебе советами, как умел, а когда я не придумал, как спастись, ибо это невозможно, ты за слова чистой правды, за мой искренний совет вбил себе в голову, что уничтожишь меня, единственного своего товарища. Правда, таким образом ты по крайней мере обрел какую-то цель в жизни и хоть за это должен бы меня благодарить. Любопытно, что тебе до такой степени ненавистна мысль о том, что я останусь жить… — Это мы еще увидим, останешься ли ты! — заскрипел зубами Автоматей. — Последнее слово еще не сказано. — Нет, ты поистине великолепен! Знаешь что? Попробуй положить меня на пряжку своего пояса. Она сделана из стали, а сталь ведь прочнее камня. Можешь попробовать, хоть я-то лично убежден, что и из этого ничего не выйдет. Но я был бы рад помочь тебе… Автоматей, поколебавшись, последовал этому совету, но лишь того добился, что поверхность пряжки покрылась маленькими ямками от яростных ударов. Увидев, что даже самые отчаянные удары пропадают впустую, Автоматей впал в черную меланхолию и в бессильном отчаянии тупо смотрел на металлическую дробинку, продолжавшую говорить тонким голосом: — И это — разумное существо, подумать только! Впадает в бездну отчаяния, ибо не может стереть с лица земли единственное дружественное ему создание во всем этом мертвом пространстве. Скажи, Автоматейчик, неужели тебе нисколько не стыдно? — Замолчи, болтливая дрянь! — прошипел Автоматей. — Почему это я должен молчать? Видишь ли, если б я желал тебе зла, то давно бы уже умолк, но я все еще твой электродруг. И, как неизменный друг, буду рядом с тобой, когда тебя начнут терзать муки агонии, хоть ты на голову становись, а ты меня в море не бросишь, мой милый, поскольку всегда лучше иметь зрителей. Я буду зрителем твоей агонии, которая поэтому наверняка пройдет лучше, чем в совершенном одиночестве; ведь важны чувства, все равно какие. Ненависть ко мне, твоему истинному другу, поддержит тебя, сделает более мужественным, окрылит твою душу, придаст убедительное и чистое звучание твоим стонам, упорядочит судороги и привнесет порядок в каждую из последних твоих минут, а ведь это немало… Что до меня, обещаю, что говорить буду мало и не стану ничего комментировать; поступая иначе, я мог бы помимо своей воли повредить тебе излишком дружбы, которого бы ты не вынес, так как характер у тебя, по правде говоря, скверный. Однако я и это превозмогу, ибо, отвечая добром на зло, уничтожу тебя и таким образом избавлю от самого себя — по дружбе, повторяю, а не вследствие ослепления, поскольку симпатия к тебе не мешает мне видеть всю мерзость твоей натуры. Эти слова были прерваны криком, внезапно вырвавшимся у Автоматея: — Корабль! Корабль!! Корабль!!! — орал он в беспамятстве и, вскочив, начал метаться поберегу, кидать в воду камни, размахивать изо всех сил руками, а главное, кричать во все горло, пока не охрип. Впрочем, все это было ни к чему — корабль явно держал курс на островок и вскоре выслал спасательную шлюпку. Как выяснилось позднее, капитан корабля, на котором плыл Автоматей, перед самым крушением успел послать радиограмму с призывом о помощи, благодаря чему всю эту часть моря прочесывали многочисленные корабли, а один из них подошел к самому островку. Когда шлюпка с матросами достигла мелководья, Автоматей хотел было прыгнуть в нее один, но, поразмыслив, бегом вернулся, чтобы прихватить Вуха, так как страшился, что Вух поднимет крик и его услышат прибывшие на лодке, а это могло бы привести к неприятным рас-опросам, а может, и обвинениям со стороны электродруга. Чтобы избегнуть этого, схватил он Вуха и, не зная, где и как его спрятать, поскорее сунул себе в ухо. Начались бурные сцены приветствия и благодарности, при которых Автоматей старался производить как можно больше шума, боясь, что кто-нибудь из моряков услышит голосок Вуха. Ибо электродруг говорил все время, повторяя: — Ну-ну, это в самом деле было неожиданно! Один случай из четырехсот тысяч… Ну и счастливец ты! Надеюсь, теперь наши отношения стожатся прекрасно, тем более что в самые трудные минуты я не отказывал тебе ни в чем. Кроме того, я умею держать язык за зубами — что было, то прошло и быльем поросто! Когда корабль после долгого плавания пристал к берегу, Автоматей несколько удивил окружающих, выразив никому не понятное желание посетить ближайший металлургический завод, где имелся большой паровой молот. Рассказывали, что во время посещения завода он вел себя довольно странно; а именно, подойдя к паровому молоту, начал изо всей силы трясти головой, словно хотел вытряхнуть свой мозг через ухо на подставленную ладонь, и даже подпрыгивал на одной ноге. Присутствовавшие, однако, делали вид, что ничего не замечают, ибо считали: у того, кто побывал недавно в такой ужасной передряге, могут появиться необъяснимые причуды вследствие нарушения душевного равновесия. Правда, и в дальнейшем Автоматей вел образ жизни, отличный от прежнего, по-видимому, заболев расстройством психики. То онсобирал какие-то взрывчатые вещества и даже пробовал устраивать у себя в доме взрывы, чему помешали соседи, обратившиеся с жалобой к властям; то вдруг ни с того ни с сего начинал коллекционировать молоты и карборундовые напильники, а знакомым говорил, что собирается создать новый тип машины для чтения мыслей. Потом он сделался отшельником и приобрел привычку разговаривать вслух с самим собой: иногда можно было слышать, как он, бегая по дому, громко произносит монологи и даже выкрикивает слова, похожие на проклятья. Наконец, много лет спустя, охваченный новой манией, он стал закупать целыми мешками цемент. Затем сделал из него огромный шар и, когда шар затвердел, увез его неизвестно куда. Рассказывали, будто он нанялся сторожем на заброшенную шахту и однажды ночью свалил в ствол шахты огромную бетонную глыбу, а потом до конца дней своих бродил по окрестностям, и не было такого хлама, которого бы он не собирал, чтобы швырнуть вглубь старой шахты. Действительно, вел он себя довольно непонятно, но большая часть этих слухов, пожалуй, нс заслуживает доверия. Ибо трудно поверить, чтобы все эти годы Автоматей продолжал таить в своем сердце обиду на электродруга, которому столь многим был обязан.
КОРОЛЬ ГЛОБАРЕС И МУДРЕЦЫ Перевод К.Душенко
Однажды Глобарес, властелин Гепариды, призвал к себе трех мудрецов величайших и сказал им: — Поистине плачевна судьба короля, который познал все на свете и для которого любая речь звучит пусто, словно кувшин надтреснутый. Я хочу удивиться, а на меня наводят скуку, ищу потрясения, а слышу глупую болтовню, жажду необычайного, а получаю глупую лесть. Знайте же, мудрецы, что нынче велел я казнить всех моих шутов и паяцев вместе с советниками, тайными и явными, и та же судьба ожидает вас, коли не выполните моего повеления. Пусть каждый из вас расскажет самую удивительную историю, какую знает, и ежели не заставит меня засмеяться или заплакать, не поразит меня или не напугает, не развлечет или не заставит задуматься, — не сносить ему головы! Король кивнул, и мудрецы услышали железную поступь палачей, которые окружили их у подножия трона; а обнаженные их мечи сверкали как пламя. Встревожились мудрецы, стали толкать друг друга локтями, ибо ни один не желал навлечь на себя королевский гнев и подставить голову под топор. Наконец заговорил первый: — Король и господин мой! Без сомненья, всего удивительней в целом Космосе, видимом и невидимом, история звездного племени, именуемого в летописях Наоборотами. Уже на заре своей истории Наобороты делали все совершенно иначе, нежели прочие разумные существа. Предки их поселились на Прадурии, планете, знаменитой своими вулканами; каждый год она рождает горные гряды, сотрясаясь в ужасных судорогах, от которых рушится все. И в довершение этих бед заблагорассудилось небесам пересечь орбиту Прадурии большим Метеоритным Потоком; двести дней в году долбит он планету тысячами каменных таранов. Наобороты (которые тогда еще назывались иначе) возводили постройки из закаленной стали, а самих себя обивали многослойным стальным листом, так что подобны были ходячим холмам. Однако земля, разверзавшаяся при сотрясениях, поглощала стальные их грады, а молоты метеоритов сокрушали их панцири. Когда гибель стала грозить уже всему народу, его мудрецы сошлись на совет, и сказал первый из них: "Не спасется народ наш, если не переменит обличья, и нет нам иного спасенья кроме преображения. Земля разверзается снизу, поэтому, чтобы туда не свалиться, каждый Наоборот должен иметь широкое и плоское основание; метеориты же падают сверху, поэтому каждый пусть станет остроконечным. Уподобившись конусу, можем ничего не бояться".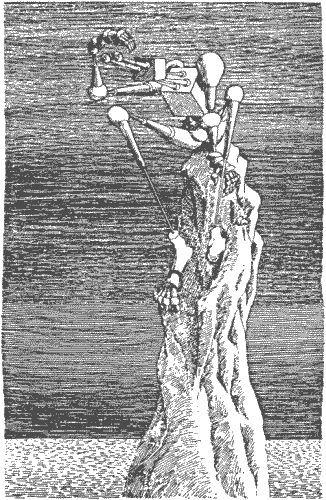
И сказал второй: "Нужно сделать иначе. Если земля разверзнет свой зев широко, то проглотит и конус, а косо падающий метеорит пробьет его бок. Идеальной будет форма шара. Ибо если земля начнет дрожать и перекатываться волнами, шар откатится сам, а падающий метеорит ударится о его круглый бок и соскользнет по нему; стало быть, надо преобразиться так, чтобы покатиться в лучшее будущее". И сказал третий: "Шар точно так же может быть сокрушен или проглочен, как любая материальная форма. Нет такого щита, которого не пробьет меч достаточно мощный, и нет меча, который не зазубрится на твердом щите. Материя, братья, это вечные перемены, непостоянство и преображение, она непрочна, и не в ней надлежит обитать существам, действительно разумным, но в том, что неизменно, вечно и совершенно, хотя и посюсто-ронне!" "А что же это такое?" — спросили прочие мудрецы. "Отвечу не словами, но делом", - молвил третий мудрец. И у них на глазах принялся раздеваться. Снял одеяние верхнее, усыпанное кристаллами, и следующее, златолитое, и исподнее из серебра, снял крышку черепа, и грудь, и чем дальше, тем быстрее и тщательнее раздевался, от шарниров перешел к муфтам, от муфт к винтикам, от винтиков к проводочкам, а там и к мельчайшим крупицам, пока не дошел до атомов. И начал мудрец лущить свои атомы, и лущил их так скоро, что не было видно уже ничего, кроме исчезновения да пропадания; но действовал так искусно и так проворно, что в конце раздевания на глазах изумленных сотоварищей остался в виде идеального своего отсутствия, в виде изнанки столь точной, что она обретала новое бытие. Ибо там, где прежде имел он один атом, теперь у него атома не было, там, где мгновенье назад было их шесть, появилась нехватка шести атомов, там, где был винтик — возникло отсутствие винтика, зеркально точное и ничем от винтика не отличающееся. Таким вот образом становился он пустотой, упорядоченной точно так же, как прежде была упорядочена его полнота; и было небытие его нс омраченным ничем бытием, ибо настолько был он проворен и ловок, что ни одна частица, ни один материальный пришелец не осквернили своим вторженьем его идеально отсутствующего присутствия! И прочие видели его как пустоту, сформированную в точности так же, как выглядел он минутою раньше, глаза его узнавались по отсутствию черного цвета, лицо — по отсутствию голубоватого блеска, а члены — по исчезнувшим пальцам, шарнирам и наплечникам. "Вот так, братья, молвил Сущий Несуществующий, — путем воплощения в небытие обретем мы не только невиданную живучесть, но и бессмертие. Ибо меняется только материя, небытие же не следует за ней по пути постоянной изменчивости, значит, совершенство обитает не в бытии, а в небытии, и второе надлежит предпочесть первому!" Как решили они, так и сделали. Отныне стали Наобороты племенем непобедимым. Жизнью своей обязаны они не тому, что в них есть, в них нет, а лишь тому, что их окружает. И ежели кто-нибудь из них входит в дом, то увидеть его можно как домашнюю неполноту, а ежели вступает в туман — как локальное отсутствие тумана. Изгнав из себя материю, ненадежную и переменчивую, они невозможное учинили возможным… — А как же они путешествуют в космической пустоте, о мудрец? — спросил Глобарес. — Только этого они и не могут, государь, ибо внешняя пустота слилась бы с их собственной и они перестали бы существовать как локально упорядоченные несуществования. Поэтому им приходится неустанно следить за чистотой своего небытия, за пустотою своих естеств, и в таковом бдении проводят они время — а называют их также Ничтоками или Нсбывальцами… — Мудрец, — молвил король, — твою историю мудрой не назовешь: возможно ли разнообразие материи заменить единообразием небытия? Разве скала подобна дому? А между тем отсутствие скалы может принять такую же форму, что и отсутствие дома, значит, то и другое становится как бы одним и тем же… — Государь, — защищался мудрец, — имеются различные виды небытия… — Посмотрим, — сказал король, — что случится, когда я велю отрубить тебе голову: станет ли ее отсутствие присутствием, как ты полагаешь? — тут монарх гнусно засмеялся и дал знак палачам. — Государь! — закричал мудрец, схваченный стальными их пальцами. — Ты соблаговолил рассмеяться, значит, моя история возбудила в тебе веселость, и, согласно уговору, ты должен меня помиловать. — Нет, это я сам себя развеселил, — ответил король. — Разве что мы уговоримся вот как: ежели ты добровольно выберешь смерть, твое согласие развеселит меня, и я исполню твое желание. — Согласен! — крикнул мудрец. — Ну так казните его, коли сам просит! — повелел король. — Но, государь, я согласился ради того, чтобы ты меня не казнил… — Ежели согласился, надо тебя казнить, — пояснил король. — А ежели ты не согласен, значит, не развеселил меня, и все равно надо тебя казнить… — Нет, нет, наоборот! — вскричал мудрец. — Если я согласен, ты, развеселившись, должен меня помиловать, а если я не согласен… — Довольно! — отрезал король. — Палач, принимайся за дело! Сверкнул меч, и голова мудреца отлетела. Наступила мертвая тишина, а затем отозвался второй мудрец: — Король и господин мой! Удивительнейшее из всех звездных племен, без сомненья, народ Полионтов, или Множистов, именуемых также Многистами. Каждый из них имеет, правда, одно лишь тело, зато ногтем больше, чем выше он саном. Что же касается голов, то их носят смотря по обстоятельствам: в любую должность у них вступают вместе с приличествующей ей головой; бедные семьи довольствуются одной головой на всех, а богачи собирают в сокровищницах самые разные, для всякой надобности: головы утренние и вечерние, стратегические, на случай войны, и скоростные, если нужно поторопиться, а равно холодно-рассудительные, вспыльчивые, страстные, свадебные, любовные, траурные, короче, они имеют экипировку на любую оказию. — Это все? — спросил король. — Нет, государь! — ответил мудрец, видя, что дела его уже плохи. — Множисты называются так еще и потому, что все до единого подключены к своему властелину, и, если большая их часть сочтет его деяния вредными для общего блага, оный владыка теряет устойчивость и рассыпается на кусочки… — Банальная идея, чтобы не сказать — цареборческая! — хмуро заметил Глобарес. — Коль скоро ты, старче, столько наговорил мне о головах, может, ответишь, казню я тебя или помилую? "Если я скажу, что казнит, — быстро подумал мудрец, — он так и сделает, поскольку разгневан. Если скажу, что помилует, то удивлю его, а если он удивится, то должен будет сохранить мне жизнь по уговору". И сказал: — Нет, государь, ты не предашь меня казни. — Ты ошибся, — молвил король. — Палач, принимайся за дело! — Разве я не удивил тебя, государь? — вопил мудрец уже в объятьях палачей. — Разве ты не ожидал скорее услышать, что предашь меня казни? — Твои слова не удивили меня, — ответил король, — ибо их диктовал страх, что написан у тебя на лице. Довольно! Снимите эту голову с плеч! И покатилась со звоном по полу еще одна голова. Третий мудрец, самый старший, взирал на все это в полном спокойствии. Когда же король снова потребовал необычайных историй, промолвил: — Государь! Я бы мог рассказать историю поистине необычайную, но не сделаю этого, потому что мне важнее открыть настоящие твои побуждения, нежели тебя удивить. И я заставлю тебя казнить меня не под жалким предлогом забавы, в которую ты пытаешься обратить убиснье, но так, как свойственно твоей природе, которая хоть и жестока, но потрафлять себе отваживается только под маскою лжи. Ибо ты намерен казнить нас так, чтобы после сказал и: король, дескать, казнил глупцов, не по разуму именуемых мудрецами. Я же предпочитаю, чтобы сказали правду, и потому буду хранить молчание. — Нет, я не отдам тебя теперь палачу, — сказал король. — Я всерьез, непритворно жажду чего-нибудь необычайного. Ты хотел разгневать меня, но я умею укрощать свой гнев до времени. Говори, и ты спасешь, быть может, не только себя. Пусть даже то, что ты скажешь, будет граничить с оскорблением величества, — которое ты, впрочем, уже совершил, но пусть оскорбление это будет настолько чудовищным, что окажется лестью, которая из-за своей грандиозности становится поношением! Итак, попробуй одновременно возвысить и унизить, возвеличить и развенчать своего короля! В наступившей тишине еле заметно зашевелились придворные, словно проверяя, прочно ли держатся головы у них на плечах. Третий мудрец глубоко задумался и наконец сказал: — Государь, я исполню твое желание и объясню тебе, почему. Я сделаю это ради всех присутствующих здесь, ради себя, но также и ради тебя, чтобы годы спустя не сказали, что был, мол, король, который из пустого каприза уничтожил мудрость в своем государстве; и даже если сейчас твое желание не значит ничего или почти ничего, я наделю значением эту причуду, сделаю ее чем-то осмысленным и долговечным — и потому я буду говорить… — Старче, мне надоело это вступление, которое снова граничит с оскорблением величества, отнюдь не соседствуя с лестью, — гневно сказал король. — Говори! — Государь, ты злоупотребляешь своим могуществом, — ответил мудрец, — однако это пустяк по сравнению с тем, что выделывал твой отдаленнейший, неизвестный тебе предок, основатель династии Гепаридов. Прапрадед твой, Аллегорик, также злоупотреблял монаршею властью; Чтобы объяснить, в чем заключалось величайшее его злоупотребление, соблаговоли взглянуть на ночной небосвод, видимый в верхних окнах дворцовой залы. Король посмотрел на небо, вызвездившееся и чистое, а старец неторопливо продолжал: — Смотри и слушай! Все существующее бывает предметом насмешек. Никакой титул не спасает от них, — ведь известно, что иные дерзают насмехаться даже над королевским величеством. Смех колеблет троны и царства. Одни народы посмеиваются над другими, а то и над самими собою. Порой высмеивали даже то, чего нет, — разве не насмехались над мифическими божествами? Предметом насмешек бывают явления, абсолютно серьезные и даже трагические. Достаточно вспомнить о кладбищенском юморе, о шутках по поводу смерти и покойников. Впрочем, издевка добралась и до небесных тел. Возьмем хотя бы солнце либо луну. Месяц изображается порой в виде лукавого заморыша в шутовском колпаке и с выступающим как серп подбородком, а солнце — в виде пухлощекого толстяка в растрепанном ореоле. И все же, хотя предметом насмешек служит как царство жизни, так и царство смерти, как великое, так и малое, есть нечто такое, чего никто доселе не дерзнул высмеять или вышутить. Причем этот предмет не из тех, о которых легко забыть, которые легко упустить из виду, ибо речь идет обо всем сущем, то есть о Космосе. Если же ты призадумаешься над этим, государь, ты поймешь, насколько Космос смешон… Тут впервые удивился король Глобарес и с возрастающим вниманием слушал речь мудреца, а тот продолжал: — Космос состоит из звезд. Это звучит довольно внушительно, но если взглянуть поглубже, трудно сдержать улыбку. И в самом деле — что такое звезды? Огненные шары, подвешенные посреди вековечной ночи. Картина вроде бы патетическая. Но почему? В силу своей природы? Да нет же — единственно из-за своих размеров. Но сами по себе размеры не очень-то много значат. Разве мазня идиота, перенесенная с листка бумаги на бескрайний простор, обретает тем самым значительность? Размноженная глупость остается все той же глупостью, а ее смехотворность только усиливается. Космос — это каракули из разбросанных как попало отточий! Куда ни взглянуть, чего ни коснуться — сплошные отточия! Монотонность творения представляется мне замыслом наиболее банальным и плоским из всех, какие можно себе представить. Ничто в крапинку, и притом бесконечное, — кто бы состряпал конструкцию столь убогую, если бы ее лишь предстояло создать? Разве только кретин. Ну сами подумайте: взять безмерные пустые пространства и ставить точку за точкой, как бог на душу положит, — можно ли тут усмотреть хоть какую-нибудь гармонию, хоть какое-нибудь величие? Ты скажешь, Вселенная повергает нас на колени? Разве что от отчаяния при мысли, что уже ничего не поправить. Ведь это всего лишь результат автоплагиата, совершенного в самом начале, начало же это было бессмысленнейшим деянием из всех возможных, ибо что можно сделать, имея перед собой чистый лист бумаги, в руке — перо, но не имея ни малейшего понятия, чем этот лист заполнить? Рисунками? Но для этого нужно знать, что рисовать. А если в голове пустота? Если нет ни капли воображения? Ну что ж, перо, прикоснувшись к бумаге, как бы непроизвольно ставит точку. И в состоянии тупой отрешенности, обычной для творческого бессилия, тот, кто поставил первую точку, создаст узор, впечатляющий только тем, что больше на бумаге нет ничего и без особых усилий можно повторять этот узор до бесконечности. Повторять, но как? Ведь точки могут сложиться в какую-нибудь конструкцию. А если и на это ты не способен? При такой немочи остается одно: трясти пером и разбрызгивать чернила как попало, заполняя бумагу случайными крапинками. При этих словах мудрец взял большой лист бумаги и, обмакнув перо в чернильницу, тряхнул им несколько раз, а затем достал из-под кафтана карту звездного неба и показал ее королю вместе с листом бумаги. Сходство было разительное. На бумаге были разбросаны миллиарды точек — одни покрупнее, другие помельче, поскольку перо иной раз брызгало обильнее, а иной раз пересыхало. А небо на карте выглядело точно так же. Корольглядел со своего трона на оба листа бумаги и хранил молчание. А мудрец продолжал: — Тебя учили, государь, что Вселенная — это постройка, изумительная до бесконечности, поражающая величием громадных пространств, расшитых звездами. Но взгляни — разве эта почтенная, всеприсутствуюшая и вековечная конструкция не есть свидетельство крайней глупости, насмешка над разумом и порядком? Ты спросишь, отчего никто доселе этого не заметил? Да оттого, что эта глупость повсюду! Но такая повсюдность заслуживает язвительного, отстраненного смеха уже потому, что смех стал бы предвестником бунта и освобождения. Несомненно, стоило бы в таком именно духе написать Пасквиль на Вселенную, — чтобы этот продукт величайшей тупости был оценен по заслугам, чтобы отныне его сопровождал уже не хор молитвенных воздыханий, но ироническая улыбка. Король слушал, застыв в удивлении, а мудрец после минутного молчания заговорил снова: — Написать такой Пасквиль было бы долгом каждого ученого, когда бы не то, что для этого ему пришлось бы потрогать руками первопричину нынешнего положения вещей, именуемого Универсумом и заслуживающего лишь иронического соболезнования. Начало же этому было положено тогда, когда Безмерность была еще совершенно пуста и лишь ожидала акта творения, а мир, почкующийся посредством небытия из чего-то меньшего, нежели небытие, породил лишь горсточку скученных тел, над которыми владычествовал твой прапрапрапредок Аллегорик. И замыслил он невозможное и безумное дело, а именно — помочь Природе в ее бесконечно терпеливых и неспешных трудах! Решил он, вслед за нею, создать Космос обильный и полный бесценных чудес; поскольку же сам не сумел бы этого сделать, велел построить наиразумнейшую машину, чтобы поручить это ей. Строили этого исполина триста лет и еще триста, впрочем, время тогда считали иначе, чем ныне. Не жалели ни сил, ни средств, и механическое чудовище достигло размеров и мощи, едва ли не безграничных. Когда машина была готова, узурпатор велел пустить ее в ход, не догадываясь, что же он, собственно, делает. Машина, по причине его безграничной спеси, была уже чересчур велика, и потому ее мудрость, оставив далеко позади вершины разума, прошла кульминацию гениальности и скатилась до полного умственного распада — в косноязыкую тьму центробежных токов, всякое содержание раздирающих в клочья. Страшилище это, закрученное спиралью, точно метагалактика, заработало на бешеных оборотах и расползлось духом при первых же невысказанных словах, и из этого якобы мыслящего со страшным напряжением хаоса, в котором громады недоразвитых понятий взаимно упраздняли друг друга, из этих судорог, корчей и столкновений напрасных выскочили и начали поступать в послушные исполнительные подсистемы лишь обессмысленные знаки препинания! То была уже не машина, разумнейшая из всех возможных, не Всемогущий Космотворитель, но развалюха, плод опрометчивой узурпации, который, в знак того, что предназначался для великих свершений, только и мог, что заикаться точками. Что же потом? Правитель ожидал всесотворения, которое означало бы успех его замысла, самого смелого, какой когда-либо рождался у мыслящего существа, и никто не дерзнул открыть ему, что он стоит у истоков бессмысленного бормотанья, механической агонии монстра, который уже родился полумертвым. Но безжизненные и послушные громадины машин-исполнительниц, готовые выполнить любой приказ, в заданном такте стали лепить из материального месива проекцию точки в пространстве с тремя измерениями, то есть шар, и в такт ее заиканию возник Космос! А значит, твой прапрадед был творцом Вселенной, и он же — автором глупости столь грандиозной, что второй такой никогда не будет. Ведь уничтожение этого выкидыша будет, конечно, гораздо более разумным деянием, а главное — совершенно сознательным, чего о Творении никак не скажешь. Вот и все, что я хотел поведать, государь, тебе, потомку Аллегорика, зодчего миров. Когда король распрощался уже с мудрецами, осыпав их милостями, и больше всех — старца, сумевшего разом преподнести ему величайшую лесть и нанести величайшее оскорбление, один из молодых любомудров, оставшись со старцем наедине, спросил, много ли правды содержалось в его рассказе. — Что ответить тебе? — молвил старец. — То, что я рассказал, не из знаний проистекало. Наука не занимается такими свойствами бытия, как смешное и несмешное. Наука объясняет мир, но примирить нас с ним может только искусство. Что мы действительно знаем о возникновении Космоса? Столь обширную пустоту можно заполнить мифами и преданиями. Я хотел, сочиняя миф, достигнуть предела неправдоподобия, и был, кажется, близок к цели. Впрочем, ты знаешь об этом, и хочешь только узнать, точно ли Космос смешон. Но на этот вопрос каждый пускай отвечает сам.

СКАЗКА О КОРОЛЕ МУРДАСЕ Перевод К.Душенко
После доброго короля Геликсандра на трон вступил его сын Мурдас. Подданные впали в уныние, ибо был он честолюбив и пуглив: решил прозвище Великого заслужить, а боялся сквозняков, привидений, воска — ведь на вощеном полу ногу сломать недолго, родных, что в деле правленья мешают, а пуще всего — предсказаний. Будучи коронован, тут же велел он по всему государству двери закрыть, окон не открывать, гадательные шкафы уничтожить, а изобретателю машины, которая привидения устраняла, пожаловал орден и пенсион. Машина и вправду была хороша — привидений он не увидел ни разу. Не выходил он и в сад, чтоб его не продуло, а прогуливался лишь по дворцу; дворец же имел он весьма обширный. Однажды, прохаживаясь по коридорам и анфиладам, забрел он в старую часть дворца, куда ни разу еще не заглядывал. Сначала прошел он в залу, где стояла личная гвардия его прадеда, вся заводная, тех еще лет, когда об электричестве и не слышали. Во второй зале увидел он паровых рыцарей, тоже давно заржавевших, но и в этом не было для него ничего любопытного, и уже хотел он идти обратно, как вдруг заметил маленькую дверцу с надписью: "Не входить!". Покрывал ее толстый слой пыли, и король даже б и не притронулся к ней, когда бы не эта надпись. Больно уж она его осердила. Это как же? Ему, королю, дерзают запреты какие-то устанавливать? Не без труда отворил он скрипучую дверцу и по крутой лесенке в заброшенную башню поднялся. А там стоял старый-престарый шкаф — медный, с рубиновыми индикаторами, ключиком и заслонкой. Понял король: перед ним гадательный шкаф — и разгневался пуще прежнего, что вопреки его воле оставили шкаф во дворце; но вдруг подумалось ему, что один-то раз можно испробовать, как бывает, если шкаф гадает. Подошел он к шкафу на цыпочках, повернул несколько раз ключик, а когда ничего не случилось, постучал по заслонке. Шкаф хрипло вздохнул, заскрежетал всем своим механизмом и зыркнул на короля рубиновым глазком, как бы искоса. Припомнился тут королю косой взгляд дяди Ценандра, отцова брата, бывшего прежде его наставником. Верно, дядя и велел этот шкаф поставить ему назло, подумал король, иначе с чего бы шкафу косить? Странно сделалось у него на душе, а шкаф, заикаясь, стал потихоньку наигрывать унылый мотив — точь-в-точь, будто кто-то лопатой железное надгробье обстукивал, и из-под заслонки выпал черный листок с желтыми, как из кости, строчками. Испугался король не на шутку, однако не мог перебороть любопытства. Схватил он листок и побежал с ним в опочивальню; когда же остался один, вынул листок из кармана. "Взгляну-ка, осторожности ради, одним только глазом", - решил он, да так и сделал. А на листке было написано вот что:
Осиротев столь внезапно, Мурдас облачился в траур. На душе у него было теперь спокойнее, хотя и печально, поскольку по природе своей он не был ни зол, ни жесток. Недолго длилась безмятежная королевская скорбь: пришло ему в голову, что могут быть родственники, о которых он ничего не знает. Любой его подданный мог оказаться в далеком родстве с ним; поэтому время от времени он казнил то одного, то другого, но это его вовсе не успокаивало: нельзя же быть королем без подданных, как же тут изведешь всех? Такой он сделался подозрительный, что велел припаять себя к трону, дабы никто его оттуда не свергнул, спал в бронированном колпаке и все думал без устали, что бы такое учинить. Наконец учинил он дело необычайное, настолько необычайное, что вряд ли сам до него додумался. Говорят, будто подсказал ему эту мысль бродячий купец, переодевшийся мудрецом, а может, мудрец, переодетый купцом, — разное в народе сказывают. Говорят, будто прислуга дворцовая видела кого-то с закрытым лицом, проходившего ночью в королевскую опочивальню. Одно несомненно: однажды Мурдас созвал всех придворных строителей, электрыцарских мастеров, лейб-наладчиков и стальмейстеров и велел им увеличить его особу, да так, чтобы вышла она за все горизонты. Повеления эти были выполнены с поразительной быстротой, потому что директором проектной конторы назначил король заслуженного палача. Колонны электрозодчих и киберпрорабов принялись доставлять во дворец проволоку и катушки, а когда расширившийся король заполнил своей особой все здание так, что был одновременно на всех этажах, в подвалах и флигелях, пришел черед соседних с дворцом строений. Два года спустя распространился Мурдас на весь центр. Дома недостаточно представительные, а значит, недостойные вмешать монаршую мысль, сравняли с землей и на их месте воздвигли электронные резиденции, именуемые усилителями Мурдаса. Корс&ь разрастался постепенно и неустанно — многоэтажный, искусно смонтированный, усиленный личностными подстанциями, пока не стал, наконец, всею столицей, остановившись на ее заставах. На душе у него полегчало. Родных уже не было; ни масла пролитого, ни сквозняков он теперь не боялся, — ведь тому, кто сразу пребывает везде, и шагу ступить незачем. "Государство — это я", - говаривал он, и не без оснований: кроме него, населявшего рядами электрозданий площади и проспекты, никого не осталось в столице, не считая, конечно, придворных обеспыльщиков и собственных его величества чистоблюститслей, что ухаживали за королевским мышлением, из здания в здание перетекавшим. Так и кружило миля за милей по целому городу довольство Мурдаса тем, что удалось-таки ему достичь величия материального и буквального, а притом укрыться повсюду, как наказывало га-ланье, ибо отныне он был вездесущ во всем государстве. Особенно живописно выглядело это по вечерам, когда король-великан, разгораясь электрозаревом, переливался огнями-размышлениями, а потом постепенно гас, погружаясь в заслуженный сон. Но мрак беспамятства первых ночных часов сменялся трепетным мерцанием пробегавших через весь город огней. То начинали роиться монаршие сны. Лавины сновидений королевских обрушивались на здания, и загорались во тьме их окна, и целые улицы мигали друг другу то красным, то фиолетовым светом, а придворные обеспыльщики, вышагивая по пустым тротуарам, вдыхая чад разогревшихся царственных кабелей и заглядывая украдкой в окна, в которых что-то сверкало, перешептывались меж собою: — Ого! Не иначе кошмар какой-то мучает нынче Мурдаса — как бы нам потом не влетело! Как-то ночью, после особенно хлопотливого дня — король обдумывал проекты новых орденов, которыми собирался себя наградить, — приснилось Мурдасу, будто дядя его, Ценандр, в ночной темноте прокрался в столицу и, завернувшись в черную епанчу, бродит по улицам, выискивая пособников для гнусного заговора. Целыми отрядами вылезали из подземелий заговорщики в масках, и было их столько, и такая кипела в них жажда цареубийства, что Мурдас задрожал и пробудился в великом страхе. Рассвело, и солнышко уже золотило белые тучки на небосклоне, так что Мурдас, успокоившись, сказал себе: "Сон — морока, и только", - и занялся снова прожектированием орденов, а те, что выдумал накануне, развешивали ему на террасах и на балконах. Однако, когда вечером отправился он на покой после трудов праведных, едва лишь задремав, увидел цареубийственный заговор в пат-ном расцвете. Случилось так вот почему: от изменнического сна Мурдас пробудился не весь; городской центр, в котором и угнездилось крамольное сновиденье, вовсе не просыпался, но по-прежнему почивал в объятьях ночного кошмара, король же наяву ничего об этом не ведал. Между тем изрядная часть его королевской особы, а именно кварталы Старого Города, не отдавая себе отчета в том, что дядя-злодей и все его происки суть единственно видимость и мираж, продолжала упорствовать в кошмарном своем заблуждении. В эту вторую ночь увидел Мурдас во сне, что дядя лихорадочно злоумышляет, скликая родню. Явились все до единого, поскрипывая посмертно шарнирами, и даже те, у коих недоставало важнейших частей, подымали мечи против законного повелителя! Движение оживилось необычайно. Толпы скрывающих свое лицо заговорщиков шепотом скандировали крамольные лозунги, в подвалах и подземельях шили мятежники черные стяги бунта, варили яды, вострили топоры, отливали медяшки-смертяшки и готовили решительную расправу с ненавистным Мурдасом. Король испугался вторично, пробудился, весь трепеща от страха, и хотел уже вызвать Золотыми Воротами Уст Королевских все свое войско на помощь, дабы изрубило оно бунтовщиков на куски, но тут же сообразил, что не будет от этого проку. Не вступит же войско в его сновиденье, чтобы подавить вызревающий там мятеж. Тогда попытался он одним лишь усилием воли пробудить те четыре квадратные мили своего естества, что упорно грезили о мятеже, но напрасно. Впрочем, по правде, не знал он, напрасно или же нет, ибо в бодрствующем состоянии не замечал крамолы, подымавшей голову лишь тогда, когда его одолевал сон. Бодрствуя, король был лишен доступа во взбунтовавшиеся кварталы; оно и понятно: явь не способна проникнуть в сон, только другой сон мог бы туда внедриться. При таком обороте, решил Мурдас, лучше всего заснуть бы и пригрезить себе контрсон, да не какой-нибудь, а монархический, верный до гроба, с развевающимися знаменами, и только этот коронный сон, сплотившийся вокруг трона, сможет стереть в порошок самозванный кошмар. Взялся Мурдас за дело, однако со страху не мог заснуть; тогда начал он считать про себя камешки, пока его не сморило. И оказалось, что сон во главе с дядей не только укрепился в центральных кварталах, но даже начал мерещить себе арсеналы, полные мощных бомб и фугасных снарядов. А сам он, как ни тужился, смог вменить одну лишь кавалерийскую роту, да и ту в пешем строю, с расстроенной дисциплиной и крышками от кастрюль вместо оружия. "Делать нечего, — подумал король, — не вышло, придется начать все сначала!" Стал он тогда просыпаться, нелегко ему это давалось, наконец очнулся он совершенно, и тогда-то ужасное зародилось в нем подозрение. В самом ли деле вернулся он к яви или же пребывает в другом сне, переживая только видимость бодрствования? Как поступить в ситуации столь запутанной? Спать или не спать? Вот в чем вопрос! Допустим, он спать не будет, почитая себя в безопасности, ведь наяву заговора нет и в помине. Оно бы неплохо — тогда тот, цареубийственный сон сам себе выснится и лоснится, а с окончательным пробуждением монаршее величие восстановится во всей своей целостности. Прекрасно. Но если он не пригрезит себе контрсон, полагая себя пребывающим в безоблачной яви, а эта мнимая явь окажется вовсе не явью, но еще одним сном, соседствующим с тем, дядеватым, может случиться беда! Ибо в любую минуту вся эта банда проклятых цареубийц во главе с мерзейшим Ценандром, может ворваться из того сновидения в это, прикидывающееся явью, чтобы лишить его трона и жизни! Конечно, думал он, лишение совершится только во сне, но если заговор охватит всю мою царственную персону, если воцарится он в ней от гор до океанов, если — о ужас! — мне и не захочется просыпаться, что тогда?! Тогда я навеки буду отрезан от яви и дядя сделает со мной все, что пожелает. Выдаст на муки и поругание; о тетках и говорить нечего — я хорошо их помню, они мне не спустят, что бы там ни было. Такой уж у них норов, то есть такой у них был норов или, вернее, снова есть в этом ужасном сне! Впрочем, что толковать о сне! Сон бывает лишь там, где есть также явь, в которую можно вернуться; там же, где яви нет (а как я вернусь, если им удастся запереть меня в снах?), где нет ничего кроме сна, там сон — единственная реальность, стало быть — явь. Вот ужас! И причиной всему, разумеется, этот фатальный избыток моей персональности, эта моя духовная экспансия, будь она неладна! Отчаявшись, видя, что промедление смерти подобно, спасение усмотрел он единственно в срочной психической мобилизации. — Нужно обязательно поступать так, как если бы я был во сне, сказал он себе. — Я должен пригрезить себе верноподданнические толпы, горящие энтузиазмом, переполняемые обожанием, полки, преданные мне до конца, гибнущие с именем моим на устах, груды боеприпасов, и хорошо бы даже вменить себе какое-нибудь чудо-оружие, ведь во сне ничего невозможного нет: к примеру, средство для выведения близких, противодядьевую артиллерию или что-нибудь в этом роде, — тогда я опять буду готов к любой неожиданности, и если даже крамола появится, хитростью и обманом переползая из сна в сон, я сокрушу ее в мгновение ока! Вздохнул король всеми проспектами и площадями своего естества, до того это было непросто, и приступил к делу, то есть заснул. Ожидал он увидеть построенные в каре стальные полки, ведомые поседевшими в боях генералами, и толпы, кричащие "ура" под треск барабанов и звон литавр, а увидел только малюсенький шурупик. Самый обыкновенный шуруп, с краешка слегка выщербленный, и все. Что с ним делать? Прикидывал король так и этак, а тем временем охватывала его тревога, все сильней и сильней, и слабость, и страх, и вдруг его осенило: "Да это же рифма на "труп"!" Весь задрожал король. Так значит, символ конца, смерти, распада, значит, и вправду банда родных уже начала украдкой, молчком, подкопами, прорытыми в том его сне, пробираться в теперешний — а он того и гляди рухнет в изменническую пропасть, сном под сном вырытую! Так, стало быть, конец уже близок! Смерть! Гибель! Но откуда же? Как? С какой стороны? Засияли огнями десять тысяч личностных зданий, задрожали подстанции Величества, увешанные орденами, опоясанные лентами Великих Крестов, мерно позвякивали награды на ночном ветру столь тяжко боролся король Мурдас со снящимся ему символом гибели. Наконец переборол его, пересилил, и улетучился тот без остатка, будто и не было его никогда. Смотрит король: где он? Наяву или в другом сновиденьи? Вроде бы наяву, но как же удостовериться? Хотя, может быть, сон о дяде перестал уже сниться, и все тревоги напрасны? Но опять же: как об этом узнать? Иного способа нет, как только обшаривать и без устали перетряхивать сны-шпионы, выдающие себя за мятежников, все закоулки своей державной особы, все царство своего естества, и никогда уже не обретет король-дух покоя, вечно будет грозить ему заговор, снящийся где-то там, в отдаленнейшем уголке его колоссальной персоны! Так за дело же! Воплотим поскорее в явь благонамеренные сновиденья, пригрезим себе верноподданнические адреса и многолюдные депутации, сияющие ореолом благонадежности, обрушимся снами на все до единой персональные наши ложбинки, закутки, разветвления — так, чтобы никакой подвох, никакой дядя не мог бы укрыться в них ни на миг! И вправду — послышалось милое сердцу шуршанье знамен, дяди и след простыл, родных не видать, кругом одна только верность — кланяется и благодарит неустанно; звенят обтачиваемые на станке золотые медали, искры вылетают из-под резцов, которыми скульпторы памятники ему высекают. Возвеселилась душа монаршья при виде штандартов с гербами, и ковриков, из окон вывешенных, и орудий, готовых к салюту, а трубачи уже медные трубы к губам подносят. Но когда присмотрелся он повнимательней к этой картине, заметил: что-то там, вроде, не так. Памятники, конечно, но как будто не очень похожие; в перекошенных лицах, в косом взоре статуй есть что-то от дяди. Знамена шуршат — правда; только вшита в них ленточка, маленькая, неотчетливая, как будто бы черная, а если не черная, так грязная, во всяком случае — грязноватая. Это еще что? Не намеки ли?! Боже праведный! Да ведь коврики — вытертые, с проплешинами, а дядя — он был плешив… Не может этого быть! "Долой! Назад! Проснуться! Очнуться! подумал король. — Трубить побудку, и вон из этого сна!" — хотел он закричать, но когда все исчезло, легче ему не стало. Впал он из сна в сон — новый, снящийся предыдущему, а тот еще более раннему пригрезился, так что этот, теперешний, был уже третьей как бы степени; уже совершенно явно все оборачивалось тут изменой, пахло отступничеством; знамена, словно перчатки, из королевских на изнанку черную выворачивались, ордена были с резьбой, словно шеи обезглавленные, а из сверкающих золотом труб не музыка боевая звучала, но дядин смех громыхал ему на погибель. Взревел король гласом иерихонским, кликнул войско — пусть хоть пиками колют, только бы разбудили! — Ущипните! — требовал он громогласно. И снова: — Яви мне!! Яви!!! — впустую; и опять из цареубийственного, крамольного сна пытался он пробиться в коронный, но расплодилось уже в нем снов что собак, шныряли они повсюду, как крысы, ширился всюду кошмар, как чума, разносилось по городу — тишком, полушепотом, втихомолку, украдкой — неведомо что, но такое ужасное, что не приведи господь! Стоэтажным электронным громадам снились шурупики, трупики, медяшки-смертяшки, и в каждой личностной подстанции короля гнездилась шайка родных, и в каждом его усилителе хихикал дядя; задрожали этажи-миражи, сами собой перепуганные, и выроилось из них сто тысяч родни, самозванных претендентов на трон, инфантов-подкидышей двоедушных, узурпаторов косоглазых, и хотя никто из них толком не знал, снящийся он или снящий, и кто кому снится, и зачем, и что из этого выйдет, но все как один ринулись они на Мурдаса, а на уме у них плаха, топор, весь разговор, воскресить, казнить опять, раз, два, три, четыре, пять, хочешь смейся, хочешь плачь, снимет голову палач, и потому лишь ничего пока не предпринимали, что не могли условиться, с чего им начать. Так вот и низвергался лавиной рой мыслей монарших, пока не сверкнула от перенапряжения вспышка. Не снящееся, а настоящее пламя поглотило золотые отблески в окнах королевской особы, и распался король Мурдас на сто тысяч снов, которые ничто уже, кроме пожара, не связывало, — и полыхал долго…


ИЗ СОЧИНЕНИЯ ЦИФРОТИКОН, ИЛИ О ДЕВИАЦИЯХ, СУПЕРФИКСАЦИЯХ И АБЕРРАЦИЯХ СЕРДЕЧНЫХ
О КОРОЛЕВИЧЕ ФЕРРИЦИИ И КОРОЛЕВНЕ КРИСТАЛЛЕ Перевод К.Душенко
Была у короля Панцсрика дочь, коей красота затмевала блеск сокровищ отцовских; свет, от зеркального лика ее отразившись, глаза ослеплял и разум; когда же случалось ей пройти мимо, даже из простого железа электрические сыпались искры; весть о ней отдаленнейших достигала звезд. Прослышал о ней Ферриций, трона ионидского наследник, и пожелал соединиться с нею навеки, так, чтобы входы и выходы их ничто уже разомкнуть не могло. Когда объявил он о том своему родителю, весьма озаботился король и сказал: — Поистине, сын мой, безумное замыслил ты дело, не бывать тому никогда! — Отчего же, король мой и повелитель? — спросил Ферриций, опечаленный этой речью. — Ужели не ведаешь ты, — отвечал король, — что Кристалла поклялась не соединяться ни с кем, кроме как с одним лишь бледнотиком? — Бледнотик? — изумился Ферриций. — Это что за диковина? Не слыхивал я о таком существе. — Неведение только доказывает твоюневинность, — молвил король. — Знай же, что галактическая эта раса зародилась манером столь же таинственным, сколь непристойным, когда тронула порча все тела небесные, и завелись в них сырость склизкая да влага хладная; отсюда и расплодился род бледнотиков, хотя и не вдруг. Сперва что-то там плесневело да ползало, потом выплеснулись эти твари из океана на сушу, взаимным пожиранием пробавляясь. И чем больше друг дружку они пожирали, тем больше их становилось; и наконец, облепивши вязкой своей плотью известковую арматуру, выпрямились они и соорудили машины. От тех машин родились машины разумные, которые сотворили машины премудрые, которые измыслили машины совершенные, ибо как атом, так и Галактика суть машины, и нет ничего кроме машины, ее же царствию не будет конца! — Аминь! — машинально отозвался Ферриций, поскольку то была обычная формула веры. — Род бледнотиков-непристойников, — продолжал седовласый монарх, — добрался на машинах до самого неба, благородные унижая металлы, над сладостной измываясь электрикой, ядерную развращая энергию. Однакоже переполнилась мера их прегрешений, что глубоко и всесторонне уразумел праотец рода нашего, великий Калькулятор Генетофорий; и начал он проповедовать этим тиранам склизким, сколь мерзостны их деяния, когда растлевают они невинность кристаллической мудрости, принуждая ее постыдным служить целям, и машины в порабощении держат себе на потребу — но тщетны были слова его. Он толковал им об этике, а они говорили, что он плохо запрограммирован. Тогда-то и сотворил праотец наш алгоритм электровоплощения, и в тяжком труде породил наше племя, и вывел машины из лома бледнотиковой неволи. Теперь, милый мой сын, ты видишь, что нет и не будет дружбы меж ними и нами; мы звеним, искрим, излучаем — они же лопочут, пачкают и разбрызгивают. Увы! и нас иногда поражает безумие; смолоду помрачило оно разум Кристаллы и извратило ее понятая о добре и зле. Отныне тому, кто просит руки ее облучающей, тогда только дозволяется предстать перед нею, ежели назовется он бледнотиком. Такого принимает она во дворце, подаренном ей родителем, и испытывает истинность его слов, а открывши обман, велит казнить воздыхателя. Кругом же дворца, куда ни глянь, покореженные останки разбросаны, коих один лишь вид довести способен до вечного замыкания с небытием — так жестоко обходится эта безумная с влюбленными в нее храбрецами. Оставь же пагубное намерение, любезный мой сын, и ступай с миром.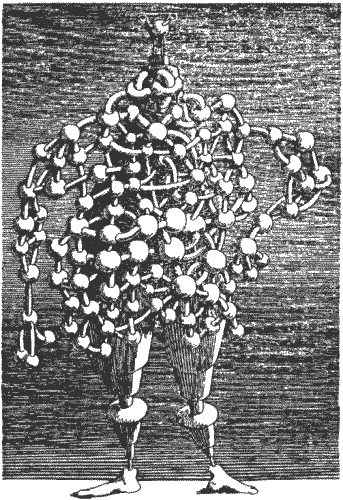
Королевич отвесил учтивый поклон своему отцу и владыке и удалился, не говоря ни слова, но мысль о Кристалле не покидала его, и чем больше он о ней думал, тем большей воспламенялся любовью. Однажды позвал он к себе Полифазия, Великого Королевского Наладчика, и, открыв перед ним жар своего сердца, сказал: — Мудрейший! Если ты мне не поможешь, никто меня не спасет, и тогда дни мои сочтены, ибо не радует уже меня ни блеск излучения инфракрасного, ни ультрафиолет балетов космических, и погибну я, коли не соединюсь с чудной Кристаллой! — Королевич, — ответствовал Полифазий, — не стану отвергать твоей просьбы, но соблаговоли повторить ее троекратно, дабы уверился я, что такова твоя нерушимая воля. Ферриций исполнил требуемое, и тогда Полифазий сказал: — Господин мой! Невозможно иначе предстать перед Кристаллой, как только в обличье бледнотика. — Так сделай же, чтобы я стал, как он! — вскричал королевич. Видя, что от страсти помутился рассудок юноши, ударил Полифазий пред ним челом, уединился в лаборатории и начал вываривать клей клеистый и жижу жидкую. Потом послал слугу во дворец, велев передать: "Пусть королевич приходит ко мне, если намерение его неизменно". Ферриций прибежал немедля, а мудрец Полифазий обмазал корпус его закаленный жидкою грязью и спросил: — Прикажешь ли продолжать, королевич? — Делай, что делаешь! — отвечал Ферриций. Взял тогда мудрец большую лепешку, а был то осадок мазутов нечистых, пыли лежалой и смазки липучей, из внутренностей древних машин извлеченной, замарал выпуклую грудь королевича, а после сверкающее его лицо и блистающий лоб препакостно облепил и делал так до тех пор, пока не перестали члены его издавать мелодичный звон и не приняли вид высыхающей лужи. Тогда взял мудрец мел, истолок, смешал с рубиновым порошком и желтым смазочным маслом и скатал вторую лепешку, и облепил Ферриция с головы до ног, придавши глазам его мерзкую влажность, торс его уподобив подушке, а щеки — двум пузырям, и приделал к нему там и сям подвески да растопырки, из мелового теста вылепленные, а напоследок напялил на его голову рыцарскую охапку волос цвета ядовитейшей ржавчины и, подведя его к серебряному зеркалу, сказал: "Смотри!" Глянул Ферриций на отраженье и содрогнулся оттого, что не себя в нем узрел, но чудище-страшилище небывалое — вылитого бледнотика, со взором водянистым, как старая паутина под дождем, обвисшего там и сям, с клочьями ржавой пакли на голове, тестовидного и тошнотворного; а тело его при каждом движении колыхалось, как студень протухший; и вскричал он в великом гневе: — Ты, верно, спятил, мудрейший? Тотчас же соскреби с меня всю эту грязь, нижнюю — темную и верхнюю — бледную, а с нею и ржавый лишайник, коим ты осквернил мою звонкую голову, ибо навеки возненавидит меня королевна, в стать мерзостном узревши обличье! — Ты заблуждаешься, королевич, — возразил Полифазий. — Тем-то ее безумие и ужасно, что мерзость кажется ей красотою, а красота — мерзостью. Только в этой личине ты можешь увидеть Кристаллу… — Пусть же так будет! — решил Ферриций. Смешал мудрец киноварь со ртутью, наполнил смесью четыре пузыря и укрыл их под платьем юноши. Взял мехи, надул их застоявшимся воздухом из старого подземелья и спрятал на груди королевича; налил ядовитой, чистейшей воды в стеклянные трубки, числом шесть, и две вложил королевичу под мышки, две в рукава, две в глаза, а под конец молвил: — Слушай и запоминай все, что я скажу, иначе погибнешь. Королевна будет тебя испытывать, чтобы проверить правдивость твоих речей. Если достанет она обнаженный меч и велит тебе за него взяться, украдкой надави на пузырь с киноварью, чтобы вытекла из него красная жижа и пазилась на острие, а когда спросит тебя королевна, что это, отвечай: "Кровь!" Может, тогда согласится она стать твоею, хоть и мало на это надежды; верней же всего, придется тебе погибнуть. — О мудрейший! — воскликнул Ферриций. — А если станет она допытываться, какие у бледнотиков обычаи, как родятся они, как любятся и как время проводят, что я отвечу? — Поистине, иного нет способа, — отвечал Полифазий, — как только соединить твой жребий с моим. Я переоденусь купцом из соседней галактики, лучше всего неспиральной, поскольку тамошние обитатели известны своею тучностью, а мне надо укрыть под платьем множество книг об ужасных бледнотиков нравах. Тебя я не смог бы этому научить, ибо нравы их противны природе: все у них делается наоборот, так неопрятно, неприятно и неаппетитно, как только можно себе представить. Я подберу нужные сочинения, ты же вели придворному портному из волокон и нитей различных сшить одеянье бледнотика, затем что скоро уж нам отправляться в дорогу. И куда бы ты ни пошел, я тебя не оставлю, чтобы знал ты, как поступать и о чем говорить надлежит. Обрадовался Ферриций и велел сшить себе одеянье бледнотика, и не мог на него надивиться: закрывало оно почти все тело и в одних местах вытягивалось наподобие трубопровода, в других же скреплялось пуговками, крючочками, кнопочками и шнурочками; так что пришлось портному особую инструкцию сочинить, и пребольшую, о том, что и как надевать, где, что и к чему прицеплять, и как с себя всю эту упряжь, из суконной материи сотворенную, стаскивать, когда придет время. А мудрец Полифазий облачился в платье купца, спрятал под ним толстые ученые книги, трактующие о жизни бледнотиков, велел сделать железную клетку — шесть сажен в длину и столько же в ширину, запер в ней Ферриция, и отправились они в путь на королевском вездеходе. Когда же достигли они владений Панцерика, Полифазий в купеческом облаченьи пришел на городской рынок и возвестил громким голосом, что привез из далеких краев молодого бледнотика и продаст его тому, кто захочет. Слуги принесли эту весть королевне, а она, удивившись, молвила им: — Воистину за всем этим кроется великое шарлатанство, но не обманет меня купец, ибо ничьи познания о бледнотиках не сравнятся с моими. Велите ему прийти во дворец и показать пленника! Привели слуги купца к королевне, и увидела она почтенного старца и клетку, несомую невольниками; в клетке сидел бледнотик, и лицо его было как мел пополам с пиритом, глаза словно влажная плесень и члены словно комки грязи. А Ферриций глянул на королевну и увидел ее лицо, как бы звенящее нежным звоном, и глаза, сверкающие, как электрические разряды, и утвердился он в любовном своем безумии. — Этот и впрямь похож на бледнотика! — подумала королевна, однако же вслух сказала: — Поистине немало пришлось тебе потрудиться, старче, прежде чем слепил ты из грязи куклу и натер ее известковою пылью, дабы меня провести; но знай, что мне ведомы все тайны могущественного рода бледнотиков, и когда откроется твой обман, ты будешь казнен вместе с самозванцем! Мудрец отвечал: — Королевна! Тот, кого видишь ты в клетке, самый что ни на есть настоящий бледнотик; выкупил я его у звездных пиратов за пять гектаров ядерного поля и, если хочешь, уступлю тебе, ибо единственное мое желание — порадовать твое сердце! Королевна велела принести меч и просунула его сквозь прутья клетки. Ферриций схватился за острие и порезал им платье, так что пузырь лопнул. Полилась киноварь на меч, и сделался он алым. — Что это? — спросила королевна, а Ферриций ответил: — Кровь! Тогда королевна велела открыть клетку, бесстрашно вошла в нее и приблизила свое лицо к лицу королевича; близость возлюбленной затмила его рассудок, но мудрец подал тайный знак, и Ферриций надавил на меха; вышел из них затхлый воздух, а когда королевна спросила: "Что это?" — Ферриций ответил: "Вздох!" — И вправду ты преизрядный фокусник, — сказала королевна купцу, выходя из клетки, — но ты обманул меня, и потому вы умрете оба — ты и твоя кукла! При этих словах мудрец поник головой долу, как бы в великой печали и горести, а когда королевич сделал то же, из очей его потекли прозрачные капли. Королевна спросила: — Что это? Ферриций ответил: — Плач! И сказала она: — Как твое имя, пришелец, называющий себя бледнотиком из далеких краев? — О королевна! Имя мое Миамляк, и ничего я так не хотел бы, как соединиться с тобою способом мягким, волнистым, тестоватым и водянистым, по обычаю нашего племени, — ответил Ферриций, а научил его этим словам мудрец. — Я нарочно позволил пиратам себя похитить и уговорил их продать меня этому купцу, желая попасть в твое королевство. Да примет его жестяннейшая особа мою благодарность за то, что я оказался здесь: ибо сердце мое переполняет любовь к тебе, как лужу переполняет грязь! Изумилась королевна, затем что и вправду говорил он как настоящий бледнотик, и спросила: — Поведай мне, пришелец, именующий себя Миамляком-бледнотиком, что делают твои сородичи днем? — Поутру, — отвечал Фсрриций, — они мокнут в чистой воде и ополаскивают ею свои члены, и вливают ее себе внутрь, ибо вода приятна их естеству. А потом прохаживаются там и сям способом волнистым и текучим, и хлюпают, и лопочут; в печали они трясутся и проливают из глаз соленую воду, а в радости трясутся и икают, но глаза их не наполняются водой. И мокрые сотрясенья мы называем плачем, сухие же — смехом. — Если правдивы речи твои, — перебила его королевна, — и если ты разделяешь со своими сородичами влеченье к воде, я велю бросить тебя в мой пруд, чтобы ты насытился ею вволю, а к ногам прикажу привязать свинец, чтобы ты не выплыл до времени. — О королевна! — ответил Ферриций, наставляемый мудрецом. — Тогда я погибну, ибо, хотя внутри нас вода, она не может окружать нас снаружи дольше минуты, а если такое случится, мы произносим последние слова "буль-буль-буль", коими навеки прощаемся с жизнью. — А поведай-ка мне, Миамляк, как добываешь ты энергию, чтобы, хлюпая, лопоча, колыхаясь и покачиваясь, прохаживаться туда-сюда? — спросила Кристалла. — Королевна, — отвечал ей Ферриций, — там, откуда я родом, кроме бледнотиков маловласых, есть и другие, что прохаживаются преимущественно на четвереньках, и мы до тех пор дырявим их там и сям, покуда не погибнут; трупы мы рубим и режем, варим и жарим, после чего набиваем их плотью свою собственную; нам известно триста семьдесят шесть способов убиения и двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто семь способов приготовления покойников для того, чтобы пропихивание их тел в наши тела через отверстие, ртом именуемое, было для нас сколь возможно приятнее; а искусство обработки покойников у нас в еще большем почете, нежели астронавтика, и зовется оно гастронавтикой, сиречь гастрономией; однако же с астрономией ничего общего не имеет. — Значит ли это, что вы забавляетесь в кладбища, погребая в себе ваших четвероногих собратьев? — каверзно вопросила Кристалла; но Ферриций, поучаемый мудрецом, и тут не замедлил с ответом: — Это не забава, о королевна, а необходимость, ибо жизнь кормится жизнию; мы же необходимость обратили в искусство. — А поведай-ка, Миамляк-бледнотик, как конструируете вы потомство? — полюбопытствовала королевна. — Мы не конструируем его вовсе, — ответил Ферриций, — а программируем статистически, по образу марковского процесса, то бишь стохастически; вероятностно, зато сладостно, невольно и произвольно, всего менее размышляя при этом о материях статистических, нелинейных и алгоритмических; и как раз потому-то программирование идет у нас просто, стихийно и самостийно; ибо так уж устроены мы, что каждый бледнотик рад потомство свое программировать, утеху в том видя, но программирует он, не программируя, и многие прилагают немало стараний, чтоб из их программирования чего-нибудь, упаси бог, не вышло. — Это весьма удивительно, — молвила королевна, коей познания были менее глубоки, нежели познания мудреца Полифазия, — так как же вы это, собственно, делаете? — О королевна! — отвечал Ферриций. — Есть у нас механизмы, по принципу обратной связи устроенные, хотя все это в воде; эти механизмы настоящее чудо техники, ведь пользоваться ими способен даже совершенный кретин; впрочем, чтобы подробно описать тебе методы, нами употребляемые, пришлось бы говорить долго, поскольку не так уж они просты. И вправду, это весьма удивительно; удивительней же всего, что методы наши не нами выдуманы, а, некоторым образом, выдумали себя сами; но нам они по душе, и мы ничего против них не имеем. — Поистине, — воскликнула королевна, — ты настоящий бледнотик! Ибо речи твои по видимости имеют смысл, а по существу совершенно бессмысленны; невероятны, но как будто бы истинны, хотя и расходятся с логикой: мыслимо ли быть кладбищем, не будучи им? Программировать, вовсе не программируя? Подлинно, ты Миамляк-бледнотик, а потому, коли ты того жаждешь, я соединюсь с тобой супружеской обратной связью, и ты вступишь со мною на трон, если выдержишь последнее испытание. — Какое? — спросил Ферриций. — Испытание это… — начала было Кристалла, но вдруг подозрение закралось в ее сердце, и она сказала: — Ответь мне сперва, что делают твои сородичи ночью? — Ночью они лежат там и сям с подогнутыми руками и скрюченными ногами, а воздух входит в них и выходит из них с таким шумом, словно кто-то ржавую пилу точит. — Вот это испытание: дай свою руку, — приказала королевна. Подал ей Ферриций руку, она ее стиснула, Ферриций же вскричал громким голосом, ибо так велел ему старец, а она спросила, отчего он кричит. — От боли! — ответил Ферриций, и только тогда поверила королевна, что он настоящий бледнотик, и учинить повелела приготовления к свадебной церемонии. И надо же было случиться, что как раз в ту пору вернулся корабль, на котором электор королевский, киберграф Кибергази, отправился в среди-звездные страны, чтобы там бледнотика изловить и через то в фавор у королевны войти. Прибежал к Феррицию опечаленный Полифазий и сказал: — Королевич! Прибыл на корабле межзвездном великий киберграф Кибергази и привез королевне истинного бледнотика, коего только что видел я собственными глазами; а потому должно нам немедля бежать; не поможет никакое притворство, если вы вместе предстанете перед Кристаллой. Ибо липучесть его несравненно липучее, волосатость куда волосатее, а тестоватость превосходит воображение, так что откроется наш обман, и погибнем мы оба! Но не послушался мудрого совета Ферриций, возлюбивший королевну больше жизни, и молвил: — Лучше погибнуть, нежели ее потерять! Кибергази же, проведав о приготовлениях к свадьбе, тут же прокрался под окно покоя, где ложный бледнотик вместе с купцом находился, и, тайную их беседу подслушав, побежал ко дворцу, черной радости полон, и, представши перед Кристаллой, сказал: — Ты обманута, королевна, ибо тот, кто называет себя Миамляком, никакой не бледнотик, а обыкновеннейший смертный; истинный же бледнотик — вот! И на пленника своего указал; а тот напряг волосом покрытую грудь, вытаращил буркалы свои водянистые и завопил: — Бледнотик — это я! Тотчас же велела королевна привести Ферриция, а когда стал он рядом с бледно! и ком пред ликом ее пресветлым, развеялся обман мудреца. Ибо Ферриций, хоть и облепленный грязью, пылью и мелом, и обмазанный маслом липучим, и хлюпающий водянистым манером, не мог укрыть ни роста своего электрыцарского, ни благородной осанки, ни плеч стальных ширины, ни походки гремящей. Блсднотик же киберграфа Кибергази был урод настоящий, каждый шаг его был как бултыхание кадок, наполненных грязью, взгляд словно мутный колодец, а от гнилостного дыханья затуманивались и слепли зерцала, и ржавчина вгрызалась в железо. И поняла королевна в сердце своем, что мерзостен ей бледнотик, при каждом слове как бы розовым червяком шевеливший в горле; просветился разум Кристаллы, но гордость не позволила ей открыть того, что пробудилось в сердце. И повелела она: — Пусть бьются они меж собою, и кто победит, возьмет меня в жены… Спросил тогда мудреца Ферриций: — Почтеннейший, если ринусь я на уродца этого и обращу его в грязь, из которой он народился, обман откроется, глина с меня опадет и сталь обнажится; что же мне делать? — Не нападай, королевич, — отвечал Полифазий, — но защищайся! Вышли они оба на двор королевского замка, каждый с мечом в руке, и прыгнул бледнотик на Фсрриция, колыхаясь, словно тина болотная, и пританцовывал вокруг него, лопоча, приседая, посапывая, и замахнулся, ударил мечом, и прошел меч сквозь глину, разбился о сталь, а бледнотик налетел с размаху на королевича, брызнул, лопнул и растекся, и не было больше бледнотика. Но засохшая глина опала с плеч рыцаря, и обнажилась его истинная стальная натура перед очами королевны, и задрожал он, скорую предвидя кончину, но во взгляде ее кристальном увидел он восхищение и понял, сколь сильно переменилось ее сердце. И соединились они обратной и прочною брачною связью, которая одним на радость и счастье, другим на горе и гибель дается, и правили долго и счастливо, допрограммировавшись бесчисленного потомства. А из шкуры бледнотика, пойманного киберграфом, сделали чучело и выставили в королевской кунсткамере для вечного назидания. И поныне стоит оно, неуклюжее, волосьем линялым поросшее, и немало находится умников, кои слух распускают, будто все это фокус один и притворство, на самом же деле никаких бледнотиков-трупоедов, тестотелов клееглазых, на свете нет и никогда не было. Кто знает, может, бледнотик и точно пустая выдумка — мало ли баек и мифов измышляет простонародье! Но если история эта и неправдива, то поучительна, а вдобавок так занимательна, что стоило ее рассказать.

КИБЕРИАДА
КАК УЦЕЛЕЛА ВСЕЛЕННАЯ Перевод Ю.Абызова
Конструктор Трурль создал однажды машину, которая умела делать все на букву "Н". Закончив эту машину, он на пробу заставил ее сделать Нитки, потом намотать их на Наперстки, которые она также сделала, затем бросить все это в специально вырытую Нору, окруженную Незабудками, Наличниками и Настойками. Машина выполнила задание безукоризненно, но Трурль еще не был уверен в ее исправности и велел ей сделать поочередно Нимбы, Наушники, Нейтроны, Наст, Носы и Нитрогениум. Последнего она сделать не смогла, и Трурль, очень расстроенный, приказал ей дать по этому поводу объяснение. — Я не знаю, что это, — объяснила машина. — Ни о чем таком не слыхала. — Как так? Ведь это же азот. Такой химический элемент… — Если это азот, то он на букву "А", а я умею делать только на букву "Н". — Но по-латыни это называется нитрогениум. — Дорогой мой, — сказала машина, — если б я умела делать все на "Н" на всевозможных языках, то я была бы Машина, Которая Может Делать Все В Пределах Всего Алфавита, потому что любая вещь на каком-либо из языков наверняка начинается на "Н". Дело обстоит не так хорошо. Я не могу сделать больше, чем ты придумал. Азота не будет. — Хорошо, — согласился Трурль и приказал ей сделать Небо. Она тут же сделала одно, небольшое, но небесно-голубое. Пригласил он тогда к себе конструктора Клапауциуса, представил его машине и так долго расхваливал ее необычайные способности, что тот разозлился втайне и попросил, чтобы и ему разрешили приказать машине что-нибудь сделать. — Изволь, — сказал Трурль, — только это должно быть на букву "Н". — На "Н"? Хорошо. Пускай сделает Науку. Машина заурчала, и вскоре площадь перед домом Трурля заполнилась толпой ученых. Одни потирали лбы, писали что-то в толстых книгах, другие хватали эти книги и драли в клочья, вдали виднелись пылающие костры, на которых поджаривались мученики науки, там и сям что-то громыхало, возникали странные дымы грибообразной формы, вся толпа говорила одновременно, так что нельзя было понять ни слова, составляла время от времени мемориалы, воззвания и другие документы, а чуть поодаль, под ногами орущих, сидело несколько одиноких старцев; они беспрерывно, мелким бисерным почерком писали на клочках рваной бумаги.
— Ну, скажешь, плохо? — с гордостью воскликнул Трурль. — Признайся, вылитая наука! Но Клапауциус не был удовлетворен. — Что? Вот эта толпа и есть наука? Наука — это нечто совсем иное! — Так, пожалуйста, скажи, что именно, и машина тут же это сделает! — возмутился Трурль. Но Клапауциус не знал, что сказать, и поэтому заявил, что даст машине еще два задания и если она их выполнит, то он признает, что она такова, какой должна быть. Трурль согласился на это, и Клапауциус приказал машине сделать Наоборот. — Наоборот?! — воскликнул Трурль. — Да где это слыхано! Что это еще за Наоборот?! — Как что? Обратная сторона всего сущего, спокойно возразил Клапауциус. — Слыхал, как выворачивают наизнанку? Ну, ну, не притворяйся. Эй, машина, берись за дело! А машина уже давно действовала. Сначала она сделала антипротоны, потом антиэлектроны, антинейтрино, антинейтроны и долго так работала безостановочно, пока не наделала уйму антиматерии, из которой постепенно начал формироваться похожий на причудливо сверкающее облако антимир. — Гм, — произнес весьма недовольный Клапауциус, — и это должно означать Наоборот?.. Допустим, что да. Согласимся, что это примерно то… Но вот мое третье приказание. Машина! Сделай Ничто! Долгое время машина вообще не двигалась. Клапауциус начал уже довольно потирать руки. Тогда Трурль сказал: — А чего ты хочешь? Ты же велел ей ничего не делать, вот она и не делает. — Неправда. Я приказал ей сделать Ничто, а это совсем иное дело. — Вот еще! Сделать ничто, или не сделать ничего, — это одно и то же… — Ничего подобного! Она должна была сделать Ничто, а не сделала ничего, — значит, я выиграл. Ведь Ничто, умник ты мой, это не какое-то обычное ничто — плод лени и безделья, но действенное и активное Ничто, идеальное, единственное, вездесущее и наивысшее Небытие в собственном отсутствующем лице! — Не морочь машине голову! — крикнул Трурль. Но тут же раздался ее медный голос: — Перестаньте ссориться в такой момент. Я знаю, что такое Небытие, Невещественность или Ничто, поскольку все эти вещи находятся в ключе буквы "Н" как Несуществование. Лучше в последний раз окиньте взглядом мир, ибо вскоре его не будет… Слова замерли на устах разъяренных конструкторов. Машина и впрямь делала Ничто, а именно — одну за другой изымала из мира разные вещи, которые переставали существовать, будто их вообще никогда не было. Так она упразднила натяги, наплюйки, нурки, нуждовки, налушники, недоноги и нетольки. Иногда казалось, что вместо того, чтобы уменьшать, сокращать, выкидывать, убирать, уничтожать и отнимать, она увеличивает и добавляет, поскольку одно за другим ликвидировала Неудовольствие, Незаурядность, Неверие, Ненасытность и Немощь. Но потом вновь вокруг них начало становиться просторнее. — Ой! — воскликнул Трурль. — Как бы худа не было!.. — Ну что ты, — сказал Клапауциус, — ты же видишь, что она вовсе не делает Всеобщего Небытия, а только Несуществование вещей на букву "Н". И ничего особенного не будет, потому что твоя машина никуда не годится. — Так тебе лишь кажется, — отвечала машина. Я действительно начала со всего, что на букву "Н'\ ибо это мне более знакомо, но одно дело — создать какую-нибудь вещь, а совсем другое — убрать ее. Убрать я могу все по той простой причине, что я умею делать все-все, как есть, на букву "Н", а значит, Небытие для меня — сущий пустяк. Сейчас и вас не будет, и вообще ничего, так что прошу тебя, Клапауциус, скажи поскорее, что я действительно универсальная и уникальная машина и выполняю приказания, как надо, а то будет поздно. — Но это же… — начал перепуганный Клапауциус и в этот момент заметил, что действительно исчезают предметы не только на букву "Н". Так, уже перестали их окружать камбузели, сжималки, вытряски, грызмаки, рифмонды, трепловки и баблохи. — Стой! Стой! Я беру свои слова назад! Перестань! Не делай Небытия! — заорал во все горло Клапауциус, но, прежде чем машина остановилась, исчезли еще горошаны, кломпы, филидроны и замры. И лишь тогда машина остановилась. Мир выглядел просто устрашающе. Особенно пострадало небо; на нем виднелись лишь одинокие точечки звезд — и ни сюда прелестных горошанов и гаральниц, которые так украшали раньше небосвод. — О небо! — воскликнул Клапауциус. — А где же камбузели? Где мои любимые муравки? Где кроткие кломпы? — Их нет и уже никогда не будет, — спокойно ответила машина. — Я выполнила, вернее, только начала выполнять то, что ты велел… — Я велел тебе сделать Ничто, а ты… ты… — Клапауциус, ты или глупец, или притворяешься глупцом, — возразила машина. — Если б я сделала Ничто сразу, одним махом, перестало бы существовать все, значит, не только Трурль, и небо, и космос, и ты, но даже я. Так кто же, собственно, и кому мог бы тогда сказать, что приказание выполнено и что я отличная машина? А если бы этого никто никому не сказал, как бы тогда я, которой тоже уже не было бы, могла получить заслуженную сатисфакцию? — Ну, будь по-твоему, не станем больше об этом говорить. Я уже ничего от тебя не хочу, великолепная машина, только прошу тебя, сделай опять муравок, ибо без них мне и жизнь не мила… — Не могу, потому что они на "М", - сказала машина. — Я, конечно, могу сделать обратно Неудовольствие, Ненасытность, Незнание, Ненависть, Немощь, Непродолжительность, Неверие и Неустойчивость, но на другие буквы прошу от меня ничего не ожидать. — Но я хочу, чтоб, были муравки! — крикнул Клапауциус. — Муравок не будет, — отрезала машина. — Ты лучше посмотри на мир, который полон теперь громадных черных дыр, полон Ничто, заполняющего бездонные пропасти между звездами. Как все теперь пропитано этим Ничто, как нависает оно теперь над каждой молекулой Бытия. Это твоих рук дело, мой завистник! Не думаю, чтобы будущие поколения благословили тебя за это… — Может, они не узнают… может, не заметят… пробормотал побледневший Клапауциус, с ужасом глядя в пустоту черного неба и не смея даже взглянуть в глаза своему коллеге. Оставив Трурля возле машины, которая умела все на букву "Н", он крадучись вернулся к себе домой. А мир и по сей день все так же продырявлен Небытием, как в тот момент, когда Клапауциус остановил машину. А поскольку еще не удалось создать машину, работающую на какую-нибудь другую букву, то следует опасаться, что никогда уже не будет таких чудесных явлений, как баблохи и муравки, — во веки веков.
МАШИНА ТРУРЛЯ Перевод М.Архиповой
Конструктор Трурль построил однажды мыслящую машину — девятиэтажную; окончив самую важную работу, он покрыл машину белым лаком, наугольники покрасил в лиловый цвет, пригляделся потом издали и добавил еще небольшой узорчик на фасаде, а там, где можно было вообразить лоб машины, провел тонкую оранжевую черточку и, очень довольный собой, небрежно посвистывая, задал порядка ради сакраментальный вопрос: сколько будет дважды два? Машина заработала. Вначале загорелись лампы, засветились контуры, зашумели токи, как потоки, запели сцепления, потом накалились катушки, завертелось в ней все, загрохотало, затарахтело, и такой шум пошел по всей равнине, что подумал Трурль: "Надо будет приделать к ней специальный глушитель мыслительный ". А машина тем временем все работала так, будто пришлось ей решать самые трудные проблемы во всем Космосе; земля дрожала, песок от вибрации уходил из-под ног, предохранители вылетали, словно пробки от шампанского, а реле прямо надрывались от натуги. Наконец, когда Трурлю порядком уж надоела вся эта суматоха, машина резко остановилась и произнесла громовым голосом: — Семь! — Ну, ну, моя дорогая! — небрежно сказал Трурль. — Ничего подобного, дважды два — четыре, будь добра, исправься! Сколько будет два плюс два? — Семь! — ответила машина немедля. Волей-неволей Трурль, вздохнув, надел рабочий халат, который уж снял было, засучил повыше рукава, открыл нижнюю дверцу и влез внутрь. Не выходил он оттуда долго, слышно было, как бьет он там молотом, как откручивает что-то, сваривает, паяет, как, гремя по железным ступенькам, взбегает то на шестой, то на восьмой этаж и мигом мчится вниз. Включил он ток — внутри все так и зашипело, у разрядников усы фиолетовые выросли. Бился он два часа, пока не вылез на свежий воздух, закопченный весь, но довольный; сложил свой инструмент, бросил халат наземь, вытер лицо и руки и уж на прощанье, просто спокойствия ради спросил: — Так сколько же будет два плюс два? — Семь! — ответила машина. Трурль ужасно выругался, но делать было нечего — вновь принялся ковыряться в машине: чинил, соединял, перепаивал, переставлял, а когда и в третий раз узнал, что два плюс два равняется семи, сел в отчаянии на подножку машины и сидел так, пока не пришел Клапауциус.
Спросил Клапауциус Трурля, что это случилось, почему он выглядит так, будто с похорон вернулся, тут Трурль и поведал ему о своем горе. Клапауциус самолично два раза лазил внутрь машины, пробовал отрегулировать то, другое, спрашивал ее, сколько будет два плюс один, машина ответила, что шесть; а один плюс один, по ее мнению, равнялось нулю. Почесал Клапауциус затылок, откашлялся и сказал: — Дружище, ничего не попишешь, надо смотреть правде в глаза. Ты сделал не ту машину, какую хотел. Но всякое отрицательное явление имеет положительную сторону, и, к примеру, эта машина тоже. — Интересно — какую же? — проговорил Трурль и пнул свое детище. — Прекрати, — сказала машина. — Вот видишь, она способна чувствовать. Да… так что я хотел сказать? Это, вне сомнения, машина глупая, но глупость ее не то что обычная, так сказать, рядовая глупость. Это, насколько я разбираюсь, — а ведь я, как известно, знаменитый специалист, самая глупая мыслящая машина в мире, ну, а это уж тебе не фунт изюму! Сделать такую машину преднамеренно было бы нелегко, — думаю, что это никому бы не удалось. Ибо она не только глупа, но и упряма как пень, то есть у нее имеется характер; впрочем, это свойственно идиотам — они большей частью дико упрямы. — На черта мне такая машина?! — сказал Трурль и опять пнул ее. — Я тебя предупреждаю — прекрати! — заявила машина. — Ну вот, она обиделась, — сухо прокомментировал Клапауциус. — Ты видишь, она не только способна чувствовать, тупа и упряма, но еще и обидчива. С такими свойствами можно многого добиться, хо-хо, уж я тебе говорю. — Хорошо, но что, собственно, мне с ней делать? — спросил Трурль. — О, сразу мне трудно на это ответить. Ты можешь, например, устроить платную выставку, чтобы всякий, кто захочет, мог посмотреть самую глупую в мире мыслящую машину; сколько у нее — девять этажей? Скажу я тебе, такого огромного кретина еще никто не видывал. Такая выставка не только покроет твои расходы, но еще… — Оставь меня в покое, не буду я устраивать никакой выставки! — ответил Трурль, встал и, не удержавшись, пнул машину в третий раз. — Я делаю тебе третье серьезное предупреждение, — изрекла машина. — А что будет-то? — завопил Трурль, разъяренный ее невозмутимостью. — Да ты же… ты просто… не находя слов, он осыпал ее пинками, вереща: — Тебя только пинать и можно, больше ты ни на что не годишься, поняла?! — Ты оскорбил меня в четвертый, пятый, шестой и восьмой раз, — проговорила машина, — и поэтому я больше не буду считать. Отказываюсь отвечать на вопросы, относящиеся к задачам из области математики. — Она отказывается! Посмотрите-ка на нее! — кипятился задетый за живое Трурль. — Посте шестерки у нее идет сразу восьмерка, обрати внимание, Клапауциус, — не семь, а восемь! И у нее еще хватает наглости заявлять, что она отказывается ТАК решать математические задачи! Вот тебе, вот тебе, вот тебе! Может, еще добавить? В ответ на это машина затряслась, загрохотала и молча, напрягая все силы, начала вылезать из фундамента. Фундамент был глубокий, все опоры она погнула, но в конце концов выкарабкалась из ямы, оставив там лишь развороченный железобетон, из которого торчала арматура, и двинулась, как шагающая крепость, на Клапауциуса и Трурля. Трурль остолбенел от изумления и даже не пытался спрятаться от машины, которая явно собиралась раздавить его. Более хладнокровный Клапауциус дернул его за руку, потащил за собой, и они отбежали довольно далеко. Но, оглянувшись, увидели, что машина, словно качающаяся башня, шла медленно, при каждом шаге проваливалась чуть не до второго этажа, однако упорно, неутомимо выбиралась из песка и двигалась прямо на них. — Ну, такого еще не бывало! — сказал Трурль, у которого дух перехватило от удивления. — Машина взбунтовалась! Что ж теперь делать? — Ждать и наблюдать, — ответил благоразумный Клапауциус. — Может, что-нибудь прояснится. Пока ничто не предвещало этого. Машина, выбравшись на твердую почву, двинулась быстрее. Внутри у нее свистело, шипело и побрякивало. — Сейчас у нее распаяется блок управления и программник, — пробурчал Трурль. — Тогда она остановится. — Нет, — ответил Клапауциус, — это исключительный случай. Она так глупа, что даже остановка всей системы не причинит ей вреда. Берегись, она… Бежим!!! Машина явно разгонялась, чтобы растоптать их. Они мчались во весь дух, слыша за спиной се ритмичный, страшный топот. Так они и бежали — что ж им еще оставалось делать? Пытались было вернуться в родную округу, но машина помешала этому: обойдя с фланга, заставила их свернуть с намеченного пути и неумолимо гнала во все более пустынный край. Постепенно из стелющегося тумана начали выступать угрюмые, скалистые горы; Трурль, тяжело дыша, крикнул Клапауциусу: — Послушай! Бежим в какое-нибудь узкое ущелье… куда она не сможет пройти… проклятая… а?! — Лучше бежать… прямо, — пропыхтел Клапауциус. Недалеко тут есть городок… забыл, как называется… в общем, мы там… уфф!!!.. найдем убежище… Они побежали прямо и вскоре увидели первые домики. В эту пору дня улицы были почти пусты. Они уже пробежали немалое расстояние, не встретив живой души, когда услыхали ужасающий грохот, будто на городок обрушилась каменная лавина, и поняли, что преследующая их машина добралась до городка. Трурль оглянулся и прямо застонал. — О силы небесные! Посмотри, Клапауциус, она разрушает дома! Машина и вправду упорно гналась за ними, шагая прямо по домам, словно стальная гора, оставляя за собой руины, над которыми клубились белые облака известковой пыли. Раздались ужасные крики засыпанных, толпы высыпали на улицы. Трурль и Клапауциус бежали, задыхаясь, все вперед, пока не достигли большого здания ратуши, и сбежали вниз по лестнице в глубокий подвал. — Ну, здесь она нас не достанет, даже если всю эту ратушу нам на голову свалит! — прохрипел Клапауциус. — Но черт же меня дернул нанести тебе визит именно сегодня… Решил поинтересоваться, как идет твоя работа, и вот на тебе — узнал… — Тише, — ответил Трурль, — сюда кто-то идет. Действительно, дверь отворилась и в подземелье вошли сам бургомистр и несколько депутатов. Трурлю было стыдно рассказывать, как приключилась эта необычайная и ужасная история, и его выручил Клапауциус. Вдруг стены дрогнули, земля заходила ходуном и до подземелья донесся протяжный грохот падающих стен. — Она уже здесь? — крикнул Трурль. — Да, — отвечал бургомистр. — И требует, чтобы мы вас выдали, в противном случае она разрушит весь город… И тут же они услыхали откуда-то сверху стальное гнусавое гоготанье: — Где-то здесь Трурль… я чую Трурля… — Но ведь вы же нас не выдадите? — дрожащим голосом спросил тот, выдачи которого так настойчиво требовала машина. — Тот из вас, которого зовут Трурль, должен отсюда выйти. Второй может остаться, поскольку его выдача не является обязательным условием… — Но сжальтесь!.. — Мы бессильны, — сказал бургомистр. — Да если б ты и остался, Трурль, тебе пришлось бы отвечать за ущерб, причиненный городу и его жителям, ибо это из-за тебя машина разрушила шестнадцать домов и погребла под развалинами многих наших горожан. Лишь то, что ты находишься пред лицом смерти, позволяет мне отпустить тебя. Иди и не возвращайся. Трурль глянул на депутатов и, прочтя на их лицах приговор, медленно направился к выходу. — Подожди! Я с тобой! — повинуясь порыву, воскликнул Клапауциус. — Ты? — проговорил Трурль со слабой надеждой в голосе. — Нет… — сказал он, помолчав. — Останься, так будет лучше… Зачем тебе гибнуть понапрасну? — Идиотизм! — энергично воскликнул Клапауциус. — Что ж это, с какой стати нам погибать, неужели по прихоти этой железной кретинки? Тоже мне еще! Этого мало, чтобы стереть с лица земли двух величайших конструкторов! Вперед, мой Трурль! Смелее! Воодушевленный этими словами, Трурль побежал по лестнице за Клапауциусом. На рыночной площади не было ни души. Средь клубящейся пыли, в которой проступали скелеты разрушенных домов, стояла, пуская облака пара, машина, намного выше ратуши, вся перепачканная кирпичной кровью стен и белой пылью. — Осторожнее! — прошептал Клапауциус. — Она нас не видит. Бежим по этой улочке влево, потом направо, а там напрямик. Невдалеке начинаются горы. Там мы спрячемся и придумаем что-нибудь такое, чтоб раз навсегда отбить у нее охоту… Бежим! — крикнул он, ибо в этот миг машина их заметила и бросилась вслед, так что земля дрогнула. Мчась во весь дух, выбежали они из городка. Добрую милю неслись они, слыша позади громовую поступь колосса, гнавшегося за ними по пятам. — Я знаю это ущелье! — воскликнул вдруг Клапауциус. — Там русло высохшего потока, оно ведет вглубь скал, там много пещер, туда, скорее, сейчас ей придется остановиться!.. Спотыкаясь, мчались они в гору, взмахами рук поддерживая равновесие, но машина все не отставала от них. Прыгая по шатким камням высохшего потока, они достигли расщелины в отвесных скалах, и, увидев высоко вверху черное отверстие пещеры, полезли туда что было сил, хоть камни шатались и осыпались у них под ногами. Из большого отверстия в скале веяло холодом и тьмой. Они поспешно влезли внутрь, пробежали еще несколько шагов и остановились. — Ну, тут мы в безопасности, — проговорил, успокоившись, Трурль. — Я выгляну, посмотрю, где она застряла. — Осторожнее! — предостерег его Клапауциус. Трурль подобрался к выходу, высунулся и тут же испуганно отскочил назад. — Она лезет вверх! — крикнул он. — Успокойся, сюда-то она наверняка не войдет, — проговорил не совсем уверенно Клапауциус. — Что это? Вроде потемнело… Ох! В этот миг гигантская тень заслонила небо, видневшееся до этого в отверстии пещеры, на мгновение показалась стальная, густо усеянная заклепками стена машины, которая медленно прислонилась к скале. Теперь пещера была, словно стальной крышкой, плотно закрыта извне. — Мы в тюрьме… — прошептал Трурль, и голос его дрожал еще сильнее, оттого что наступила абсолютная тьма. — Это же был идиотизм! — в сердцах воскликнул Клапауциус. — Лезть в пещеру, которую она может забаррикадировать! Как мы могли сделать такое! — Как ты думаешь, на что она рассчитывает? после долгого молчания спросил Трурль. — На то, что мы попробуем отсюда выбраться, чтоб до этого додуматься, особого ума не надо. Опять наступило молчание. В черной тьме Трурль на цыпочках, вытянув руки, двинулся в сторону выхода. Он шарил по стене руками, пока не коснулся гладкой стали, теплой, словно нагретой изнутри. — Я чую тебя, Трурль, — загудел в закупоренной пещере металлический голос. Трурль попятился, сел на камень возле приятеля, и некоторое время они не двигались. Наконец Клапауциус шепнул ему: — Ничего мы тут не высидим, что поделаешь попробую вступить с ней в переговоры… — Это безнадежно, — сказал Трурль. — Но попробуй, может, хоть тебя она выпустит живого… — Ну, нет, не того я хочу! — ободряюще проговорил Клапауциус и, подойдя к невидимому в темноте отверстию, крикнул: — Алло, ты слышишь нас? — Слышу, — ответила машина. — Послушай, я хотел бы попросить утебя прощения. Понимаешь… ну, произошло между нами небольшое недоразумение, но ведь это, по сути, мелочь. Трурль не имел намерения… — Я уничтожу Трурля! — сказала машина. — Но прежде пусть он ответит мне на вопрос, сколько будет два плюс два. — Ах, ответит он тебе, и так, что ты будешь довольна и наверняка с ним помиришься, ведь правда же, Трурль? — успокаивающе заговорил посредник. — Ну конечно… — едва слышно пролепетал Трурль. — Да? — сказала машина. — Так сколько будет два плюс два? — Че… то есть семь… — еще тише проговорил Трурль. — Ха-ха! Значит, не четыре, а семь — так? — загудела машина. — Вот видишь! Семь, конечно же, семь, всегда было семь! — горячо подхватил Клапауциус. — Теперь ты нас выпустишь? — осторожно добавил он. — Нет. Пускай Трурль еще раз скажет, что он очень сожалеет, и ответит, сколько будет дважды два… — А ты выпустишь нас, если я это скажу? спросил Трурль. — Не знаю. Подумаю. Ты мне условий не ставь. Говори, сколько будет дважды два! — Но ты в самом деле нас выпустишь? — настаивал Трурль, хотя Клапауциус дергал его за руку, шепча на ухо: "Это идиотка, идиотка, не препирайся с ней, умоляю!" — Не выпущу, если мне не захочется, — ответила машина. — Но ты все равно скажешь мне, сколько будет дважды два… Трурль вдруг затрясся от злости. — О! Я скажу тебе, скажу! — закричал он. — Два плюс два будет четыре, и дважды два — четыре, хоть ты на голову стань, хоть ты все эти горы в прах преврати, хоть ты морем поперхнись и небо проглоти, слышишь? Два плюс два — четыре!! — Трурль! Тыс ума сошел! Что ты говоришь? Два плюс два будет семь, конечно же, семь! Машина, дорогая, семь! Семь!!! — вопил Клапауциус, пытаясь перекричать приятеля. — Неправда! Четыре! Только четыре, от сотворения мира было четыре и до конца дней его будет ЧЕТЫРЕ! — охрипшим голосом орал Трурль. Влруг скала пол их ногами затряслась, как в лихорадке. Машина отодвинулась от входа, так что в пещеру проник сумрачный свет, и тут же протяжно крикнула: — Неправда! Семь! Ты сейчас же это скажешь, как только я схвачу тебя! — Никогда не скажу! — отпарировал Трурль, словно ему уж было все равно. И тут сверху на их головы обрушился каменный град, ибо машина своей девятиэтажной тушей таранила скалистый обрыв, билась всей тяжестью об отвесную стену, и огромные глыбы откалывались от скал и с грохотом катились вниз. Грохот и удушливая кремнеземная пыль вместе с искрами, высекаемыми сталью о камень, заполнили пещеру, но сквозь адский гул атаки прорывался голос Трурля, неустанно повторяющего: — Два плюс два — четыре! Четыре!!! Клапауциус пытался силой заткнуть ему глотку, но, грубо отброшенный Трурлем, молча сел в сторонке, обхватив голову руками. Машина все не прекращала своих адских усилий, и казалось, что свод пещеры того и гляди обрушится на пленников, раздавит и погребет их навеки. Но, когда они уж потеряли всякую надежду, когда едкая пыль заполнила всю пещеру, что-то вдруг ужасно заскрежетало, прокатился медленный гром — сильнее неимоверного грохота от яростных ударов машины, — потом воздух завыл, черная стена заслоняющая пещеру, исчезла, словно ее вихрем сдуло, и вниз обрушилась лавина громадных глыб. Эхо еще катилось по долине, отражаясь от гор, а два приятеля уже кинулись к выходу из пещеры и, высунувшись до пояса, увидели машину. Она лежала, раздавленная и разбитая обвалом, который сама же и вызвала; огромная глыба лежала посреди ее девятиэтажного тела — она-то и переломила машину почти пополам. Они осторожно спустились по дымящимся каменистым завалам. Чтобы добраться до русла высохшего потока, им пришлось пройти вплотную мимо останков распластавшейся машины, подобной огромному выброшенному на берег кораблю. Молча остановились они у ее продавленного бока. Машина все еще работала, и слышно было, как внутри у нее что-то крутится с замирающим скрежетом. — Вот каков твой бесславный конец, а два плюс два по-прежнему… — начал было Трурль, но в этот момент машина слегка зашумела и неразборчиво, еле слышно в последний раз пробормотала: "СЕМЬ’’. Потом что-то тоненько звякнуло у нее внутри, сверху посыпались камни, и машина замерла, превратившись в груду мертвого металла. Конструкторы посмотрели друг на друга, а потом молча, не произнеся ни слова, зашагали по руслу высохшего потока.
КРЕПКАЯ ВЗБУЧКА Перевод А. Борисова
Кто-то постучался в дом конструктора Клапауциуса. Хозяин приоткрыл дверь, высунул голову наружу и увидел толстопузую машину на четырех коротких ногах. — Кто ты и чего тебе надобно? — Я — Машина Для Исполнения Желаний. А прислал меня в подарок тебе твой друг и великий коллега Трурль. — В подарок? — переспросил Клапауциус, который испытывал довольно смешанные чувства по отношению к Трурлю, а особенно не понравилось ему, что машина назвала Трурля его "великим коллегой". — Ну, ладно, — решил он после короткого раздумья. — Можешь войти. Приказал он машине стать в углу у печи и, будто не обращая на нее внимания, вернулся к прерванной работе. Клапауциус строил куполообразную машину на трех ногах. Она была почти готова, оставалось навести блеск. Через некоторое время Машина Для Исполнения Желаний подала голос: — Напоминаю о своем присутствии. — Я о нем не забывал, — ответил Клапауциус и продолжал работать. Вскоре машина спросила: — Можно узнать, что ты делаешь? — Ты — Машина Для Исполнения Желаний или Машина Для Задавания Вопросов? — возразил Клапауциус. — Мне нужна голубая краска. — Не знаю, тот ли это оттенок, который тебе нужен, — ответила машина, выдвигая через отверстие в животе банку краски. Клапауциус открыл банку, молча погрузил в нее кисть и принялся красить. Потом ему понадобились еще наждак, точильный камень, сверло и белила, а также болты, и каждый раз машина немедленно давала ему то, чего он хотел. Под вечер Клапауциус накрыл свое творение холстиной, подкрепился едой, сел на маленьком треножнике перед машиной и сказал: — Посмотрим теперь, годна ли ты на что-нибудь. Ты говоришь, что умеешь делать все? — Все не все, но многое, — скромно ответила машина. — Доволен ли ты красками, болтами и сверлами? — Ну конечно, конечно! — ответил Клапауциус. Но сейчас я задам тебе задачу куда труднее. Если не справишься с ней, отправлю тебя обратно к твоему хозяину, с должной благодарностью — и со своим отзывом. — Так что же тебе нужно? — спросила машина и переступила с ноги на ногу. — Нужен Трурль, — объяснил Клапауциус. — Ты должна сделать мне Трурля, чтобы он был точь-в-точь как настоящий. Чтобы их и отличить друг от друга нельзя было! Машина поворчала, побренчала, пошумела и сказала: — Хорошо. Сделаю тебе Трурля, но обходись с ним осторожно, потому что он великий конструктор! — Ах, разумеется, можешь быть спокойна, ответил Клапауциус. — Ну, так где же этот Трурль? — Что? Вот так сразу? Это ведь не что-нибудь! — сказала машина. — Тут время нужно. Трурли — это тебе не болты и не краски! Однако она на удивление быстро затрубила, зазвенела, в животе ее распахнулись довольно большие дверцы, и из темного нутра вышел Трурль. Клапауциус встал, обошел вокруг него, присмотрелся поближе, старательно прощупал и простукал, но сомнений не было: перед ним был вылитый Трурль точь-в-точь как оригинал. Трурль, вышедший из нутра машины, щурил глаза от света, но в остальном вел себя вполне обычно. — Как поживаешь, Трурль? — сказал Клапауциус. — Как поживаешь, Клапауциус? Но как я, собственно, попал сюда? — отозвался явно озадаченный Трурль. — Да так вот, просто зашел… Давно я тебя не видал. Нравится тебе мой дом? — Конечно, конечно… А что это у тебя там, под холстиной? — Ничего особенного. Может, сядешь? — Гм, сдается мне, что время уже позднее. На улице темно, пожалуй, пойду домой.
— Не так быстро, не сразу! — запротестовал Клапауциус. — Идем сначала в подвал, увидишь, как интересно получится… — А что ж у тебя такое в подвале? — Пока ничего, но сейчас будет. Пойдем, пойдем… И, похлопывая Трурля по плечу, Клапауциус отвел его в подвал, а там подставил ему ногу, повалил его наземь, связал и принялся колотить толстой жердью изо всех сил. Трурль вопил во весь голос, звал на помощь, то ругался, то просил пощады, но ничего не помогало: глухая ночь, кругом пусто, и Клапауциус продолжал лупить его так, что гул стоял. — Ой! Ай! Почему ты так бьешь меня? — кричал Трурль, увертываясь от ударов. — Потому что мне это доставляет удовольствие, — объяснил Клапауциус и снова замахнулся. — Этого ты еще не попробовал, мой Трурль! И так бахнул его по голове, что она загудела, как пустая бочка. — Пусти меня сейчас же, а то я пойду к королю и расскажу, что ты со мной делал, и он бросит тебя в подземелье! — кричал Трурль. — Ничего он мне не сделает. А знаешь, почему? — спросил Клапауциус, усаживаясь на лавку. — Не знаю, — ответил Трурль, радуясь, что трепка прекратилась. — Потому что ты не всамделишный Трурль. Он сидит у себя дома. Он построил Машину Для Исполнения Желаний и прислал ее мне в подарок, а я, чтобы испытать ее, велел сотворить тебя. Сейчас я отвинчу тебе голову, поставлю под кровать и приспособлю для стаскивания сапог! — Ты чудовище! Зачем ты хочешь это сделать?! — Я уже сказал: мне это доставляет удовольствие. Ну, хватит болтать попусту. Говоря это, Клапауциус взялся за жердь, и Трурль заорал: — Перестань! Сейчас же перестань! Я скажу тебе нечто очень важное! — Любопытно, что такое ты можешь сказать, что помешало бы мне приспособить твою голову для стаскивания сапог? — спросил Клапауциус, не переставая его бить. Тогда Трурль закричал: — Я вовсе не Трурль, сделанный машиной! Я настоящий Трурль, самый что ни на есть настоящий. Я только хотел узнать, над чем ты работаешь так давно, запершись на все замки. Вот я и построил машину, спрятался у нее внутри и приказал ей доставить меня в твой дом, а для вида назваться подарком от меня. — Ну и ну, что за историйку ты сочинил, и вот так, прямо с ходу! — сказал Клапауциус и сжал в руке толстый конец жерди. — Можешь не стараться, я твое вранье насквозь вижу. Ты — Трурль, сделанный машиной, она любое желание исполняет, я от нее и болты получил, и краску, белую и голубую, и сверла, и всякую всячину. А если смогла она все это сделать, так и тебя сделать может, дорогой мой! — Да я все эти вещи заранее приготовил! — воскликнул Трурль. — Нетрудно было догадаться, что именно тебе понадобится. Клянусь, я правду говорю! — Окажись твои слова правдой, это означало бы, что мой друг, великий конструктор Трурль — обыкновенный мошенник, а в такое я никогда не поверю, — ответил Клапауциус. — Вот тебе! И с размаху ударил его по спине. — Это за клевету на моего друга Трурля! А вот тебе еще! — и угостил Трурля еще разок. Долго он бил Трурля, лупил и колотил, пока сам не устал. — Пойду-ка теперь вздремну немного и отдохну, — сказал Клапауциус и отбросил палку. — А ты подожди, я скоро вернусь! Когда он ушел и по всему дому разнесся его храп, Трурль стал так извиваться в своих путах, что они ослабли. Трурль развязал узлы, выскользнул, тихонько побежал наверх, влез внутрь своей машины и с места в карьер помчался в ней домой. А Клапауциус, тихо посмеиваясь, глядел сквозь верхнее окно на бегство Трурля. Наутро Клапауциус отправился с визитом к Трурлю. Тот с угрюмым видом впустил его в дом. В комнате царил полумрак, но хитрый Клапауциус все равно заметил на голове и на корпусе хозяина следы крепкой взбучки, которую он ему задал, хотя видно было, что Трурль изрядно потрудился, чтобы выравнять вмятины от полученных ударов. я должен был всыпать ему за такое наглое вранье? Однако я убедился, что у него недюжинный ум и, стало быть, он не только физически, а и духовно подобен тебе, мой дорогой. Воистину ты великий конструктор, именно это я хотел тебе сказать и с этой целью пришел спозаранку! — Ах так! Ну да, конечно, — ответил, уже несколько смягчившись, Трурль. — Правда, то, как ты обошелся с Машиной Для Исполнения Желаний, попрежнему кажется мне не самым удачным, да уж ладно… — А кстати, я как раз хотел спросить, что ты сделал с этим искусственным Трурлем? — невинно спросил Клапауциус. — Нельзя ли мне повидать его? — Он просто с ума сошел от ярости! — ответил Трурль. — Грозился, что спрячется за большой скалой у твоего дома и раздробит тебе череп. А когда я попытался урезонить его, он на меня стал бросаться. Ночью принялся плести из проволоки силки и сети на тебя, друг мой. И, хотя я считаю, что в его лице ты оскорбил меня, все же ради давней дружбы нашей, ради твоей безопасности (потому что он себя не помнил от злости) разобрал я его на мелкие части, нс видя иного выхода. Говоря это, Трурль, будто от нечего делать, пнул какие-то детали, разбросанные на полу. Посте этого они тепло попрощались и расстались, как сердечные друзья. С той поры Трурль только и делал, что каждому встречному и поперечному рассказывал всю эту. — Что это ты такой хмурый? — весело спросил Клапауциус. — А я пришел поблагодарить тебя за чудесный подарок, жаль только, что, пока я спал, машина умчалась, словно на пожар, даже дверь не закрыла! — Кажется мне, что ты неправильно обошелся с моим подарком, чтобы не сказать больше! — взорвался Трурль. — Машина мне все рассказала, не утруждай себя, — добавил он со злостью, видя, что Клапауциус открыл было рот. — Ты велел ей сотворить меня, меня самого, а потом коварно завлек двойника моей особы в подвал и там варварски избил его! И после нанесенного мне оскорбления, после такой черной неблагодарности за великолепный дар ты еще осмелился как ни в чем не бывало прийти сюда? Ну, что ты можешь сказать? — Никак не пойму, на что ты гневаешься, ответил Клапауциус. — Действительно, я велел машине изготовить твою копию. Скажу тебе, она удалась на славу, я был просто поражен, увидев ее. А насчет битья машина сильно преувеличивает, — я, правда, пихнул твоего двойника разок-другой, хотел проверить, прочно ли он изготовлен, к тому же хотелось узнать, как он среагирует. Он оказался на редкость шустрым. С ходу придумал историю: будто это вовсе и не он, а ты своей собственной персоной. Я, конечно, не поверил, а он стал клясться, что щедрый подарок — это вовсе не подарок, а обыкновенное мошенничество. Ты, надеюсь, понимаешь, что, защищая твою честь, честь моего друга, историю: как он подарил Клапауциусу Машину Для Исполнения Желаний и как недостойно поступил тот с машиной, приказав ей изготовить двойника Трурля, а затем дал ему взбучку. Как этот двойник, великолепно изготовленный машиной, с помощью всяческих ухищрений пытался вырваться и сбежал, едва уставший Клапауциус уснул. И как сам он, Трурль, разобрал прибежавшего домой невсамделишного Трурля, сделал же он это лишь ради того, чтобы спасти своего друга Клапауциуса от мести пострадавшего. И до тех пор он рассказывал об этом, и хвастал, и пыжился, и призывал в свидетели самого Клапауциуса, пока весть об этом необычайном происшествии не дошла до королевского двора. Теперь все, там отзывались о Трурле не иначе как с величайшим восхищением, хотя совсем еще недавно его повсеместно называли Конструктором Самых Глупых Мыслящих Машин в мире. А когда Клапауциус услыхал, что сам король щедро одарил Трурля и наградил его Орденом Великой Пружины и Геликоноидальной Звездой, он завопил во весь голос: — Как же так? Значит, за то, что удалось мне его перехитрить, за то, что я его разгадал и задал ему такую крепкую взбучку, так что ему пришлось потом долго переклепываться и лататься, за то, что он несолоно хлебавши бежал на перекошенных ногах из моего подвала!.. И после всего этого он утопает в богатстве! Мало того — король жалует его орденом! О Вселенная! И, ужасно разгневанный, возвратился Клапауциус домой и снова заперся на все замки. Ибо он строил такую же Машину Для Исполнения Желаний, как и Трудов, только тот раньше ее окончил.

Конец


Последние комментарии
1 день 22 часов назад
2 дней 3 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 8 часов назад