В Киеве всё спокойно [Виктор Гавура] (fb2) читать онлайн
Книга 467767 устарела и заменена на исправленную
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
В Киеве всё спокойно Гавура Виктор Васильевич
Деньги дают независимость, но не всегда. Порой они ничего не дают, а только забирают. Ни за какие деньги не купишь средство от духовной нищеты. Открой эту книгу, и ты узнаешь кое-что о блеске и нищете охотников за деньгами.Сумерки сгущались. От разлившейся неподалеку Десны тянуло болотной тиной. — Погнали! — дал отмашку Куцый Оскалив редкие, похожие на пеньки зубы, он нажал на кнопку, болтавшегося на проводе звонка. Где-то в глубине музея задребезжал электрический звонок и смолк. Высокий старый дом, чернея впадинами окон, настороженно молчал. Куцый опять потянулся к звонку, но тут раздался такой же, дребезжащий старческий голос. — Музей закрытый! Вы что, не видите разве расписания? Поздно уже, завтра приходите. Завтра будет открыто, тогда и приходите, а теперь закрыто… Планируя налет, Быря вместе с Куцым два раза приходил «на экскурсию» в художественный музей, расположенный в глубине парка на Черниговском Валу. Он помнил этого тощего говорливого старика, с какой-то прорезью на коже вместо губ. Быре запомнилась его порыжевшая от времени форменная фуражка, точь-в-точь, как у Иван Савельича, истопника в их детдоме. Старик так перетянул себя в поясе портупеей, что стал смахивать на большую букву «Х» с револьвером на боку. А револьвер-то у него настоящий, как у одного злого, как собака вертухая на крытой перед этапом. — Открывайте сейчас же! Это я, Шинкаренко! Дежурный электрик, меня к вам из ЖЭКа прислали, — требовательно отозвался Куцый. Сложив ладони рупором и вплотную прижав их к щели меж створок дверей, он кричал, тщательно дозируя голос, чтобы со стороны никто не услышал. — У вас на стене возле окна, где подвод электропитания, провода искрят, музей может загореться. Мне некогда тут с вами возиться, это не мой участок! Пойду сейчас спать, и горите тогда огнем со всеми потрохами… — Подождите! Не уходите, пожалуйста. Мне по инструкции открывать нельзя, я должен позвонить сначала, — заволновался за дверью старик. — Ну, не знаю… Если надо, тогда, звоните. Только поскорее, я не собираюсь тут под дверью ночевать, — подумав, недовольно согласился Куцый и, выждав короткую паузу, забарабанил кулаком в дверь. — Дед, слышь, дед! Та, быстрее ты! Лестницу тащи живей, провода горят уже! Кажись, и внутри у тебя, в музее горит! Пожар, говорю, слышишь ты или нет?! Донеслись спускающиеся по лестнице шаги, щелкнул замок, с лязгом отодвинулся засов и дверь приоткрылась. Куцый рванул ее на себя и, схватив старика за горло, втолкнул в фойе. Быря метнулся следом, они вдвоем свалили старика на пол. Быря быстро связал ему руки и ноги. Куцый отпустил горло старика только после того, как Быря заклеил ему рот скотчем. Отпустив горло, он тут же вытащил у него из кобуры «Наган». Они вдвоем потащили старика вверх по лестнице на площадку, где был его пост. Отодвинув стоящий у стола стул, Куцый подскочил к пульту на стене и защелкал тумблерами сигнализации, а затем, сдернув со щитка ключи, кинулся в сторону картинной галереи. Быря приостановился у стола на посту, взглянул на старика и захолонул… Старик не дышал. Он и сам едва не сдох от такой непрухи. В бога-душу-мать! Дед, божий одуван, доживал себе тихо, кому он мешал?! Пахал себе на старости, видно не от хорошей жизни подрабатывал, худющий весь, а они его угробили. Зазря! Поцарапав кожу до крови, он содрал скотч с его рта, тряс и теребил старика, что есть сил, припадая к впалому рту, вдыхал в него воздух, который тут же с пузырями соплей вырывался из носа. Что он ни делал, старик не дышал, лежал холодный, ни согреть его, ни поднять. Быря сел рядом на пол и, обхватив руками колени, не отрываясь, смотрел на него. Он бы все на свете отдал, чтобы старик ожил. Да нечего отдавать, ‒ чудес на свете не бывает. Казалось, прошла вечность, как вдруг старик пошевелился! Он сделал вдох, затрепетал бледными пленками век и открыл глаза. Судьба не баловала Бырю, после детдома все у него шло на перекос. Но он бы покривил душой, если бы сказал, что на его долю не выпадали радостные минуты. Не часто, но они случались, и эта, была самой радостной из всех. — Послушай, дед, лежи тихо и ничего тебе не будет. Крестом клянусь. Я даже рот тебе не буду заклеивать, вот только здесь, сбоку, прилеплю и все, а то кореш будет возражать. Полежи тихо, очень тебя прошу, — ласково погладив старика по плечу, Быря побежал в сторону картинной галереи. Куцый давно уже отомкнул дверь и, как хорёк в курятнике, метался по залу. Увидев, вбежавшего Бырю, он молча, погрозил ему кулаком, продолжив полосовать картины. Как было договорено, чтобы не мешать друг другу, Быря начал вырезать картины из рам с противоположной стороны зала. В тишине было слышно только, как краска осыпается на пол. Острое лезвие обойного ножа быстро тупилось, и Быря каждый раз забывал выдвигать его из черенка, вспоминая об этом лишь тогда, когда нож начинал рвать полотно картин. Поспешно сворачивая какую-то длинную картину в постоянно перегибающуюся в руках трубу, он не заметил в полумраке и задел, стоящий на подставке бюст. С оглушительным грохотом эта белая голова рассыпалась по паркету множеством осколков, и тут же под подбородок Быре уперлось дуло «Нагана». — Ты, каз-з-злина! Бырь смоленный, спалить нас хочешь?! — засипел ему в ухо Куцый и тут же попятился назад. — Лады, лады… Бей посуду, я плачу, — примирительно прошептал Куцый, потирая уколотое место на животе. Пока Куцый в три прыжка пересекал зал, Быря уже сжимал в руке рукоять финки и, если б тот не перестал качать права, он бы точно его запорол. Не за козла, сам виноват, дал в штангу, ‒ за старика. — Шабаш, дружаня. Пакуемся и валим? — с ангельской кротостью спросил-попросил Куцый. С белых стен на Бырю глядели огромные пустые рамы. В тех безмолвно чернеющих четырехугольниках, не было ничего особенного, но не знающего страха Бырю пробрало. Проходя мимо лежащего на своем посту старика, Быря остановился и, отведя взгляд от его жалких, мигающих глаз, твердо сказал: — Оставь пушку. Мы с нею спалимся. И деду за нее влетит больше, чем за картины. — Как скажешь, — уступчиво согласился Куцый. Он вынул из-за пояса револьвер и положил на стол. Пропустив вперед себя Бырю, несущего на плече завернутый в узорчатый линолеум рулон картин, Куцый сказал ему вслед: — Спускайся, я двери в зал прикрою, а то свет отсюда с улицы могут увидеть. Сделав несколько шагов по коридору в сторону картинной галереи, Куцый тихо вернулся, взял со стола револьвер, сунул его сзади под пиджак за ремень, и заспешил на выход.
Глава 1
Киев спал. И Ему снились сны. До рассвета оставалось еще долгих три часа. Легкомысленные утренние сны снились и трем миллионам киевлян. В самом длинном девятиэтажном доме на проспекте Правды светились окна только лестничных площадок подъездов. Не видно было света и в окнах квартиры сто двенадцать на пятом этаже, хотя они и должны были бы светиться, потому что в ее просторной зале, объединенной из двух больших комнат, горели все лампы дворцовой люстры богемского хрусталя. Тысячи радуг сияли в гранях ее подвесок. Но из-за плотно занавешенных портьер, которыми служили средневековые гобелены с голубыми Адриатическим пейзажами, свет на улицу, как бы ни старался, пробиться не мог. За большим прямоугольным столом, сервированным с изысканным шиком, расположилось четверо мужчин. Трое их них, пребывали в зрелом возрасте, четвертому, было около тридцати. Во главе стола сидела хозяйка квартиры сорокадевятилетняя Альбина Станиславовна, представительная натуральная блондинка, с подчеркнуто гордой осанкой и пышно взбитыми золотистыми волосами. Держалась она очень прямо, выказывая каждому за столом одинаково приветливые знаки внимания. От нее веяло невозмутимой аристократической сдержанностью. Ее неторопливая речь, скупые, но красноречивые жесты, открытое скуластое лицо с ясным взглядом больших, широко поставленных жемчужно-серых глаз, весь ее облик указывал на твердую волю и душевное спокойствие. Стол был накрыт, блистающей белизной, тяжелой льняной скатертью. По углам нежно-зеленых салфеток в кольцах серебряных салфетниц, виднелся рельефный, вышитый белоснежным шелком вензель с инициалами «АР», означавший: «Альбина Розенцвайг». Особенное очарование сервировке стола придавали нарядные букеты из живых орхидей в двух букетницах старинного китайского фарфора. Они стояли на противоположных концах стола так, чтобы не заслонять друг от друга сидящих. Место на столе приходилось использовать продуманно, поскольку сегодня он был сервирован большим банкетным китайским сервизом на шесть кувертов. Главное в сервировке стола — красота и удобство. Здесь, как нигде, необходимо чувство меры, загроможденный стол напоминает базарный прилавок. Предметом гордости Альбины Станиславовны были, собственно, эти букетницы. Эти оригинальные творения были на две сотни лет старше самого сервиза и несколько не соответствовали ему, а быть может, напротив, подчеркивали его совершенство, ‒ это уж как кому… На идеально равном расстоянии симметрично друг другу были расставлены шесть больших неглубоких тарелок, поверх которых были поставлены закусочные тарелки, а слева от них стояли меньших размеров пирожковые тарелки с расстегаями. Только что выпеченные, источающие необыкновенные ароматы расстегаи, содержали разнообразные начинки. Через отверстия сверху виднелись шафрановые ломтики отварной осетрины, розовые кусочки соленой лососины, рубленные крутые яйца со всевозможными мясными начинками, а то и крохотные шляпки маринованных грибов. Каждому виду начинки соответствовала определенная форма этих незакрытых, «расстегнутых» пирожков: лодочка, елочка, саечка, калачик, карасик. Были среди них и московские, и даже мало кому известные, новотроицкие расстегаи. В миниатюрных серебряных чашечках были поданы яйца-кокотт с шампиньонным пюре. В хрустальных розетках на льду поблескивала красиво выложенная матово-темная зернистая икра, с заметной на глаз отличной разбористостью. Каждая икринка была целой и не смятой, свободно отделялась одна от другой, легко раскатываясь в дробь. Столетний тонкостенный фарфор матово просвечивал, как хрупкая яичная скорлупа. Обращала на себя внимание грациозность форм посуды сервиза, а золоченый узор на белом фоне подчеркивал ее богатство. Круглые, продолговато-овальные и квадратные блюда с закусками были поставлены ближе к центру стола. Перед каждым прибором в два ряда стояли разновеликие рюмки, стопки, бокалы и фужеры в количестве пяти штук. Ближе к тарелке выстроились маленькие рюмки для крепких напитков, рюмки для мадеры или портвейна и фужер для минеральной или фруктовой воды. Во втором ряду, чуть отдаленнее, стояли высокие рюмки старого цветного стекла для белого столового вина и сверкающие бликами граней хрустальные бокалы для шампанского. Удлиненные зеленые бутылки с коллекционными грузинскими винами и отделанные серебром хрустальные графины с тремя сортами водки и французским кальвадосом живописными группами расположились по средней линии стола. В центре, венчая стол, возвышался редкостной красоты графин многослойного стекла с рубиновым наслоением. Украшением стола была любимая Шеиным сорока трех градусная «Старка» и армянский коньяк. Учитывая их исключительность, они были поданы в собственных бутылках. В заблаговременно откупоренные винные бутылки были вставлены фарфоровые пробки. Они были из другого, не уцелевшего до наших дней сервиза, на триста лет старше первого, но вполне гармонировали ему. Чуть тронутые тонкой паутиной времени пробки были сделаны в виде фигурок гримасничающих обезьян. Среди них были и три знакомые тем, кто кое-что постиг в жизни. Своими крохотными лапками они показывали бестолковым людям, как можно уцелеть в этом безжалостном мире: «не вижу», «не слышу», «никому ничего не скажу». В свете люстры сверкало заново отполированное старинное серебро многочисленных щипцов, ложек и лопаточек для накладывания закусок, разных видов вилок и изысканной формы ножей с выпуклым витым орнаментом на массивных ручках. Серебро и хрусталь блистали под стать друг другу на белом поле этого праздничного стола. Вся эта роскошь и великолепие с безумно высокой ценой воспринималось легко, как и должно приниматься все прекрасное. В короткой нашей жизни встречаются вещи, красоту которых не оценить в денежных единицах, хотя примитивные особи всегда норовят это сделать. Вселяет надежду то, что это им не всегда удается, ведь до сих пор им не удалось оценить, купить и продать радугу, северное сияние и неземные колера морских закатов. Если же окинуть взглядом эту парадную комнату в целом, то сразу было видно, что Альбина Станиславовна превосходная хозяйка. Несмотря на обширность и даже избыточную вместительность ее гостиной, она была уютна и со вкусом обставлена. Стены ее были обиты лазурным шелком с цветами жасмина, разбросанными наугад. Старинная мебель из ценных пород тропических деревьев при всей своей роскоши отличалась сдержанным благородством. Она была расставлена так, что каждый предмет мог быть должным образом оценен и рационально использован. Даже мозаичный паркет здесь был антикварным, из уцелевшего дворца известнейшего на всю Россию сибаритствующего царедворца. В Киеве немало богатых домов, отделкой и интерьером которых занимались опытные дизайнеры, но ни в одном из них не было такого утонченного шика, и вместе с тем, кажущейся простоты. Высокая образованность и тонкий ум хозяйки проявились здесь в таком равновесии, что видимая роскошь, смягчалась требовательной дисциплиной чувства меры и воспринималась, как проявление изысканного вкуса. Главным украшением гостиной были несколько старинных картин, приобрести которые почел бы за честь любой музей мира. Лишь одна из них была современная, выделенная среди остальных скрытыми от глаз индивидуальными светильниками, что придавало ей некое сияние, подобно драгоценному камню. Ее нахождение здесь представляло собой парадоксальное смешение старого с новым, техник и стилей, и всего остального прочего, но даже несведущему в живописи было видно, что это доподлинный шедевр, который непостижимым образом оттенял и чем-то дополнял полотна прежних мастеров. Эта картина вносила диссонанс в общий фон, подчеркивая совершенство старинных холстов, она была исполнена беззвучным криком, напряженными горячими цветами напоминая о том, что приобрел и безвозвратно утратил современный человек. Крючьями истязателя, имя которому совесть, она делала еще горше горечь неизменно присущую красоте. В основе ее лежала вопиющая к небесам неправда жизни, что красною нитью прошила сюжет. В углу, наискось, снизу вверх, над подписью гения была начертана размашистая надпись: «The World is Your!»[1] Место для шестого гостя, по правую руку от Альбины Станиславовны, пустовало. Сегодня ее античный нос с «греческой» горбинкой недовольно морщился чаще, чем обычно, и не только из-за яркого света люстры. Она вообще редко ее включала, предпочитая зажигать покрытые вековой патиной бронзовые настенные канделябры с великолепными подвесками из горного хрусталя. Древние считали хрусталь застывшей водой, льдом, замерзшим так сильно, что ему уж не дано растаять. Но еще больше ей нравился мягкий живительный свет горящих свечей в парных серебряных шандалах, украшавших пианино. Люстру Альбина Станиславовна включала лишь тогда, когда надо было пристально наблюдать за выражением лица собеседника, тщательно фиксируя вазомоторные реакции в ответ на продуманные, наполненные затаенно-скрытым значением слова и фразы, многие из которых готовились заранее. По непроизвольно меняющемуся выражению лица, отдельным жестам, едва уловимым изменениям тембра голоса она воссоздавала внутреннюю суть человека, оценивая его потенциальные возможности, и прогнозируя поступки. Сама же Альбина Станиславовна была женщиной со своим собственным стилем и манерой держаться. Она всегда обдумывала линию своего поведения, при этом досконально владела не только своими чувствами, но и выражением лица. Постоянно сохраняя бдительность, чтобы не выйти из намеченной роли, она никогда не допускала, чтобы уста говорили одно, а глаза — другое. По правде говоря, «Старку» и пятидесяти семи градусный коньяк «Ереван», оригинальные образцы которого достать среди океана подделок не проще, чем птичье молоко, Миша Шеин любил только на словах, не выпивая их за вечер и одной рюмки. Скорее, это была традиция, ‒ дань памяти его кумиру, незабвенному Роману Львовичу Сандомирскому. Он-то точно отдавал предпочтение именно этим крепким напиткам, а отдавши, устраивал свои небезызвестные оргии с мальчиками… Сам же Миша, если изредка и позволял себе что-нибудь выпить, то останавливал свой выбор на крем-ликере «Кизиловый», с крепостью не более двадцати градусов. А вот «Кизиловый» ликер отыскать было труднее, нежели птичье молоко. Во времена застоя, если поискать, «Кизиловый» можно было купить в обычном гастрономе. Теперь же, во всем СНГ с коммунистических времен осталось четыре аутентичные бутылки, и все они в надежном месте хранились у Альбины Станиславовны. Но подавать его время еще не пришло. «Кизиловый» дожидался своего часа, перелитый в драгоценный французский ликерный прибор семнадцатого века, состоящий из тяжеловесного хрустального графина с Дианой в окружении благородных оленей и маленьких рюмок на коротких толстых ножках. Альбина Станиславовна не без основания слыла отменной кулинаркой, предусматривающей не только отдельные нюансы, но и их оттенки. Она дала распоряжение Миле, своей вышколенной пятидесятилетней домработнице, подать ликер к английскому чаю, брюссельскому печенью, а главное, не далее как сутки назад собранной малине и крупной садовой землянике, редкостью в это время года. Где же Михаил? В который уж раз задавала себе вопрос Альбина Станиславовна. Разуметься, он способен на легкомысленные поступки, беспорядок в голове священен, но он бы никогда не опоздал на эти судьбоносные «смотрины», обставленные в виде званого ужина. Поправив на плоской груди пышный волан розовой блузки от кутюр, Альбина Станиславовна незаметно вздохнула. Розовый цвет вызывает ассоциации незащищенности, подумала она. Красивая одежда — оружие женщины. Когда женщина красиво одета, она чувствует себя защищенной. Защищенной?.. От кого? От всех и, прежде всего, от мужчин… Альбина Станиславовна находила, что приобретение дорогих и очень модных вещей еще не свидетельствует о вкусе и умении одеться. По ее мнению, одежда должна соответствовать возрасту и общему облику человека, а женская одежда, это вообще отдельная тема, огромная, как континент. Подбирать одежду для женщины надо в зависимости от особенностей ее характера, а главное, она должна гармонировать с внутренним ее содержанием, но для этого женщина должна уметь тонко чувствовать себя. Чтобы вещь хорошо сидела и скрывала недостатки фигуры, необходимо начинать с выбора белья. Фасон бюстгальтера и пояса должны идеально соответствовать фигуре, а подобрать их бывает не так-то просто. И только после этого, осмотрев себя критически, учтя положительные качества и недостатки своей внешности, избранным туалетом следует подчеркнуть все соблазнительные изгибы женского тела. Если же модная вещь не подходит к фигуре, а какой-то аксессуар не совпадает с остальными предметами туалета, то, как бы модно и дорого женщина ни оделась, безвкусица будет налицо, а этого Альбина Станиславовна никогда бы себе не позволила. В список ее недостатков не входил дурной вкус. Истинная же элегантность не бывает без простой человеческой привлекательности и обаяния. По классическим канонам женщина может считаться нисколько не красивой, но если в ее походке, манерах, жестах, в одежде есть нечто, что составляет ее собственный стиль, успех ей обеспечен. Собственный стиль — это она сама, это ее суть и неповторимость женщины, которую надо беречь даже от переменчивых требований моды. Параллельно размышляя обо всем этом и наблюдая себя со стороны, Альбина Станиславовна продолжила начатый, будто бы ничего не значащий, светский разговор. Ей часто удавалось быть здесь, и в то же время где-то, думая одновременно о нескольких, совершенно разных вещах. — Скажите, пожалуйста, Николай Иванович, вы играете в карты? — поинтересовалась она у своего соседа слева, приветливо улыбнувшись ни к чему не обязывающей любезной улыбкой. Речь ее отличалась ясностью выражений и изяществом дикции, с хорошо выверенными паузами и интонациями. — Бывает, — односложно ответил тридцатилетний атлет с коротко остриженной круглой головой. У него были грубые черты лица и плотоядные губы, и толстая золотая цепь на толстой шее. Одет он был в черный кожаный пиджак, под ним, расстегнутая едва ли не до пояса, мятая черная рубаха. — А какой игре вы отдаете предпочтение? — слегка поведя поднятым, но вовсе не задранным подбородком, с той же, неизменной учтивостью уточнила Альбина Станиславовна. — В дурака… Играю, — отпив половину фужера водки и не стараясь унять громкую отрыжку, степенно ответил Николай Иванович и обвел окружающих тяжелым взглядом выпуклых свинцово-дымчатых глаз. Через такие глаза в голову не заглянешь, подумала Альбина Станиславовна. Психологи утверждают, что первое впечатление о человеке на 55 % зависит от визуальных ощущений, на 38 % — от тона его голоса, и только на 7 % — от того, что он говорит. Альбина Станиславовна была с этим согласна, но лишь отчасти. Эти наблюдения, без сомнения, достоверны, но они получены в условиях психологических лабораторий при общении с обычными людьми. Интересно, осталось бы тем же процентное соотношение и, что бы сказали психологи, если бы им пришлось работать в «полевых» условиях, составляя свое мнение об этом экземпляре? — О, этого вполне достаточно. Вы не подскажете мне, кто в картах главнее, дама или валет? — сдерживая нарастающее раздражение, мягко продолжила Альбина Станиславовна. Безмятежное состояние духа редко покидало ее. — Дама, — небрежно бросил Николай Иванович, пережевывая осетровый балык. В воцарившейся тишине было слышно, как под его крепкими зубами трещат податливые осетровые хрящики. — А вы не задумывались, почему?.. — с акцентуацией, как при разговоре с недоумком, кротко уточнила Альбина Станиславовна. Некоторые вопросы она конструировала с таким подтекстом и эмоциональным оттенком, которые подсознательно программировали и фиксировали ответ. — Никогда. Я валет, но козырный и твои расклады, Альбинка Станиславовна, не катят, — через силу выговорил Николай Иванович, ворочая во рту, втиснутые туда четыре ломтика балыка. Этот урод битый час запихивается одним балыком без хлеба и приданных к осетрине сливочного масла, лимона и свежих овощей, автоматически отметила про себя не скупая в отношении еды Альбина Станиславовна. Ее раздражал этот новый украинский делец по фамилии Напханюк. Нельзя сказать, чтобы раздражал он ее уж очень сильно, потому как Альбину Станиславовну не могло задеть что-либо «очень», поскольку она уже давно стояла над всем. Она знала, что нельзя смешивать чувства с интересами дела, это мешает принимать правильные решения. Котлеты должны быть отдельно, а мух, — ешьте сами… Альбина Станиславовна получала душевное отдохновение при общении с людьми умными, в большинстве своем, они обладают врожденным тактом, ведут себя пристойно, не теряя чувство меры в поведении и поступках. В человеческих отношениях много всякого разного, в том числе и хорошего, ведь ничто не сравнимо с роскошью человеческого общения. Здесь же, была рабочая обстановка, только с подобными «напханюками» и приходится в последнее время общаться. Хочешь, работай, а не хочешь… Что?! Что́, если не хочешь? Ходи голодной. В свое время выбор она сделала, теперь приходится терпеть. Терпеть? Но, ради чего?! Этот вопрос она все чаще себе задавала. И такой ли уж голодной? Альбина Станиславовна давно обеспечила себя на всю оставшуюся жизнь, но никак не могла остановиться. Процесс стяжания денег, больших, легко достающихся денег, открывающих путь к неограниченной свободе, затягивал подобно водовороту, и освободиться из него было не проще, чем из петли. Человек — бездонный сосуд желаний, его не наполнить, если желания касаются только материального. А богатство, это еще не свобода, легко стать рабом своего богатства. Детально рассмотрев и подвергнув тщательному анализу внешность и поведение Напханюка, Альбина Станиславовна не нашла ни одной особенности его натуры, по которой сразу узнают друг друга настоящие люди. Как на личности, она поставила на нем крест, как человек, он для нее был равен нулю, подобно неодушевленному механизму, он был пригоден только для дела. У такого рода господ преувеличенное мнение о собственной значимости. Благоприятное стечение обстоятельств и родственные связи он принимает за свои выдающиеся способности. У него свой офис, поставленный на конвейер куриный бизнес и основное, ‒ у него есть возможность организовать чартерный рейс в любую точку Европы. Это главное, а прочие мелочи следует отбросить, решила она.* * *
Поблагодарив хозяйку, гости поднялись, устоявшиеся правила стола предписывали уходить всем вместе. За весь вечер не было сказано ни одного тоста. Альбина Станиславовна сама об этом попросила, деликатно остановив уж было собравшегося начать витийствовать Оксамытного. Это его ничуть не смутило и не задело, слишком хорошо и давно они знали друг друга. Остальные же, Хрюкин и Григорьев, знали Оксамытного не хуже, и приняли это с заметным облегчением. Во всяком случае, каждый из них обратил внимание на необычность завершившегося ужина, поскольку было в нем, много недосказанного. Все они были давно знакомы с Альбиной Станиславовной, каждый из них имел о ней свое мнение, и относились они к ней по-разному. И каждый из них (кто был на это способен), относился к ней с уважением. Вследствие этого они со снисхождением закрыли глаза на некоторую натянутость сегодняшней обстановки и какую-то немотивированную напряженность хозяйки, что было ей не свойственно. В передней вышла небольшая заминка, пришлось дожидаться Напханюка. Он заперся в туалете и не подавал оттуда никаких признаков жизни. Уже неоднократно высказывалось предположение, не уснул ли он там, от трудов своих праведных… — Как вам наш новый знакомый? — устав перебрасываться пустыми фразами, доверительно поинтересовалась Альбина Станиславовна у своих партнеров по бизнесу. В этом кругу она вполне могла себе это позволить. Вячеслав Александрович первым, поигрывая замаслившимися глазками и сладко улыбаясь, поспешно поднял большой палец левой руки вверх. Двое других, молча, глядя ей в глаза, подобно завсегдатаям Колизея, опустили большие пальцы правой руки вниз. Pollice verso[7], с удовлетворением отметила Альбина Станиславовна. Не от этих двух жестов, отнюдь, они были закономерны, а от того, первого, который изобразил Григорьев, Альбина Станиславовна еще больше утвердилась в самых скверных своих предчувствиях.
Глава 2
В квартире сто шестнадцать тоже не спали. На этаж выше сто двенадцатой квартиры, в квартире сто шестнадцать за столом друг против друга сидели двое мужчин и который уж час, молча курили. На каждом из них были надеты наушники, на столе в рабочем беспорядке были разложены многочисленные модули подслушивающей аппаратуры, тонкий шнур сверхчувствительного микрофона уходил в просверленный паркет. Беззвучно вращалась кассета магнитофона «Panasonic». Когда Альбина Станиславовна закончила переговоры с Напханюком, капитан СБУ[8] Очерет посмотрел на часы, незаметно взглянув на своего визави лейтенанта Мусияку, и сделал пометку в блокноте. Мусияка, в свою очередь, сделал вид, что ничего не произошло. Мурлыча себе под нос какой-то напев, на одном из листков, позаимствованных им из блокнота Очерета, он тщательно вырисовывал шариковой ручкой скрипичный ключ. «Все он слышал, не мог не слышать, не музыку же он слушает», ‒ подумал Очерет. ‒ Шифруется, но неубедительно, значит, подсадка. А ключ твой, сука ты скользкая, ключ соль первой октавы, этот разговор и есть соль всего дела». Капитан Очерет даже не догадывался, насколько точно он разгадал смысл рисунка своего подчиненного, которого ему навязали в партнеры. Эта пара, получив так называемое «генеральное задание», последнюю неделю проводила активную разработку Розенцвайг. По официальной версии она подозревалась в продаже экономических секретов Украины иностранному государству. Но это была лишь ширма, подобных секретов не существовало в помине. Впрочем, нет, возможно, какие-то и были, но все они уже давно перестали быть секретами и были проданы и перепроданы по несколько раз. Начальник Очерета генерал-майор Останний из агентурных источников получил информацию о том, что Розенцвайг за короткое время скупила у разных лиц большую партию очень дорогого антиквариата, и попросту хотел прибрать его к своим рукам. Генерал не доверял Очерету, своему лучшему сотруднику и нетипичному офицеру службы безопасности. Генерал не доверял ему, поскольку знал о его проницательном уме и способностях, каких, он и представить себе не мог. Соорудив изощренную систему сдержек и противовесов, он многие годы мешал продвижению Очерета по службе. В органах безопасности легко манипулировать устными и письменными характеристиками на своих подчиненных. Блестящего офицера разведки можно выставить полной бездарностью, а его личные и несомненные результаты оценить, как случайный успех. И напротив, тупицу и лентяя, незнающего азов работы «в поле» (на сленге сотрудников секретных служб это означает заниматься оперативной работой), и вообще неспособного работать с людьми, можно представить, как старательного работника, который не ищет легких путей. Проверить начальника нельзя, ведь абсолютно все если ни «совершенно секретно», то «государственная тайна». Он и генеральские погоны получил только благодаря заслугам Очерета. Генерал знал, что они оба об этом знают, и первостепенное, он знал, что Очерету до самой подноготной известно, что собой представляет Останний. Генерал боялся и ненавидел самостоятельно мыслящих людей, трусость и карьеризм свились в нем в клубок с иезуитской хитростью и апломбом невежды. Он, как снайпер, следил за каждым шагом Очерета, дожидаясь когда тот совершит какую-то, хоть малейшую ошибку, чтобы от него избавиться. Но Очерет не давал ему такой возможности. Генерал давно уже завел на Очерета досье и накапливал на него компрометирующий материал. К большому огорчению Останнего, за многие годы его «собирательной» деятельности, компромата не удалось наскрести даже на выговор. Но он не терял надежды, зная простую истину, что тот, кто работает, непременно когда-то ошибется. Знал об этом и Очерет. Знал и продолжал работать, как однажды запущенный вечный двигатель, черпая энергию в своей непреклонной стойкости, находчивости и выдержке. Когда Очерет начинал свою работу в службе безопасности, он был уверен в огромных интеллектульно-аналитических возможностях этой организации. Вскоре он разобрался, что это не так. Среди его сослуживцев, как и везде, преобладала посредственность, а то и самоочевидная вопиющая тупость. Стекавшийся отовсюду поток информации не поддавался анализу, для надежности его засекречивали и клали под сукно. В первое время он считал это издержками системы, которые можно и надлежит исправить. Понимание ответственности своего назначения окрыляло его, он продолжал трудиться сутки напролет, настолько ему нравилась его работа, он горел желанием все силы и жизнь отдать для успеха общего дела ‒ охраны безопасности своей Родины. В этом нет ничего необычного, разведывательная работа всегда жизнь на службе. Уныние, ‒ эта язва, которая способна подточить дух любого из сотрудников спецслужб, никогда не посещало его. Любая задача ему была по плечу. Он обладал волей, решительностью и упорством, идя по незаметным, петляющим следам через все препятствия, которые расставляли ему его умные противники, агенты иностранных спецслужб и лидеры местных и международных организованных преступных группировок. Очерет непоколебимо верил, что нет ничего невозможного для сильной воли. Таких слов, как «это не может быть сделано», не существовало в его лексиконе. Долг и Честь не были для него пустым звуком. И был он светел, совсем не из тех, кто «отродясь оскорблен». Теперь же его переполняла горечь и разочарование. Очерет был одарен творческим воображением и острым изобретательным умом. Время от времени у него появлялись блестящие идеи, о которых он докладывал своему начальнику; тот, в лучшем случае, выдавал их за свои. Но чаще вовсе их отвергал, либо изменял их до такой степени, что они теряли всякий смысл. Очерет пробовал обращаться к вышестоящему начальству, но этим только испортил себе репутацию, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он не привык к такому отношению к себе, это его удивляло и возмущало. За годы службы он выполнил немало трудных заданий, не раз рисковал жизнью. Служил он не за звания и ордена и, конечно же, не за деньги. Разведчик, который работает за деньги, это уже не разведчик, а проститутка, которая отдастся тому, кто больше заплатит. Он, никогда не рассчитывая на бо́льшее, чем рукопожатие начальника или произнесенные спокойным голосом слова «чистая работа». Но он никогда не удостаивался подобной похвалы. Очерет, беспощадно изматывая себя, без остатка посвящал себя работе. За что бы он ни брался, он все делал слишком хорошо, в этом и заключалась главная причина недовольства им начальства. Постоянный контроль своего начальника, придуманные им ограничения и регламентации сформировали у Очерета растущее чувство обманутости и несвободы. Среди повсеместно творящегося беззакония он, скорее по инерции, продолжал служить неуважаемому государству с его скотоподобно тупым, продажным руководством. Недоумевая, почему вверх всегда пролезают такие люди, которым место глубоко в земле. Все чаще он веселил себя шуткой, что пора уже, как прославленные отечественные герои: Довбуш, Кармалюк, Котовский, — начать грабить разбогатевших воров, и… И все оставлять себе. Во всем мире, во все времена считалось, что разведчик, это прежде всего, преданный своей Родине человек, который искренне верит в ее будущее. Очерет был уверен, что у его родины нет будущего. И если бы у него спросили, что он думает о службе в разведке, исходя из своего многолетнего опыта, он бы с чувством глубокого убеждения ответил: «В этой службе нет ничего хорошего, если вы ее не любите». Обо всем этом догадывался генерал Останний. Он также знал, что не от него, Останнего, а от аналитических способностей Очерета, от его чутья и профессиональных качеств зависит успех задуманного им предприятия. Для подстраховки он приставил к Очерету никому не известного лейтенанта Мусияку, переведенного из провинциального Житомира в Киев в связи с повышением. Младший лейтенант Мусияка досрочно продвинулся по службе и получил внеочередное звание лейтенанта за то, что предоставил в столицу компромат, касающийся совершенно неприемлемых высказываний о президенте Кучме, своего непосредственного начальника майора Кузьмука. Всему виной была, казалось бы, мелочь, не более чем ковровая дорожка. Однако, это с какой точки зрения ее подвергнуть рассмотрению. Как показало секретно проведенное служебное расследование, этот архичепуховый пустяк был похож на тщательно спланированную диверсию, направленную на подрыв авторитета правящего президента. Уборщица Маруся Чепурная (кстати, ее девичья фамилия была Пидколодна), которая единственная имела секретный допуск в кабинет майора Кузьмука, убирая вечером, вероятно, предумышленно не расправила завернувшийся край главного украшения кабинета, изношенной ковровой дорожки. Доказать ее непосредственное участие в диверсии пока не удалось, но косвенное участие в ней она несомненно принимала. На перекрестном допросе она показала, что располагала неоднократно проверенной информацией о том, что на следующее утро майор Кузьмук, как всегда, будет проводить свое еженедельное оперативное совещание. Утром, ничего не подозревающий майор Кузьмук, расхаживая по кабинету, зачитывал своим подчиненным шифротелеграмму. С перепоя он торопился поскорее закончить оперативку и похмелиться. Наметив эту секретную операцию, он не мог усидеть на месте, метался по кабинету, и запнулся о роковую дорожку. Далее события разворачивались драматически. Споткнувшись, он ударился больной головой о шифоньер и с горяча в тексте секретной телеграммы после фамилии президента Кучмы вставил вполне соответствующее ему нецензурное слово. Кузьмук сразу же несколько раз кряду извинился, объяснив присутствующим подчиненным досадное недоразумение происками вездесущей оппозиции. Но слово не воробей, а мы не в Китае… ‒ как он об этом пожалел. Младший лейтенант Мусияка был свидетелем этого инцидента и не упустил свой шанс. Вряд ли его донос возымел бы кое либо действие, если бы Мусияка не был дальним родственником генерала Останнего по линии жены, а по совместительству, его осведомителем.Глава 3
Гости разошлись. И теперь Альбина Станиславовна не сомневалась, что с Мишей Шеиным случилось беда. Она стояла у звуконепроницаемого окна своей квартиры. По специальному заказу его изготовили из тройного стеклопакета закаленного стекла. Прислонившись плечом к армированной стальным профилем раме окна, она уже не в первый раз задавалась вопросом, возьмет ли это стекло пуля из дальнобойной винтовки? Как тихо вокруг, одна лишь тишина звенит в ушах. Одна единственная тишина. Тот, кто умеет слушать тишину, знает, что она наполнена звуками. Они вспыхивают и бледнеют, будто затухающий огонь на сосновых поленьях, и выгорают дотла, до чуть заметных контуров, напоминающих едва различимые, исчезающие тона на старой акварели. Эх, краски… Колера! Какие здесь могут быть каски? Зимний пейзаж за окном был удручающе безотраден. Еще оставалось так много ночи, и так мало было утра. Альбина Станиславовна задумчиво глядела, как в предрассветных сумерках на фоне неба прорисовываются очертания однотипных девятиэтажек. Они становились все явственнее и отвратительней. Голые верхушки тополей напоминали изношенные дворницкие метлы. «Вот и пришла зима моей печали…», — тихо прошептала она. Предрассветная тоска впилась в нее своими свирепыми когтями. По характеру Альбина Станиславовна была ни добрая и ни злая, она была безразличная и беспощадная, как природа. Была она необычайно горда и скрытна, и всегда требовала безусловного уважения к себе. Как до странности высокомерная незнакомка на чужом празднике, Альбина Станиславовна вместе с непреодолимым любопытством к своей персоне,вызывала у людей какую-то необъяснимую робость. И никто никогда не осмеливался по-человечески сблизиться с ней. Да она и сама пресекала любые попытки сближения. Подобные женщины встречаются редко, и почти всегда они слывут ледышками-недотрогами, своей непреступной гордыней отталкивая от себя людей. Но иногда им на пути встречается тот, кто способен их понять, и они оставляют в его душе неизгладимый след, овладевая ею безраздельно и навсегда. Но не каждому дано увидеть огонь, пылающий в глыбе льда. Хотя в силу своей деятельности Альбине Станиславовне и приходилось вести публичную жизнь, как она говорила «обозначаться», жила она весьма обособлено и даже замкнуто, как бы инкогнито. И никто по-настоящему ее не знал. В ней было что-то нездешнее, нечто такое, чему вряд ли можно найти разгадку. Вероятно, эти черты характера сформировались еще в детстве. Ее бабушка, на руках с малолетней матерью Альбины, преодолев все бюрократические рогатки и границы, после войны приехала в Советскую Россию из Польши на розыски своего без вести пропавшего мужа. Найти его не удалось, его след потерялся в Катынском лесу в четырнадцати километрах к западу от Смоленска. Там, весной 1940 расстрельные команды Народного Комиссариата Внутренних Дел уничтожили свыше четырех тысяч польских офицеров, цвет Польской армии. Их доставили в Катынь из Козельского лагеря, оттуда она получила от него последнюю весточку, всего несколько строк, в которых он просил ее беречь их Гадкого утенка. Бабушка все поняла, несмотря на письменные уверения главного хирурга Красной армии Бурденко, Алексея Толстого и других советских писателей, академиков и даже митрополита в том, что тысячи польских офицеров расстреляли фашисты. О том, что она узнала правду, пронюхали в НКВД и возвращение в Польшу ей было заказано. Ей неимоверно повезло, что ее оставили в живых. Мать Альбины Станиславовны окончила Херсонский педагогический институт имени Надежды Константиновны Крупской. Той самой Надежды, подруги вождя пролетариев, которая своим распоряжением приказала изъять из библиотек книги Льва Толстого, Лескова и даже «Крокодила» Корнея Чуковского. Ее мать отличалась несвойственным взрослым простодушием и доверчивостью. Она была словно не от мира сего, ее открытая душа, тонкая лирическая грация привлекали к себе внимание окружающих. В ней жила музыка, и эта необыкновенная внутренняя музыкальность каким-то образом проецировалась на ее внешность, от нее исходил свет душевной гармонии. На первом курсе она влюбилась в студента поляка, который спустя несколько месяцев ее бросил. От этой нигде не зарегистрированной связи родилась Альбина, дитя любви. Есть поверье, что у ребенка, зачатого в любви, больше шансов стать счастливым. Так ли это? Неизвестно. Альбина пока не нашла своего счастья. После окончания института мать Альбины начала работать учительницей иностранных языков в Херсонской средней школе № 17. «Шкрабы» — школьные работники, так их тогда называли, получали ничтожную зарплату, на которую нельзя было прожить. Чтобы прокормить Альбину и свою, на глазах дряхлеющую мать, ей пришлось торговать своим телом в Херсонском порту. На этот шаг она решилась после того, как одна из доброжелательных соседок сообщила ей, что ее мать — бабушка Альбины, постоянно что-то ищет в мусорных баках. Проститутка из нее не получилась, было всего два эпизода, которые окончательно ее сломали. После задержания и привода в милицию ее с позором выгнали из школы. Оказавшись в безвыходном положении, она согласилась на вербовку сотрудника КГБ Меркулова. После этого ей сразу предложили работу буфетчицы в Херсонском клубе моряков. Вскоре, по заданию своего куратора Меркулова, она вышла замуж за стивидора Херсонского морского порта Илью Давидовича Розенцвайга и сменила свою фамилию и фамилию дочери, урожденной Гардзинской, на Розенцвайг. Отчим имел взрывной темперамент и бывал довольно крут с окружающими, но был он человек широкий и обаятельный даже в своей вспыльчивости и отходчивости. Илья Давидович души не чаял в Альбине и всем сердцем любил ее мать, музыкальной тонкостью чувств она напоминала грустные мелодии Шопена. На его беду ее мать относилась к однолюбам и сколько жила, любила своего поляка, полонившего ее раз и навсегда. Кто сказал, что нет на свете настоящей, верной любви? Она есть, ее трудно встретить, но легко узнать. Настоящая любовь всегда одна, все остальные жалкие подобия той, Настоящей. Своего отца Альбина не знала и самые светлые воспоминания в ее жизни были связаны с отчимом. Пришло время, и подозрения бдительных прозорливцев с голубыми лампасами на галифе оправдались, и он подал документы в ОВИР на эмиграцию в Израиль. Все тянулось бесконечно долго, но он все-таки уехал. Следом за ним должны были ехать и Альбина с матерью и бабушкой. Уехать всем вместе не удалось из-за недоразумений с документами, которые неожиданно возникли перед самым отъездом. Ныне, по прошествии лет, припоминая обстоятельства отъезда, Альбина вспомнила, что отчим не хотел уезжать сам, и не уехал бы, но подчинился приказанию бабушки. Она была главой семьи, и он слушался ее во всем. Бабушка как будто что-то предчувствовала и торопилась поскорее отправить зятя из Союза. Он знал о портовых делах что-то такое, с чем его нельзя было отпускать, но за ним стояли такие люди, что и не отпустить его было нельзя. Мать Альбины к тому времени получила повышение и работала администратором в портовой гостинице «Моряк». За четыре дня до отъезда ее нашли мертвой у стен этой гостиницы, она выпала из окна с четвертого этажа при невыясненных обстоятельствах. Впрочем, обстоятельства быстро выяснили, оказалось, это был несчастный случай. Примерно через месяц пришло известие из Австрии, где их дожидался отчим, он погиб в Вене, тоже при невыясненных обстоятельствах. События отъезда их семьи из Советского Союза, ее родины, гибель самых дорогих для нее людей навсегда запечатлелись в ее памяти, оставив там незаживающую рану. Двенадцатилетняя Альбина осталась вдвоем с бабушкой. Ее бабушка принадлежала к уважаемому, но обедневшему дворянскому польскому роду. До приезда в Союз ее жизнь протекала если не среди богатства, то в полном достатке. Она не просто ненавидела Совдепию, отнявшую у нее горячо любимого мужа, Родину, зятя и дочь. Чувство это мало походило на ненависть, скорее это было недоумение, непонимание человеком действий кровожадных зверей. Когда убили ее дочь, она не плакала. Она безмолвствовала. Скорбь ее была выше слез. Бабушка и Альбина знали, на что пошла ради них их дочь и мать, знали они и о вербовке, среди этих троих не было секретов. Альбина догадывалась о причине смерти матери, но никогда не обсуждала это с бабушкой. Это была запретная тема и на то была причина. Альбина знала о предсмертном послании деда, ее бабушка не смогла выполнить его последнюю просьбу и не уберегла Гадкого утенка. Это случилось летом, во время ее школьных каникул после восьмого класса. Под вечер, сильно проголодавшись, Альбина возвращалась с пляжа. Чтобы сократить свой путь домой, она пошла через двор большого дома, где жили работники областного комитета партии. Этот дом в Херсоне называли «обкомовский». Здесь, проходя мимо трансформаторной будки, она увидела бьющегося в эпилептическом припадке Мишу Шеина. Он учился в параллельном классе и был самым красивым мальчиком в их школе. Она не испугалась, уже тогда она ничего не боялась. И дело было не только в ее врожденной, присущей их фамилии наследственной отваге. Жестокость и равнодушие вокруг странным образом изменили ее, сердце ее стало панцирным, увеличился болевой порог, и ничего более не трогало ее. Альбина всеми силами старалась удержать бьющееся об асфальт тело. Ей нравился этот всегда аккуратно одетый, молчаливый, как и она, очень одинокий мальчик. До этого случая она никогда раньше с ним не разговаривала. Там же, за трансформаторной будкой дожидаясь темноты (его светло-серые брюки были черны от упущенной после приступа мочи), он рассказал ей, что его мать живет с ним, как с мужем. Первый раз это случилось на Новый год, она была пьяна и все сделала с ним она сама, а потом это стало повторяться все чаще, и так уже полгода. Он думал, что не откроет этой страшной, грязной тайны никому на свете, и неожиданно для себя рассказал обо всем совершенно чужой девчонке. Она это поняла и оценила. Чужая исповедь всегда ноша, которой один человек делится с другим. Почему? Потому что не может идти дальше с этим один. Миша чувствовал отвращение к себе и ко всем женщинам, но с Альбиной он начал дружить. В их отношениях не было ничего чувственного, что могло бы возникнуть между двумя молодыми людьми. Это была дружба двух очень одиноких людей, далеких и холодных, как звезды на черном небе. Альбина любила Мишу с самозабвенной чистосердечностью, как сестра и мать. Его же родная мать опускалась все ниже. Это была высокая, статная, очень красивая тридцатилетняя женщина с коротко подстриженными черными волнистыми волосами. В чертах ее лица была какая-то двойственность. Строгие линии широких черных бровей и настороженно-серьезный взгляд больших светло-карих миндалевидных глаз сочетались с необыкновенным разрезом сочных, чувственных губ. Это единение строгости с избыточной чувственностью магнитом притягивало к ней мужчин. Она никогда не была замужем и воспитывала Мишу одна. По окончанию школы она закончила курсы секретарей-машинисток, после которых ее одну из выпуска направили на работу в Херсонский обком партии, где ее взял к себе секретаршей второй секретарь обкома. Он и был отцом Миши. Когда Мише исполнилось десять лет, второй секретарь был переведен на работу в Киевский горком партии, где ему по наследству досталась другая секретарша. Перед отъездом он устроил матери Миши однокомнатную квартиру в обкомовском доме в центре Херсона на углу пересечения проспекта Ушакова и улицы Кирова. Мать Миши стала работать секретаршей у заместителя председателя Облисполкома. Зам председателя был большой придумщик, усадив мать Миши под свой письменный стол, он под конец рабочего дня по очереди вызывал к себе своих подчиненных и отчитывал их, распаляясь до белого накала, в это время она делала ему минет. Так продолжалось не долго, каких-то четыре года, после чего у него развилась стойкая импотенция. Но придумщик на этом не угомонился, он стал подкладывать мать Миши в постель к разным людям, чтобы поменьше об этом знали, чаще к командировочным. При этом было одно условие, он должен был присутствовать или хотя бы подсматривать за ними. Кончилось все большим скандалом, мать Миши осталась без работы. Из обкомовского дома их выселили на край города в коммунальную квартиру, где она потихоньку спилась и одним утром не проснулась. Чего только не выделывает жизнь. Альбина всегда поддерживала Мишу и помогала ему во всем. На похоронах его матери она была одна, не считая трех соседей алкоголиков. Уже с утра они набрались так, что не могли нести гроб, и Альбина, чтобы гроб матери не нес ее сын, сама нашла тех, кто это сделал. Миша не позаботился об этом, отнюдь не потому, что был потрясен потерей самого родного человека, он был совсем лишен практической сметки. Альбина, как и ее мать, закончила факультет иностранных языков Херсонского педагогического института, но она ни одного дня не работала учительницей. Подруга матери помогла ей устроиться переводчицей в Интурист, где она начала осваивать азы этой непростой специальности. Бабушкины сказки о добре и зле, о верности и любви, трусости и отваге, — этого не забыть, не отнять. В разгаре была весна, когда она слегла. Как Альбина ее просила не умирать, но она была непреклонна и отвечала ей: «Нет, мне пора. Я буду с неба тебе помогать. А тебе я оставляю яблони в цвету и журавлей. Настанет день, и они на крыльях унесут тебя в теплые края». Слов нет, легких утрат не бывает. После смерти бабушки, взяв в долг у всех, кто только мог дать взаймы, Альбина вручила несколько взяток и получила должность переводчицы на теплоходе, который совершал круизы по Черному и Средиземному морю. Это место было так же нереально получить, как и выиграть что-либо в советскую лотерею. В прежние времена, учитывая ее родословную, это было бы вообще неосуществимо. Но времена изменились, все гнило и распадалось раковой опухолью. Ответственные чиновники Одесского пароходства за небольшую сумму советских рублей готовы были выставить на групповой секс мать родную. Как ей удалось уцелеть среди всеобщей проституции в пьяном угаре круизов, знала только она сама. Она избегала опасных ситуаций, всегда стараясь держать дистанцию, в этом ей помогало ее обостренное чувство собственного достоинства. Облаченная в одно лишь собственное достоинство, она умела внушать уважение к себе, но ее должность переводчицы предусматривала то, что она доступна каждому желающему. Было все: и профессионально выполненные удары в пах, и разбитые бутылками головы, и газовые баллончики, даже стрельба по движущимся мишеням, но, ни один мужчина не мог похвастаться тем, что обладал ее телом, о сердце не могло быть и речи. Ее мотало от края до края, но она шла, не сбивалась с намеченного курса. Она быстро разобралась, насколько велик и страшен мир. И там, в тех удушливо-знойных круизах, Альбина составила и укрепилась в своем мнении о мужчинах, и о женщинах тоже, вообще о человеческом роде. Надежда на лучшее помогала ей преодолевать отчаяние безбрачия. Случалось, ей снилось, что она близка с каким-то знакомым мужчиной, хотя на самом деле у нее ничего с ним не было. После этого ее некоторое время преследовало ощущение, будто она связана с ним любовной тайной. Несколько раз она замечала, что это передавалось и мужчине. И стиралась грань меж тем, было ли это во сне или наяву, и ей казалось, что все это случилось с ней в действительности. Истинная любовь и секс неразделимы, они необыкновенно обогащают человека, наполняя его жизнь новым смыслом. Все это она знала, но то, что ей пришлось пережить, было сильнее ее. Nivea non frigida[9], порой она сгорала от желания, ее изводило это неистовое, всепоглощающее чувство, но она не могла решиться на плотское соитие. Она так и не смогла побороть в себе зафиксированные в ее сознании представления о том, что мужчины способны только к физической близости. По ее мнению, мужчины, как лоботомированные, обделены духовностью и стремятся доминировать над женщинами потому, что иначе они вообще будут чувствовать себя недолюдьми. Ей так и не удалось познать стыд греха, ад любви, негу рая. Как каторжанин, прикованный к ядру, она влачила за собой свои обиды и унижения. Она всегда знала, что не будет жить в этой стране. Эту землю, оскверненную беззакониями, Альбина считала проклятой, и все свое время, весь темперамент не знавшей мужчины женщины она отдавала одной цели, накоплению денег и подготовке к эмиграции. Свою жизнь в Советском Союзе она расценивала, как пребывание на льдине, на которой она зарабатывает деньги для безбедной жизни на Западе. Именно там она и будет жить, а не здесь или в коммунистической Польше. Перебирая свои воспоминания, Альбина тщательно обходила те, от которых на нее накатывала смертная тоска. Поэтому о поездке на родину в Польшу, где жила ее многочисленная, незнакомая ей родня, она никогда не думала. Впрочем, порою думала, но мысли эти вызывали у нее ассоциации, подобные тем, которые могли бы возникнуть, если бы ей предложили спуститься в разрытую могилу близкого ей человека. Вообще-то Альбина нигде не чувствовала себя вполне дома. Есть люди, которых всю жизнь, снедая, гложет ностальгия по неведомой им отчизне. Они живут чужими в местах, где выросли, среди родных и близких. Неодолимый, унаследованный от перелетных птиц инстинкт поиска потерянной родины влечет их в дорогу. Вечные странники, они ищут ее всю жизнь и не находят. Но не бывает правил без исключений и порой случается чудо! И единицам из тысяч, их путеводная звезда однажды указывает верное направление, и они находят, что искали, ‒ то единственное, сразу узнаваемое место на земле, где их покидает горькое чувство сиротства, и они обретают покой. С целью наживы Альбина бралась за все: от перепродажи дешевых, модных тогда четырехцветных шариковых ручек «Сaravel», до контрабанды золота и спекуляции валютой. Она организовала сеть сообщников, в которую вошла дюжина моряков торгового флота и более двух десятков одесских спекулянтов. Прибыль была и довольно значительная, но когда приходило время подводить баланс, соотношение прихода и расхода часто было не в ее пользу. Это несоответствие между отданной энергией и полученными деньгами создавало впечатление, будто ее карманы протерлись до дыр. Всему виной были непрерывно возникающие проблемы, так называемые боевые потери, то конфискуют партию контрабанды, то арестуют спекулянта. Львиная доля барыша уходила на взятки, Альбина предпочитала называть их «комиссионными» или «представительскими». Профит всегда соседствует с потерями, это закон рынка. Дела шли неплохо, но и не так скоро, как хотелось бы. Процесс добычи легких денег был медленным и тяжелым, как непрерывный поденный труд на руднике. Об опасности она не вспоминала, она с нею сжилась. Ее много раз вербовали, она дипломатично не отказывалась и не соглашалась, избегая прямого ответа, не давая никаких подписок и никакой информации. Она могла убить, легко, но не предать. Ничего не поделаешь, таков был дефект ее воспитания. Когда на нее начинали давить, она находила или покупала влиятельных людей, которые за нее вступались. И все обходилось, ей всегда сопутствовала удача. Когда сильно везет, надо быть в полной готовности ко всему. Постоянная настороженность была залогом ее спокойствия. Человек всегда окружен множеством невидимых злых и завистливых сущностей, стоит отвлечься, ненадолго потерять бдительность, как со всех сторон навалятся беды и страдания, и ты, в лучшем случае, лишишься с мясом вырванных лет. Альбина всегда выходила сухой из воды, ей дьявольски везло, так считали многие. В пароходстве, да и в самой Одессе, где, как в маленькой Италии, все друг о друге знают, и сексот[10] на стукаче едет и осведомителем погоняет, за ней укрепилось прозвище «Дама Туз». Она знала причины своей непотопляемости, ее девиз был: «Расчет и Осторожность». Умение не выделяться для нее было вопросом воли и неволи. Внешне, она всегда была с людьми, внутренне, — никогда не сливалась с ними. Она удачно лавировала, обходя капканы и волчьи ямы, вырытые для нее своими конкурентами и ушлыми сотрудниками многочисленных Одесских правоохранительных органов. Ни одна из провокаций или сложных многоступенчатых комбинаций по ее изобличению не увенчалась успехом. Альбина знала, что так долго продолжаться не может, и готовила отходной вариант. Отходной вариант всегда должен быть в запасе, это было ее кредо. Все свои дела она проводила с предусмотрительной осторожностью в условиях строжайшей секретности. Но, как говорится, и на старуху, которой она, по сути, в душе и была, бывает проруха. Ее подвели сразу несколько человек, в прокуратуре завели на нее дело и принялись плести лапти. Сработала хитроумно разработанная схема некого Плахуты, лейтенанта из ОБХСС. В то время в ходу была поговорка: «Теми, кто не доволен, у нас занимается КГБ, а теми, кто доволен — ОБХСС». С Плахутой получилась накладка. Не сдержавшись, Альбина довольно обидно щелкнула его по носу, разумеется, словами, вдогонку натравив на него его начальника по фамилии Сирабаба. В бизнесе, как и в жизни, нельзя переходить на лица, тем более унижать человеческое достоинство. Этот урок Альбина запомнила навсегда. Тем более, что Сирабаба перестарался, а быть может, только дожидался повода, чтобы всыпать под завязку своему не в меру ретивому подчиненному. Никогда нельзя недооценивать разрушительную силу необдуманных действий. Ей, как всегда, повезло, это время совпало с развалом Союза. Все жизненные ценности были смещены в сторону наживы, и не осталось ничего святого, ничего запретного, все стало доступным. За увесистую пачку зеленых денег Альбина купила в прокуратуре заведенное на нее дело. Следователь по особо важным делам, который под вечер вынес ей два увесистых тома, сказал, что материала достаточно на высшую меру. До глубокой ночи на пустынном берегу Лонжерона она читала доносы и протоколы показаний на нее своих партнеров и жгла их, не испытывая при этом никаких враждебных чувств. Ничего другого она от них не ожидала и, наверно, она бы слегка удивилась, если бы кто-то из них поступил иначе. На рукописных и печатных страницах тех томов подробно описывались основные этапы ее «трудовой» деятельности, их больше не прочтет никто, кроме огня. Перед ее глазами проходила ее жизнь, и она сожгла ее, как и мосты за собой. Небольшой костерок, напоследок вспыхнув, догорал сотнями багряных песчинок, а холодные звезды над головой разгорались все ярче. Над Черным морем красивые звезды. Когда-то она любила их считать. Однажды досчитала до трех тысяч сорока двух и сбилась. С тех пор она их больше не считала. Ей нравилась Одесса, море и одесситы, они отличались от всех своим несоветским духом. Но следователь не солгал, оставаться здесь было нельзя. Она продала свою двухкомнатную квартиру в Одессе и перебралась в Киев, где на проспекте Правды в живописном зеленом районе «Виноградарь» купила себе четырехкомнатную квартиру. Она планировала, впервые за многие годы, немного отдохнуть, параллельно с этим поправить свое пошатнувшееся материальное положение, а затем, не торопясь, заняться оформлением документов для эмиграции. Альбина и раньше время от времени приезжала по делам в Киев. Со всем своим многолюдством, шумом и суетой он производил на нее удручающее впечатление проходного двора. После провозглашения самостийности вся экономическая и культурная жизнь теперь была сосредоточена в Киеве. Кроме того, здесь находились посольства всех иностранных государств, это и определило ее выбор. Но, не прожив в Киеве и месяца, она неожиданно для себя заметила, что этот город неуловимо соответствует ее внутреннему состоянию, она увидела его другими глазами, и изведала колоссальную притягательность этого Вечного Города. Нигде и никогда ранее она не ощущала подобную, необъяснимо чу́дную ауру определенно ограниченного пространства, где она испытывала чувство полнейшего всеобъемлющего комфорта и душевного уюта. И, тем не менее, Киев оставался для нее лишь последним этапом, трамплином перед Big jump[11]. Проблема с выездом теперь решалась легко, но уезжать она не торопилась, что-то малопонятное, казалось бы, едва ощутимо, но прочно удерживало ее. Себе же она объясняла свое нежелание уезжать тем, что денег, заработанных во время круизов на спекуляции всем, что плыло в руки, надолго не хватит. Здесь же, в мутной воде всеобщей неразберихи есть шанс сорвать большой куш, а затем эмигрировать во Францию, где она хотела жить. Порой человек страстно желает того, что на самом деле не является его желанием. И, как это можно понять? А вы думаете, я знаю, как?.. Все вокруг на глазах менялось. В Киеве у Альбины не было знакомых, а главное, связей. Ее новые киевские партнеры крупно ее подвели, и деньги, добытые с таким трудом, пропали. Увы, мир нелеп и беспощаден. Ее обманули, как нынче говорят: «кинули», настолько пошло и примитивно, что первой ее реакцией было убить. Потом, несколько часов она неистово хохотала. В Одессе за подобное просто вырвали бы гланды через известный проход, здесь же, это было в порядке вещей. В итоге, она сама себе вынесла свой вердикт: «Виновата сама». И те, кто это сделал, были на время забыты, но не прощены. Через два года один из них, пострадал от такого же примитивного обмана и, бросив семью на растерзание кредиторам, в одних домашних тапочках скрылся в неизвестном направлении. Второй, попросту умер с перепою, случайно захлебнувшись собственными рвотными массами. Альбина не умела прощать. Но, если бы она этого не сделала, разве она бы была сама собой? Едва ли. Но все это было потом. Тот, первый ее год в Киеве был годом поражений и утрат. Альбина снова, как перед поступлением в пароходство, осталась ни с чем. И что же в сухом остатке? Ничего… Ничего, кроме ее самой у нее не осталось, одни мечты в карманах. Она не знала, как ей быть дальше, с ее умом и ее амбициями. Альбина понимала, что она не такая, как все, и она не сможет жить их ничтожной жизнью. Одно утешало: если у тебя ничего нет, то и терять нечего. Так она и крутилась в Колесе Всего Сущего, поднимаясь и падая, переходя от отчаяния к отчаянию, и далеко ей еще было идти до своего Освобождения. И не нашлось никого, кто бы ей подсказал, что воля наша в нас самих, так же, как и неволя. Вместе с тем, случившееся не избавляло Альбину от прозаической необходимости жить дальше. Все пришлось начинать с нуля. Она знала простую истину, если человек что-то потерял, ему надо что-то найти. Когда ребром стал вопрос о погашении долгов, она решила продать квартиру. Одним из желающих ее приобрести, для очередного своего любовника, оказался Роман Львович Сандомирский, известный киевский антиквар. Он один из первых увидел все перспективы вновь разрешенного бизнеса. Когда рухнул «железный занавес», антиквариат из бывшего СССР рекой устремился на Запад, и река та называлась контрабанда. У истоков той реки прочно обосновался Сандомирский. При этих прискорбных для Альбины обстоятельствах состоялось их знакомство. В жизни порой все решает случай. После короткой беседы и двусторонней приглядки, Сандомирский назвал этот процесс «обнюхиванием», вопрос о продаже квартиры отпал. Ее благородная красота и оригинальный склад ума не могли не впечатлить человека изысканного вкуса и интеллекта. Они оба испытывали взаимное уважение, уважение одного умного человека к другому умному человеку. Роман Львович предложил ей заняться одним щепетильным, но весьма перспективным делом и она провела его с блеском, в кратчайший срок. С тех пор она вместе с Сандомирским начала серьезно заниматься антиквариатом. Секрет успеха состоит в том, что если ты 3 раз упал, то должен 4 раз подняться. Альбина принялась за дело с азартом старателя, нашедшего золотую жилу. Это было сложное и незнакомое ей поле деятельности. Наряду с истинными произведениями искусства, сплошь и рядом попадались вещи откровенно дурного вкуса. Не всякому дано увидеть и распознать красоту предмета подлинного искусства. Чтобы ее разглядеть, надлежит самому проникнуться той дерзновенной вечно живой субстанцией, что питает вдохновение мастера в его стремлении к совершенству. Неотъемлемый атрибут уникальной вещи ‒ ее совершенство, но способность видеть красоту, это далеко не все, в антикварном деле важно понимать многогранность ее разнообразия. Намного больше, чем откровенного китча, было подделок. Рынок антиквариата наводнен имитациями и подделками. Здесь все, как не на трех, а на одном ките, держится на мнении эксперта. Любая фальшивка, имеющая сертификат подлинности, рано или поздно найдет своего покупателя. Однако гарантировать подлинность антикварной вещи не может никто. Среди собирателей антиквариата в ходу расхожая шутка: «Вы гарантируете, что это не подделка? Да, гарантия шесть месяцев…» Безусловно, оригинал может оказаться подделкой. Зато фальшивка в этом смысле всегда подлинна, но как неоригинальна… Пришлось немало поработать с литературой, для отменно образованной и разносторонне начитанной Альбины это было не в тягость. Все усложнялось тем, что навыки необходимо было приобрести в кратчайший срок, а специальную литературу можно было отыскать лишь в нескольких библиотеках Киева. По альбомам, в музеях и на выставках она знакомилась с лучшими образцами художественных произведений и изделиями декоративного искусства. Будто живые, пред ней проходили разные эпохи и стили. Красота истинно нетленных шедевров искусства завораживала. Она быстро изучала тонкости антикварного дела и научилась распознавать лучшее, отказываясь от худшего. Во многом этому способствовал ее безупречный вкус и врожденное чувство прекрасного. Ее исключительные умственные способности, светскость и надежность в делах принесли ей новые знакомства, нужные связи и преданных ей людей. После того, как она в очередной раз крепко стала на ноги, при поездке в Херсон на могилы матери и бабушки она встретилась с Мишей Шеиным. Она и раньше его навещала, когда приезжала в Херсон — самый большой маленький город на свете. Миша навсегда остался в ее памяти, и в своих мыслях она часто обращалась к нему. У Альбины было какое-то неоформленное чувство долга перед Мишей за то, заветное, что он высказал ей тем жарким летом в Херсоне. Нельзя сказать, что он каким-то образом привязал ее к себе той откровенностью. Нет, это больше напоминало то, когда в стычке волков, слабый, неожиданно подставляет под клыки сильного свое горло, и сильный отступает, и всю свою волчью жизнь отвечает за того, ‒ доверившего ему свое горло. Миша даже приблизительно не был похож на волка, но горло у него было, и он его ей доверил. Миша по-прежнему жил в Херсоне и перебивался случайными заработками, оформляя витрины магазинов. Он не изменился, как всегда был отстраненно созерцателен и аккуратно одет. При невысоком росте и тонкой кости, он был отлично сложен, у него было легкое тело танцора с изящно очерченными ягодицами и такими же, как у танцора ловкими движениями. Но чего-то ему все-таки недоставало. Чего же?.. ‒ он был изящен, но без изысканности. Зато его матово-белое лицо привлекало удивительной красотой. Какая-то задумчивая, тихая и ранимо нежная, странная для мужчины красота не сделала его счастливым. В его больших, продолговатых, почти медовых, янтарных глазах обрамленных длинными черными ресницами Альбина читала печаль его души. Миша вел правильный образ жизни, не пил, не курил, старался всех кругом обходить, чтобы, ни дай бог, никого не задеть, и был безгранично одинок. Он ни к чему не стремился, довольствуясь тем, что имел и жил в своих мечтаниях. Грубая повседневность была ему отвратительна. В его безразличном отношении к себе и своему будущему было столько беззащитной беспомощности, что глядя на него, Альбина невольно вспоминала свою бесприютную жизнь. В бесцельности его существования ей виделось что-то общее со своей судьбой. Смотрение в окно было любимым занятием Миши. Все свободное время он проводил в праздных размышлениях, сидя у окна. Самые важные события происходили в его внутреннем мире, ведь реальный мир не более чем далекий отголосок чудесного мира грез. В стране его фантазий все выглядело так, как ему хотелось: добрым, красивым, бескорыстным. Погружаясь в альтернативное бытие, он купался в лучах радости. Почему мы бываем счастливы только в мечтах? Не потому ли, что мы в них такие, какими нам хочется быть? И его не волновало, что такое тихое благоденствие лишает его жизнь смысла. Ведь какова бы ни была жизнь со всей ее пошлой действительностью, она интереснее витания в облаках. Но он так спрятался от этого беспощадного мира, что если бы и захотел, не смог бы себя найти. Было настолько заметно, что он не любит и остерегается окружающих его людей, что Альбина как-то не удержалась и спросила: — Что с тобой? Чего ты боишься? От кого прячешься? — От всех… — грустная улыбка коснулась его губ. — Узнают, что я не такой, как все, убьют, — и не понять было, говорит он серьезно или шутит. Есть люди, которые не умеют и не хотят приспосабливаться к окружающему их обществу, к его порядкам и распорядкам, писанным и неписаным законам. Они либо прячутся от действительности, либо ставят себя над ней, не подчиняясь общим правилам. Альбина и Миша, они оба стояли на полярных полюсах этих крайностей. При всей своей покорной мягкости Миша обладал внутренней независимостью, поэтому не мог жить среди людей в этой стране. И он уходил в мир мечты, забывая о том, что мечтатель всегда должен быть сильнее мечты, иначе ему несдобровать. Настоящий мечтатель должен быть готов к борьбе, поскольку путь от возможного к осуществимому всегда полон опасных неожиданностей. «Хватит сидеть в углу и ждать от бога дулю», ‒ решительно сказала Альбина и помогла Мише переехать в Киев. Она же познакомила его с Сандомирским. Знакомство Миши с Сандомирским Альбина считала главной ошибкой своей жизни, а их было не так уж много. Ведь это она сама, своими руками… ‒ да, знакомство Миши с Сандомирским было делом ее рук. Сандомирский был первый человек, который сказал Мише: «Послушай, чижинька, хватит прятаться по углам внутри себя. Ты очень красивый, у тебя доброе сердце. Ты можешь быть любимым, и ты достоин любви. Я столько лет искал тебя и наконец нашел». До этого Миша многие годы не имел никаких любовных историй, связей, знакомств, ничего. Последние Мишины сексуальные отношения с влюбившейся в него девушкой были лет десять назад. Она хотела от него тех же ласок, что и мать. Это было невыносимо, и это больше не повторялось. С тех пор Миша не занимался любовью. Он продолжал жить в одиночестве, став на еще одно горькое разочарование богаче. Миша совсем забыл, какой была его мать, помнил только обычное ее: «Я тебе это покупаю сейчас, но это тебе на день рождения»… Сандомирский очаровал, влюбил в себя и совратил Мишу. Пленительным обаянием блестящего ума и неотразимым шармом Сандомирский завлек к себе в постель не один десяток мужчин с латентными гомосексуальными тенденциями. В Киеве Сандомирский был признанный маэстро застольной беседы, искуснейшей гений галантных салонных разговоров. Он завораживал собеседника блистательно яркой, отточено образной речью, усыпанной самоцветами оригинальных острот. Он часами, не повторяясь, мог говорить о чем угодно, и о ком угодно. Всесторонне эрудированный и беззаботно веселый, он досконально знал закулисье столичного общества и постоянно выставлял напоказ его пустоту и притворство. Но в потоке его речи едва слышная, мягкая уступка и категорически решительный отказ, незаметно и плавно перетекали одно в другое, исподволь формируя мнение об абсурдности всего окружающего и абсолютной вседозволенности, вытекающей из этого постулата. И все его разговоры в конечном итоге сводились к эротической любви, скоропреходящей, вечно ускользающей неге, приправленной пикантно изощренными плотскими удовольствиями. Эта тема занимала его больше остальных. На вид Миша был обворожительно красив. Но, узнав его лучше, разочаровывало полное отсутствие в нем индивидуальности и какая-то бесчувственная отстраненность, обусловленная его вялостью и апатией. Было в нем что-то от выдолбленной изнутри красивой куклы, пустышки. Из-за его холодной обособленности казалось, что он не способен на большую любовь, что чувства его мелки и им не дано подняться над уровнем его внешней красивости. Так ли это? Время покажет. Но нельзя забывать о том, что среди многих, изредка встречаются люди с внутренней психологической отстраненностью, которая мешает им душевно сойтись с другими людьми, даже с теми, кого они искренне беззаветно любят. Чем же они хуже остальных? Ничем. Но им хуже, чем остальным. Никто и не говорил, что жизнь справедлива. Сделав Мишу своим любовником, ветреный Сандомирский быстро к нему охладел и постоянно ему изменял. Столкновение мечты с реальностью всегда оборачивается страшным разочарованием. Для Миши Шеина это была трагедия. В очередной раз он доверился близкому человеку, и тот его предал. Именно тогда окончательно рухнула его вера в людей.Глава 4
Капитан Очерет тихо закипал. Внешне это ничем не проявлялось, это было холодное кипение. Так высоко в горах закипает вода, яйца в ней не сваришь, но обжечь их можно… Он уже более часа сидел в приемной генерала Останнего, куда явился для доклада, однако в кабинет тот его упорно не приглашал. Престарелая секретарша Элеонора в массивных квадратных очках с выкрашенными в белый цвет, висящими безжизненными клочьями пакли волосами что-то сосредоточенно набирала на компьютере. Работают над имиджем разведчики, презрительно подумал о ней Очерет, создают видимость деятельности. Он был знаком с Элеонорой с первых дней ее работы на этой должности и, зная о некоторых ее поступках, Очерет ее недолюбливал. Он считал, что в крашеных волосах есть какой-то обман, они для него олицетворяли фальшь жизни. Возможно, в этом проявлялась его излишняя профессиональная подозрительность? Обман, самое отвратительное в человеческих отношениях. Очерет был с этим согласен, но без фальши и лжи этих отношений и вовсе бы не было. Он отдавал себе отчет в том, что разведка совершенно необычный вид узаконенной полукриминальной деятельности, где без обмана не обойтись. Не каждому по душе здесь работать. Но, как говорится, на вкус и на цвет — товарищ найдется. Вкус у каждого свой, сказал шпагоглотатель… Как бы там ни было, а на компьютере она действительно набирает какой-то текст, не имитирует, пришел к выводу Очерет, наблюдая за секретаршей в течение часа. По всей видимости, она работала со сложным документом. Элеонора со всех сторон сосредоточенно рассматривала замусоленный обрывок бумаги, исписанный какими-то каракулями или иероглифами. Пытаясь разобрать нужный текст, она крутила этот огрызок и так и эдак, подолгу изучала его при помощи увеличительного стекла, приглядывалась к нему сбоку и даже просматривала на свет. В разведке от текста сообщения иногда зависит жизнь не одного, а многих людей, поэтому приходится защищать информацию криптографическими методами. Очерет вспомнил, что наиболее часто употребляемые симпатические чернила[14]состоят из раствора квасцов и поваренной соли. Чтобы избежать царапин на верхнем слое бумаги, агент должен писать кисточкой. После того как симпатические чернила высохнут, лист бумаги надо обработать водяным паром. Это необходимо делать для контроля с целью подстраховки: если тайнопись выполнена плохо, то при воздействии водяного пара на бумаге проступит текст, и ария агента будет спета. Как там поется, недолго музыка играла, недолго плохому танцору что-то мешало танцевать… Это надежный старый метод, но в дьявольской кухне геленовской разведки изобрели более совершенный рецепт «Гейдельберг», так называемый способ «сухой» тайнописи. При этом лист писчей бумаги припудривают особым составом химиката, затем на него накладывают другой лист и наносят текст, сильно надавливая острой палочкой. После этого, тщательно удалив химикат, на первом листе обычной шариковой ручкой выполняют маскировочный текст. Да, но расшифровка подобных донесений работа кропотливая, требующая строжайшей секретности, ее должны проводить опытные криптографы-аналитики, доктора и кандидаты наук из Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации, рассуждал Очерет. Следовательно, документ такой важности, что генерал может доверить его только своей секретарше, и ей самой приходится проводить криптографический анализ. Вынужденная заминка не была завуалированным издевательством. Очерет явился к генералу с докладом без предварительного согласования. Для Останнего же важно было объективно оценить все, о чем собирался доложить его очень непростой подчиненный. Поэтому ушло около часа, чтобы отозвать с объекта стационарного наблюдения в районе «Виноградарь» лейтенанта Мусияку. Останний мог бы под благовидным предлогом отменить незапланированную встречу, но это могло насторожить Очерета и косвенно засветить Мусияку. Зная своего генерала, Очерет намеренно пришел неожиданно, чтобы тот не успел к его приходу подготовить очередную каверзу, он отлично умел видеть картину в целом и прогнозировать развитие событий. Пусть попарится в предбаннике, раз явился без вызова, решил Останний и передал через селектор Элеоноре, чтобы Очерет ждал, когда он освободится. Событием дня было отравление оппозиционного претендента на пост президента. По основной версии, его отравили диоксином. Генералу не знаком был этот яд. Пока где-то в пробке увяз Мусияка, он читал секретную справку, экстренно подготовленную ему токсикологической лабораторией. Справка была озаглавлена довольно наукообразно: «О некоторых специфических особенностях воздействия диоксина на организм человека и основных методах лечения». Поблуждав в дебрях преамбулы, полной химических формул и медицинских терминов, Останний вышел на нужный след и нашел то, что искал. «При отравлении диоксином первым симптомом может быть появление избыточной жирности кожи. Далее появляются множественные открытые камедоны (черные и белые угри). В нетяжелых случаях участки поражения ограничиваются областью вокруг глаз и висков, до ушных раковин. Более тяжелые отравления сопровождаются распространением сыпи на многие участки тела, прежде всего на скулы, позади ушных раковин, на плечи и предплечья. На месте камедонов появляются обезображивающие лицо кисты, наполненные жидкостью, а также интенсифицируется рост волос, цвет их темнеет. Кожа становится толще и начинает шелушиться. В тяжелых случаях возможно появление открытых язв с дальнейшим образованием стойких рубцов. Состояние медленно претерпевает обратное развитие с исчезновением кожных проявлений через несколько лет после химического воздействия. Наряду с этим, у многих пострадавших процесс длится десятилетиями (имеются наблюдения в течение 26–30 лет). Столь продолжительный характер поражений обусловлен медленным высвобождением химиката из клеток жировой ткани организма. Данное обстоятельство позволяет установить или подтвердить факт отравления диоксином по истечении даже длительного времени с момента отравления, так как выделение его из жирового депо обусловливает постоянное содержание диоксина в биологических жидкостях организма». Это плохо, подумал генерал, но ничего, если тело быстренько кремировать, а родственников поставить перед свершившимся фактом, сказать, что, дескать, «сгорел на работе», никто ничего не докажет… «В лечении используют вскрытие камедонов и кист, а также препарат изотретиноин». Надо бы изъять этот «изотретиноин» из аптек та где-нибудь заховать, соображал Останний, отравить человека легко, а о лекарствах побеспокоиться некому… Он не сомневался, что претендент в президенты по фамилии Ющенко был отравлен. Кто его отравил, он тоже догадывался, его задачей сейчас было проявить оперативность и доложить вышестоящему начальству о препарате изотретиноин и необходимости изъятия его из аптечной сети. То, что осуществить это будет сложно, а препарат легко можно доставить из-за границы, его не смущало, главное было продемонстрировать инициативу. Генерал занимал должность намного более высокую, чем ему полагалось по умственным способностям. Но нынче в цене был не ум, а холуйская преданность хозяину. На каком-то огрызке бумаги генерал начал набрасывать проект донесения. Он был до крайности бережливым и требовал такой же рачительной экономии от подчиненных. Останний составлял проекты своих донесений не только на обратной стороне исписанных листов бумаги, но, если этого было недостаточно, он снова возвращался на лицевую сторону. Перевернув лист вверх ногам, он умудрялся писать между строк, а если и этого было мало, то вверх и вниз по полям. Секретарша Останнего Элеонора, перепечатывая его секретныедонесения, вполне могла бы подрабатывать криптографом. «Считаю своим долгом и святой обязанностью обратить Ваше внимание на…» ‒ высунув кончик языка, сочинял Останний. Но тут ему помешали, на стоящей слева от кресла Останнего подставке с телефонами и селектором громко затрещал телефон внутренней связи. Звонки всех его четырех телефонных аппаратов, в особенности одного из них, красного, были настроены на максимальную громкость. В трубке раздался сбивчивый захлебывающийся голос Мусияки. Он впустил взмыленного Мусияку в свою комнату отдыха, туда же, суетливо, как мыши они перетащили стулья из-за стоящего торцом к столу генерала стола для совещаний. Дав все необходимые инструкции, Останний удобно устроился в кресле за своим огромным столом, на котором не было ничего кроме письменного прибора эпохи Сталина. Перетрогав, лежащие там перьевые ручки и карандаши, и бережно закрыв крышечкой чернильницу, он пролаял в селектор: — Нехай заходит! — Здравия желаю, — четко приветствовал генерала Очерет. — Садитесь! — начальственным голосом вместо приветствия брюзгливо произнес Останний, небрежно указав Очерету на специально поставленный единственный стул против своего письменного стола. Капитан, как и положено младшему по званию офицеру, аккуратно и прямо сел на стул напротив генерала. Останний никогда бы в жизни не предложил Очерету сесть (разве что на кол…), но объектив скрытой видеокамеры был наведен как раз на этот одиноко стоящий стул. Капитан с исчерпывающей полнотой доложил о том, что удалось выяснить: о контактах и намерениях Розенцвайг. Мрачно насупившись, Останний слушал, поглядывая на Очерета из-под лохматых бровей тяжелым, недовольным взглядом. За спиной у генерала в углу пылился синий с желтым флаг Украины, а над его головой висел портрет президента Кучмы на ярко размалеванном синем и желтом фоне. — Ситуация имеет тенденции к обострению. Не исключено быстрое развитие событий с появлением новых фигурантов. В связи с этим прошу дать нам в помощь нескольких оперативников, — закончил Очерет. После этого в кабинете надолго воцарилась тишина. Генерал думал… — Вы подготовили рапорт? — после продолжительных раздумий придумал Останний, с осуждением поглядывая на своего подчиненного. — Никак нет. Чтобы не терять время, я решил сразу же доложить вам в устной форме, — четко ответил Очерет. — Так вот, — весьма значительно начал Останний. — Вы не первый год в органах и вам надлежит знать… — генерал взял паузу и держал ее так долго, что если бы в это время года водились мухи, они бы все передохли со скуки. — Если вы, капитан, приходите с докладом, то приносите доклад, если с рапортом, то приносите рапорт, а, если с чем-то таким… — не найдя подходящего слова генерал посмотрел на Очерета так, будто перед ним сидел не Очерет, а на его любимый стул какой-то «враг народа» навалил кучу дерьма. — То приносите что-то такое… — и он многозначительно покрутил растопыренными пальцами у виска, как будто ввинчивал лампочку. — А времени у нас отнимать нечего. Понять не могу, на кой черт нам держать у себя такого некомпетентного сотрудника. Это что, просто так себе?!.. — неожиданно вскрикнул генерал и тщательно примерившись, осторожно пристукнул волосатым кулаком по стеклу на столе. Очерету знакомы были неожиданные выкрики Останнего, звучавшие, как оскорбления, рассчитанные на выработку у него беспрекословного подчинения. Никудышный из тебя клоун, отметил про себя Очерет, изображая лицом корректную бесстрастность и выдержку. В коверные тебя бы точно не взяли, годишься только в «подковерные». Стул, на котором он сидел, как будто специально был сделан для того, чтобы на нем было неудобно сидеть. Нижняя часть спинки выступала вперед, и Очерет сидел на краешке, до предела выпрямив спину. — Вы шо тут себе вздумали?! На облаке живете, чи шо?! Не знаете, шо творыцца? ‒ по внешнему виду генерал догадался, что Очерету не выдержать этот словесный экзамен, и отвечать он не собирается. ‒ Все наши силы брошены на выборы, — не дожидаясь ответа, принялся пояснять генерал, — Но, раз уже явились, ничего не поделаешь, прощаю вам в последний раз. Помните мою доброту… — тон его быстро менялся, от раздраженно-назидательного, до панибратски-развязного. — Сейчас же примите под свое командование группу Хоменко. И чтобы был мне результат в кратчайший срок! Выношу вам наше последнее строгое предупреждение, ‒ генерал долго уничтожающе разглядывал Очерета, словно выискивал подходящее место, куда бы ему всадить пулю и неожиданно выкрикнул: — Идите работать! — этот резкий, как пинок окрик, генерал употреблял вместо «До свидания». От подобного напутствия Очерет внутренне передернулся, хотя в его лице ничего не изменилось. Опытный физиономист многое может прочесть по выражению лица. Но эмоции вещь управляемая, поэтому Очерет много времени уделял своему лицу, добиваясь того, чтобы оно всегда оставалось расслабленным, вне зависимости от внутреннего состояния. Он все так же смотрел прямо перед собой немигающим стеклянистым взглядом. Этот взгляд когда-то длительно отрабатывался на листе ватмана с единственной точкой, выполненной тушью посредине. Он добился того, что глаза не моргая, смачивались слезой. Один этот гипнотически неподвижный взгляд сам по себе был проверенным в деле оружием. — Слушаюсь! — отчеканил Очерет, вытянувшись по стойке «смирно», четко повернулся через левое плечо и вышел. На языке жестов эти движения для Очерета означали вытянутый средний палец, жест, пришедший к нам с Запада и понятный многим без переводчика. Он прибегал к нему, когда надо было хоть немного стравить пар, чтобы не взорваться. При этом он понимал, перед кем мечет бисер, да поделать с собой ничего не мог. Выпроводив капитана, Останний дал указание Элеоноре, что пока он не скомандует, его ни для кого нет, и вошел в соседнюю с кабинетом комнату отдыха. Здесь возле видеомагнитофона суетился Мусияка. Чтобы выслужиться перед своим генералом, он торопился к его приходу перемотать кассету на начало разговора. — Ну, что скажешь? — поинтересовался Останний. — Он все правильно доложил, Гордей Кондратович, — поспешно и нечленораздельно начал Мусияка. Генерал Останний хмуро надвинул брови. Он не любил своего имени и отчества и терпеть не мог, когда его так называют. Все знали, что к нему следует обращаться или «товарищ генерал», или в третьем лице. Мусияка был новичок и об этом не знал. Еще больше чем своего имени и отечества, генерал не любил «нечленораздельных». В связи с чрезмерным ростом волос в ушах у него развилось тугоухие, и он постоянно подозревал, что над ним издеваются прямо ему в глаза. — Так все и было. Но спиной чувствую, как вы и говорили, он не наш!.. — с нарастающим возбуждением заговорил Мусияка, смахивая слюну с широкого губастого рта, — Арестовать бы его и расстрелять «при попытке к бегству»! — предложил он, бросив быстрый взгляд на генерала. — По-го-ди Пэтя, дай срок… — расслышав конец фразы, расчувствовавшись, проговорил Останний, мечтательно растягивая слова. — От про́йдет наш Янукович в президенты, и мы этим займемся. Тут еще скандал с отравлением претендента от оппозиции, не вберегли мы цього Ющенку, а жаль… — Да, Гордей Кондратович, на конкурсе красоты ему теперь не победить, — ухмыляясь широким ртом и многократно кивая головой, поддакнул Мусияка. Его толстые щеки при этом тряслись, как студень. — Главное, не победа, а участие, — надвинув брови, наставительно провещал Останний. Мо́лодежь! Ну, никак не усвоит правил вежливого обращения. — Ладно вжэ, ты пока со своего глаз не спускай. Записал наш разговор? — Ага, тютелька в тютельку! — Ладно, я после сам посмотрю. Иди работать! ‒ знакомым окриком по своему обыкновению попрощался генерал. Он выпустил Мусияку из своей комнаты отдыха через ту же дверь, через которую он туда попал. Она выходила на противоположное крыло здания, откуда по переходам с этажа на этаж можно было спуститься в фойе. Ни Очерет, ни Элеонора не должны были знать, что Мусияка присутствовал при этом разговоре. Генерал Останний не доверял своей преданной секретарше, которая проработала с ним более десяти лет. Всех своих подчиненных и даже Элеонору он постоянно упрекал в том, что они не переживают (не уболівають) за самостийну Украину. За это преступление их бы при Сталине через одного бы расстреляли перед строем. В действительности же, он их всех, в том числе и свою секретаршу, подозревал в том, что они зарятся на его место. В этом не было ни логики, ни смысла, но именно в этом и был весь генерал Останний. В жизни всегда есть место абсурду, преднамеренный алогизм — надежное средство от сумасшествия. Впрочем, генерал Останний вряд ли отдавал себе отчет в этой тонкой материи. Кроме множества самых разнообразных своих прямых обязанностей, Элеонора выполняла и дополнительные, его любовницы. Под соответствующее настроение, в виде особой милости Останний заставлял ее искать у себя голове, приговаривая при этом: «Ну, шо? Нашла? Бо будешь шукать, пока не найдэш!» Так они и жили. Вообще-то, жизнь странная штука.* * *
Очерет хорошо знал Хоменко. У тех, кто общался с Хоменко, при первой встрече создавалось впечатление, что это продувная бестия, только это было не в полной мере так. Среди многих же, не общавшихся с Хоменко сослуживцев, он считался асом разведки. Хоменко распространял о себе слухи, что даже матерые шпионы, узнав о том, что ему поручили их обезвредить, сами приходили сдаваться с повинной, только бы не попадаться ему в руки. Хоменко не врал, только когда молчал, а это было редко, и даже случайно не говорил правду. Никаких шпионов он никогда не видел, а занимался исключительно слежкой за неугодными властям согражданами. Так же часто, как и со шпионами, Хоменко имел дело и с боевым оружием, которое вызывало у него панический страх, он почему-то был уверен, что обязательно им что-нибудь себе отстрелит. Тем не менее, начальство его ценило и хорошо знавшие Хоменко сослуживцы, догадывались за что… Сам же он объяснял это своими боевыми заслугами. Главной его заслугой было то, что следя за одним вредным журналистом с грузинской фамилией, который в своих публикациях поносил президента Кучму, он разведал, что у Гиви есть любовница, и первым доложил об этом начальству. Хоменко за это даже хотели представить к правительственной награде, ордену «Ярослава Мудрого». Но журналист куда-то пропал, разгорелся скандал, и Хоменко ничего не обломилось. Для серьезной оперативной работы Хоменко был совершенно непригоден, здесь с головой хватало Очерета, что же касается наружного наблюдения, тут он не знал себе равных. Не хуже Джеймса Бонда Хоменко умел маскироваться под окурок или прикидываться шлангом. Второе, ему удавалось намного лучше… В группу Хоменко входил сам «многомудрый» Хоменко, это было не совсем хорошо, Очерет знал, что он человек генерала Останнего. В подчинении Хоменко находилось два оперативных сотрудника: опытный Цуркан и молодой, но подающий надежды Сахно. Это были профессионалы, толковые и ухватистые, дело свое они знали и понимали все с полуслова. От Очерета требовалось только координировать их действия. Его устраивал состав опергруппы, как построить свои отношения с ее командиром, он тоже знал. Ничего бо́льшего от визита к своему начальнику Очерет не ожидал. Как всегда, он полагался только на себя. Теперь ему предстояло встретиться с группой Хоменко. Они несли дежурство на майдане Незалежности, где который уж день и ночь подряд продолжался митинг в связи с фальсификацией выборов президента Украины. Цуркан и Сахно рыскали в толпе митингующих, подслушивали крамольные разговоры и фотографировали скрытыми камерами подозрительных. Хоменко, чтобы его не рассекретили, запрещал им связываться с собой по мобильному телефону. Отключив телефон, он шел домой спать. Когда Хоменко спал, он не вредил. За пятнадцать-двадцать минут до конца дежурства он включал свой мобильный телефон, собирал своих подчиненных и шел в управление рапортовать. В той же последовательности все повторилось и в этот раз. После сдачи дежурства Очерет собрал группу Хоменко в чьем-то пустом, прокуренном кабинете. Он сообщил им, что они переходят под его командование, кратко изложил вводную, и поставил задание: отслеживать все контакты Розенцвайг. — Шесть часов на отдых, два, на подготовку. Приступить к выполнению задания сегодня, в двадцать ноль-ноль, — жестко подытожил Очерет. Хоменко сидел с безразличным видом и по своему обыкновению, мурлыкал себе под нос гимн Украины, будто убеждал себя в том, что она действительно «щэ нэ вмэрла»… Говорили, что он так любит украинские песни в исполнении певца Иво Бобула, что в его честь своего сына назвал Бобулом. В заключение Очерет обратился непосредственно к Хоменко. — Мне известно, что у вас плохо работает мобильный телефон. Если он еще раз забарахлит, генерал Останний тотчас вам выпишет новый… Хоменко ничего не ответил. Втянув голову в плечи и воровато ухмыляясь, он молча, стриг глазами по сторонам. При этом происходило нечто невиданное: глаза у него, то разбегались в разные стороны, то сходились, нацеленные на кончик носа. Вообще-то был разговор, что Хоменко настолько подозрителен, что его правый глаз следит за левым. Своим любезным предложением Очерет напрочь отбил охоту у Хоменко распевать гимн дальше. Больше заряженного пистолета, Хоменко боялся генерала Останнего. Это было довольно странно, поскольку в их характерах было много общего. Более того, они были земляки, из одного села в несколько дворов под Бердичевом. Вполне вероятно, что они даже состояли в дальнем родстве. И внешне они были очень похожими. Они оба были низкорослые, упитанные и курносые, у обоих были выступающие вперед челюсти и низкие покатые лбы, отчего казалось, что черные волосы растут у них прямо от бровей. Отличались они друг от друга только тем, что у генерала Останнего были сильнее выражены надбровные дуги, более косматыми были брови и больше были выпучены глаза, а у Хоменко брови были менее лохматые и в меньшей степени были вылуплены глаза. В остальном же, это были совершенно разные люди, более того, даже фамилии у них были разные…
Глава 5
Закончился еще один длинный день. Наступил наполненный серой грустью вечер. Когда и на третьем к ряду канале Альбина увидела президента Кучму, она с раздражением выключила телевизор. «Гарант» конституции со всех каналов телевидения призывал своих граждан «унеможливити можливість фальшування виборів»[15]. Известно, кто громче всех кричит: «Держи вора!» Она бы вообще никогда не включала телевизор, но в интересах бизнеса приходилось держать руку на пульсе общественной жизни. Наблюдая за ней в динамике, Альбина пришла к заключению, что те, кто пролез к власти после коммунистов, в гораздо большей степени одиозны, чем их предшественники. Однако она никогда не высказывала свое мнение об этом вслух, считая это ниже своего достоинства. Она не сомневалась в том, что на Украине зреет революционная ситуация. Хотя это ее совершенно не интересовало. Если что-то и начнется, то нескоро, и воспользоваться этим не удастся. За это время ее могут трижды посадить. Другие, более серьезные мысли занимали Альбину. Перед ней стояла непростая дилемма: либо вывезти коллекцию, воспользовавшись услугами Напхпнюка, либо попытаться переправить ее с дипломатической почтой представительства одной африканской страны. Этот канал она уже один раз использовала, но тогда придется все перевозить по частям. Первый вариант дешевый и быстрый, второй — дорогой и долгий. Оба, малонадежные. Одно утешало, что в любом случае для вывоза коллекции не надо будет тратить время, деньги и силы на получение официального разрешения Главного управления культуры Киевской горгосадминистрации. Как же поступить: доверить ценности местному хаму или бесхвостой обезьяне. А может, хвост у него как раз и на месте, он только обмотал его вокруг пояса, когда вручал свои верительные грамоты?.. Альбина не считала себя расистской и была согласна с Джефферсоном и той самоочевидной истиной, что все люди рождаются свободными и равными в своих правах и достоинствах, но принимать негров такими же людьми, как все, для нее было чертовски трудно. Она считала, что у них не только другой цвет кожи, но даже мысли и пороки у них другие, недоступные ее пониманию. Напханюк вызывал у нее какие-то смутные подозрения, которые, она была уверена в этом, рано или поздно подтвердятся. Но, не обращая внимания на предчувствия, будто ей кто-то это запретил, в своем всевозрастающем ослеплении она упорно отказывалась следовать здравому рассудку. А ее рассудок и опыт подсказывали ей простое правило, всегда подтверждающееся при незаконных сделках: «Если есть сомнение — готовься к обману». При этом ей было известно, что при помощи дистанционного воздействия (одной из модификаций внушения), человеку можно не только задать нужную интерпретацию происходящих событий, но и навязать мнение о них, ‒ в нужном русле направляя внимание. Но она была уверена, что подобные манипуляции с нею невозможны. Отемненная собственным успехом, она потеряла свою пресловутую бдительность. Весьма вероятно, что это только со стороны все выглядело так прозрачно. Ведь каждого человека можно заставить поверить в обман, если ему хочется в него верить. Так как же поступить? Кто бы подсказал, озарил советом истины. Сложные вопросы имеют простые, легкие для понимания, неправильные ответы… Бывает, искомое решение приходит само, но зачастую оно навязано обстоятельствами либо чьей-то волей. Будучи реализованным, оно чаще всего, не распутывает узлы, а затягивает их еще туже, удавкой на шее. Всю партию можно продать и здесь, покупатели найдутся. Но топовой цены за нее не взять, выручишь менее десяти процентов от ее стоимости, зато приобретешь сильную головную боль. Как ни старайся, все равно будет известно, откуда дровишки… Переправлять картины и антиквариат по своим каналам, через трех наиболее надежных проводников международных поездов она не хотела. Во-первых, не такие-то они и надежные. Во-вторых, это будет слишком хлопотно, дорого и опасно. Вся Украина, а теперь уже и Европа, знает о краже в Черниговском художественном музее. Придется расчленить коллекцию и перевозить ее по частям, обеспечивать отправление и прием груза, при этом будет увеличиваться кратность таможенных досмотров, а соответственно, и риск провала. Об этом, последнем пункте, она не хотела думать, поскольку при обнаружении картин обязательно выйдут на нее. Она не боялась, через границу уже вывезли и продали половину Украины, но она не была в числе тех, кому это разрешалось. И даже сейчас, когда каждый день увеличивал вероятность ее ареста, если бы ей предложили, она бы не присоединилась к тем, кому здесь все было дозволено. Это было равносильно тому, как если бы ей, человеку, предложили присоединиться к стае собак. В своем воображении она уже не раз воссоздавала цепь шатких, скользких камней, по которым ей предстоит перейти опасную бурную реку. Но в последнее время у нее не было уверенности, удастся ли ей это, хоть она и запрещала себе сомневаться в успехе. Свою перманентную войну с миром она вела на победу, а не на поражение. Кто думает о проигрыше, тот проиграет. Однако предощущение опасности не покидало ее. Готовясь к отъезду, она никоим образом не хотела ни лишних хлопот, ни затрат. Когда она приобретала картины, она знала, что будет и то и другое. Несмотря на это, отбросив осторожность, она решилась. Ее жизненный опыт подсказывал ей, что счастливый случай бывает раз в жизни, и тот, кто медлит, уйдет с пустыми руками. Взвесив свои возможности и сопоставив их с потенциальной степенью риска, Альбина вышла на результат: восемьдесят пять процентов против пятнадцати за то, что все пройдет гладко. Она приняла решение рискнуть и купила краденые картины. Теперь появились предпосылки, указывающие на то, что она откусила кусок не по зубам. Жадность подвела. Как бы им теперь не подавиться. Эта мысль, как говорится, была в руку. На столе в гостиной уже давно по возрастающей, пронзительно пищал мобильный телефон. — Я вскрыл квартиру, его не было дома около суток, — сказал Склянский. Альбина вспомнила, что последний раз она разговаривала с Мишей в ее магазине утром, накануне званого ужина. — В квартире все на месте, ничего не пропало. Мы его ищем, — Склянский как-то замялся и добавил: — Есть информация, что задержали тех, кто ограбил художественный музей в Чернигове, — больше он ничего не сказал. — Благодарю вас, — подождав, не скажет ли он что-то еще, коротко ответила Альбина и дала отбой. Ей сделалось неуютно в любимом халате, под весом легкой шелковой ткани ей стало трудно дышать. Склянский не мог знать о приобретении краденых картин. В его обязанности входило обеспечение безопасности, но от Склянского ничего не скроешь. Он все знал и понимал, этот Склянский…Глава 6
Оперативная группа Хоменко вышла на задание. В этот день, который больше походил на затянувшийся вечер, рано стемнело. Долго не включали фонари. В предчувствии чего-то неизбежного, черная ночь спустилась на Город. Наконец фонари зажгли, и проспект Правды вскрылся желтыми гнойниками огней. В соответствии с приказом, в восемь часов вечера группа Хоменко собралась возле дома Розенцвайг. Пока Цуркан и Сахно определялись на местности, где им предстояло вести наружное наблюдение, Хоменко куда-то пропал. Он только что был здесь, жевал свою булку, и будто сквозь землю провалился. Когда Хоменко не спал, он ел, предпочитая всем остальным продуктам, сало со свежим батоном. Добрый шмат сала и батон всегда были при нем, как табельное оружие и наручники. Если же рефлексирующие коллеги предлагали ему прекратить обжираться, он отвечал, что сало помогает ему думать, и продолжал жевать. Когда Цуркан и Сахно уже начали беспокоиться, неожиданно появился Хоменко в сопровождении двух пьяных проституток. Большую, пышнотелую и флегматичную он называл Аля, ей было лет двадцать, маленькой и егозливой было не более шестнадцати, он звал ее Юлой, хотя Аля называла ее Юля. На Але была расстегнутая синяя куртка из болоньи, слегка прикрывавшая то место, где должны были быть трусы, но самих трусов на ней не было. Она была в прозрачных колготках, через которые видна была густая черная шерсть, покрывающая не только лобок, но и внутреннюю поверхность толстых ляжек. Юля была одета в короткий громко скрипящий плащик из ядовито-зеленой пластмассы. Она, не умолкая, хохотала, на ее маленьком, почти детском, бледном лице ярко блестели глаза. А глазки-то у тебя блестят характерно, заметил Цуркан, отличающийся быстрой реакцией и цепкой хваткой. Он невзначай приблизился к Юле и принюхался. От нее исходил специфический кисловатый запах. Накурилась конопли оттого и веселится, обнаружил причину ее дурашливого настроения Цуркан. Также незаметно он обнюхал и Алю, но, сколько ни принюхивался, никаких других запахов, кроме запаха алкогольного перегара, табака и не чищеных зубов не унюхал. Тем временем Хоменко на багажнике чьей-то «Волги», поставленной поперек тротуара, расстелил газету, нарезал сала и остатки батона. Он успел уже раскрутить подруг на две бутылки водки, которые молниеносно закупил в рядом стоящем ларьке, не дав при этом от себя ни копейки. Выпив по второй, он начал уговаривать Алю показать в ближайшем подъезде, что она умеет. Она охотно согласилась, но потребовала за это двадцать гривен. Хоменко с сожалением сказал, что столько у него нет, и предложил ей пятьдесят копеек. — Оставь себе на троллейбус, — великодушно отказалась Аля. — Раз денег нет, давай часы. Он, часы-то у тебя есть, — проявила свою алчную сущность Аля. — Мне есть надо, ам-ам… Понимаешь? — втолковывала она непонятливому Хоменко. — Так я ж тэбэ накормыв! — удивился ее ненасытности Хоменко. — А на водку кто тебе деньги дал? — веско осведомилась Аля. Хоменко оставил ее вопрос без внимания. Юля не принимала участия в дискуссии, а только покатывалась со смеху. Цуркан и Сахно стояли рядом, не пили и не ели, с интересом наблюдая за своим командиром. — Ты чего это, водку сам булькаешь, а дружбанам своим не предлагаешь? — игриво поглядывая на Сахно, с осуждением спросила у Хоменко Аля. Хоменко и этот вопрос пропустил мимо ушей. Не хватало еще поить своих подчиненных. По его соображениям, все должно быть наоборот. Сахно в это время лихорадочно припоминал, как действовать в этой штатной ситуации. В ходе, так называемых «стрессовых семинаров» на спецкурсах, с ними не раз разбиралась тактика оперативных сотрудников при возникновении непредвиденных контактов с женщинами и спиртным. — Понимаешь, я б тебе подарыл часы, — прочувствовано убеждал Алю Хоменко, — Так воны ж мэни нужны. — Зачем они тебе? — стояла на своем корыстолюбивая и судя по комплекции, прожорливая Аля. Попробуй такую накорми… — Ну, как это зачэм?.. — удивился Хоменко, — Как я без часов буду руководить? Против этого довода возразить было трудно, и они налили по третьей. И все уже было на мази, но тут неожиданно пронзительно закричала Юля. Она начала подпрыгивать на месте, хлопать в ладоши и указывать на притормозивший неподалеку, мигающий фарами огромный десятиколесный авторефрижератор. — Смотри! Наши, молдаване! — пропищала Юля. Оказывается, она умела говорить. Одарив всех на прощанье прелестной улыбкой, Аля одной рукой взяла недопитую бутылку, другой, схватила за руку Юлю, и через миг они укатили. — От, гадэня! Як жэ цэ вона их углэдила? — сокрушался Хоменко, допивая третью. — Зачем ты их сюда притащил? — недовольно осведомился у Хоменко Цуркан. — А чого́? Хороши дивчата… — удивился Хоменко. — У тебя хоть презерватив есть? — не унимался опытный Цуркан. — Навищо? У ных свои е, оны их теперь з собою носять, бо СПИДу бояться, — ответил более многоопытный Хоменко. — Такэ выдумал, гроши на прэзэрвативы переводить… Сахно обратил внимание на то, что модные туфли Хоменко с открытым верхом (он называл их «концертными»), сильно испачканы глиной. Как он умудрился отыскать мокрую глину среди сухого асфальта, оставалось загадкой. — Дивчат з фуры шоферня выкынула, я за ними погнався, та й вскочив у болото, — дал отгадку Хоменко. — Оперативно надо действовать, а то б воны другу фуру остановили. Ладно, мать их черт, нехай! Зараз подсобку в гастрономе навещу, там и помою, — наметил план дальнейших действий Хоменко. Он снова начал пересказывать, где и при каких обстоятельствах повстречал, вылетевших на промысел двух ночных бабочек. Болтливый от природы, выпив, он вообще лишился тормозов, и все рассказывал, перебивая самого себя, с увлечением расписывая ничтожные подробности, повторяясь и не замечая этого. — Так, ближе к телу, как говорил Бальзак, — остановил его Цуркан. — Мы приступаем или продолжим совещание? — Это какой же Бальзак? Который, Оноре де́?.. — невинно переспросил его Хоменко. Сахно непроизвольно приоткрыл рот, что не прошло незамеченным у Хоменко. Он был не так прост, каким прикидывался. — Раз разговор пошел про тело, сейчас дам стиснутую справку, а после пойдем и тогда вжэ поработаем. Ото ж, шоб больше мне не было никаких прений! — окончательно и бесповоротно заявил Хоменко и, набив полный рот батоном, продолжил с неумолимостью пьяного рассказчика. — Моя теща, Аврора Варфоломеевна, в диспансере венерическом регистратурой руководит. Така вжэ добра людына, хочь до раны прикладай. Думаю ей памятник при жизни поставить — зарыть в землю по пояс и бронзовой краской покрасить… Рассказывала, им в диспансер на днях ментовские опера проститутку с Кольцевой дороги привезли на обследование. Она сама немая, руками щось такое показует, молчит, и хоть ты тресни! На шее у нее висит табличка, а на ней все расценки за услуги написаны, вся что ни есть разблюдовка и всё в извращенной форме… Ну, ничего, они там всякого навидались, особенно моя теща… Взяли они у нее кровь на анализ, а там — четыре креста!.. — А, что это за кресты? — не выдержав, спросил Сахно с округлившимися от удивления глазами. — Ну, они показывают… Шо она никакая, не немая, — на миг задумавшись, пояснил Хоменко. — Как только они ей об этом сказали, она сразу й заговорила. Говорит, шо она сама з села, и то мать ее ро́дная в город послала, шоб она отак денег на коняку заработала, «бо трэба ж зорать, а потим заволочыть». А так, воны удвох з матерью сами в плуг впрягаються и таскають его по полю. Тут все кругом начали ее жалеть, пряники давали, но недолго… Оказалось, она сама з Киева, дочка одного здешнего владельца ресторана, кстати, на Крещатике находится, можем зайти познакомиться, и в селе никогда не была, даже проездом. Просто полюбляет это дело, и все тут… То ли дармовая водка была паленной, то ли на халяву Хоменко наливал себе больше, чем остальным, но его сильно развезло. Цуркан, хорошо изучивший повадки своего командира, склонялся к мнению, что, скорее всего, имело место и то, и другое. Внезапно Хоменко замолк и, сняв туфли, начал внимательно их изучать, стоя на асфальте в небесно-голубых, светящихся в темноте фосфорическим светом носках. Этими носками Хоменко до чрезвычайности гордился, он дал торжественный зарок, что будет их носить, не снимая до победы на выборах Януковича, кандидата от правящего президента. Это была довольно самоотверженная клятва, поскольку его знаменитые носки в темноте светились, как гнилушки на болоте. Когда он вечером шел по улице, они привлекали внимание всех проходящих мимо собак, из-за чего ему уже не раз пришлось зашивать свои штаны. — Смертельно спать хочется, — громко зевнув, сказал Хоменко, — Но не с кем… Неожиданно Хоменко захотелось курить. — Так, внимание, господа подчиненные! Давайте закурим, — с пьяной требовательностью призвал он. Но, ни Цуркан, ни Сахно не курили, хотя из уважения к своему командующему могли бы на всякий случай иметь при себе сигареты, о чем он сделал им вполне обоснованное, замечание. Хоменко никогда не упускал случая подчеркнуть, что он здесь начальник, а они его подчиненные. Неудовлетворительно соблюдавший субординацию Цуркан, внимательно посмотрел на него, покачал головой и сказал: — Мы пойдем, осмотрим подходы к ее подъезду, а ты, догоняй, — и Цуркан вместе с Сахно направились в сторону арки, ведущей во двор к Розенцвайг. Но идти на боевое задание, не покурив, Хоменко не мог. Поставив свои туфли на импровизированный стол, накрытый на багажнике «Волги», он погнался за каким-то прохожим, категорически требуя закурить. Коварная «Волга», будто только этого и дожидалась. К тому времени, когда Хоменко вернулся, довольно попыхивая сигаретой, она укатила в неизвестном направлении с его туфлями на багажнике. По уважительной причине Хоменко был вынужден выбыть из операции.Глава 7
Терпению Альбины пришел конец. Каждая минута растягивалась на час, а час — на целые сутки. Не дождавшись условленного времени, она связалась по мобильному телефону со Склянским. — Удалось что-либо выяснить о Михаиле? — спросила она. — Нет, но этим занимаются, — ответил Склянский. — Что есть по Полифемовичу? — Я отправил его досье, фотографии и отпечатки пальцев своему другу в Москву. У него есть возможность проверить его через базу данных ФСБ. Если что-то поступит, сразу же сообщу. Копии его фотографий в вашем почтовом ящике. — Вы слушаете его телефоны? — Да, все. — Он вел переговоры о переброске груза в Рим? — Нет. Таких разговоров не зафиксировано, — уверенно ответил Склянский. Странно, подумала Альбина, но он мог провести переговоры и минуя прослушивание. Даже наверняка должен был так сделать. — А, как он вам показался? — Пока не знаю. Но верхним чутьем чую, с ним что-то не то… — подумав, как-то неуверенно ответил Склянский. Обычно его высказывания отличались полной определенностью, свойственной человеку, убежденному в своих суждениях. — Прошу вас ускориться. По возможности… — с чувством попросила Альбина, закончив разговор. Такого за ней не водилось, она никогда раньше его не подгоняла, отметил Склянский, сделав соответствующий вывод.* * *
В воздухе плыл аромат свежезаваренного кофе. Альбина сидела у себя в кабинете в удобно обтекающем ее формы кресле эпохи Людовика ХІV с изящно изогнутой высокой спинкой и ножками в виде львиных лап. Ее письменный стол красного дерева с простыми и крупными формами стиля Луи-Филиппа стал для нее незаменим для размышлений и работы. Перед собой, как в пасьянсе, она разложила и внимательно рассматривала фотографии Напханюка. Склянский постарался и снял его в разных, порой весьма забавных обстоятельствах. Фотографии беспристрастно отражали, до чего быстро и неприятно менялось выражение его лица. Что это, быстрая смена эмоций или масок, особенности ракурса или подсветки, а может, своеобразие мимики, связанное с индивидуальным строением лица? На одной из фотографий, сделанной через окно офиса, был изображен что-то говорящий Напханюк. Повернувшись в три четверти, он орлом восседал за массивным, заваленным бумагами столом. Перед ним стояла, покорно понурив голову очень красивая женщина. У него было напряженное, жесткое выражение лица, такому человеку не свойственна жалость и снисхождение. Глядя на его профиль, Альбина пришла к выводу, что это беспощадный и вовсе не глупый субъект. Наряду с этим, губы, форма носа и подбородок указывали на низменное сластолюбие и храбрость, граничащую с дерзостью и легкомыслием. Подобный тип лица встречается у людей с заниженным порогом опасности. Она поставила перед собой на столе резной серебряный пюпитр с наиболее удачной фотографией, где Напханюк был снят анфас. Рядом улеглась золотая статуэтка сфинкса, глядящий из глубины тысячелетий получеловек, полузверь — символ тайны и абсолютного молчания. Альбина отпила кофе из светло-зеленой майоликовой чашки. Задумавшись, она подержала чашку в руке, а затем поставила ее на такое же, штучной работы блюдце. Густой темно-коричневый напиток контрастировал с ослепительной белизной внутренней поверхности чашки. В последние дни она ловила себя на том, что постоянно повышает крепость настоя, переходя от одного сорта кофе с повышенным содержанием кофеина, к более сильному. При этом она обратила внимание, что чрезмерно крепкий кофе затрудняет переключение с одной темы на другую, зато ускоряет темп работы по одному конкретному направлению. Изучая лицо, по взгляду, прикусу, смыканию губ, можно многое узнать о человеке. Существует закономерное соответствие между внешностью и скрытыми особенностями характера. Никому не дано скрыть свою суть полностью, скрывается лишь то, что можно заметить при поверхностном взгляде. Внимательно вглядываясь в черты лица Напханюка, Альбина пыталась понять, кто этот человек, путем интеграции и построения гипотез смоделировать его мысли и возможные действия. Предвидеть события — значит иметь возможность ими управлять. Тайные пружины, двигающие механизмом любого мошенничества, давно и хорошо известны. Все ситуации более или менее стереотипны, и разнятся лишь неизбежно связанными с экстремальными обстоятельствами парадоксами. Исходя из этого, в принципе не сложно проникнуть в суть побуждений, движущих поступками человека, но отнюдь не в его душу. При кажущейся похожести, и даже одинаковости мыслей и поступков, люди порой не поддаются прогнозу. Здесь не поможет никакое ars conjectandi[16]. В это время на ее столе зазвонил городской телефон. Альбина никогда не вела важных разговоров по городскому телефону, в крайних случаях, пользовалась мобильным. Она знала, что телефоны и подслушивание телефонных разговоров изобрели одновременно. К тому же, есть категории людей, чьи телефонные аппараты постоянно прослушиваются. Часто это журналисты, сотрудники некоторых посольств, да и мало ли кто еще. Но чаще всего под прослушивание попадают объекты оперативных разработок, куда она могла отнести и себя. Имея основания подозревать, что и к ней «прислушиваются», она никогда не выдавала своей осведомленности об этом, а напротив, старалась использовать своих «подслушивателей» в своих интересах, подбрасывая им выгодную ей информацию или дезинформацию. Никогда не забывая об ухищрениях тех, кто занимается всеобщим надзором, она не предполагала, что могут осуществлять подслушивание не только ее телефона, но и непосредственно ее квартиры. Нет ничего более опасного, чем мнимая безопасность. Брать трубку после первого звонка — признак суетливости. Дождавшись третьего звонка, она подняла трубку. — Ты, слухай сюда и молчи. Твой Мишаня у нас, желаешь его послухать? — в трубке послышалась какая-то возня, а затем раздался испуганный, прерывистый голос Миши. — Альбиночка! Я прошу тебя, сделай что-нибудь… Они хотят меня убить! — его крик оборвался чавкающим ударом. — Ша, с-сука-падла! — врезался чей-то ненавистно гнусавый голос. — Бывай, пока… — связь прекратилась. Она еще некоторое время с замиранием сердца прислушиваясь, но в трубке были слышны только короткие гудки. Автоматический определитель номера показал, что звонили по мобильному телефону. У нее было ощущение, будто на нее неожиданно обрушилась тонна кирпичей. Миша, его жизнь подобна лепестку херсонской акации, он никому никогда не делал зла, его жизнь неприкосновенна, его жизнь ей была дороже своей собственной. Что делать, она не знала. Самообладание и в этот раз не покинуло ее. Одно то, что Михаил находится в руках не знающих пощады похитителей, обязывало Альбину быть осмотрительной. Надо действовать предельно хладнокровно, без спешки и суеты. Она знала, что вырыванием волос здесь не поможешь, но и доверить это дело кому-то было нельзя. Все следует сделать самой, собственной рукой. Все, кто это придумал, ляжет под ее косой! А пока, необходимо выждать. Когда не знаешь, что делать, выжидательная тактика всегда себя оправдывает. Никогда еще у нее не было так скверно на душе. Все ее ухищрения не принесли ей счастья, она оставалась бедным мятущимся существом, не знающим покоя. «Господи, мой Боже, зеленоглазый мой! Смири мою гордыню, — в отчаянии прошептала Альбина. — Я поверю в Тебя, если Ты мне его вернешь…» Альбина была верна себе, и в эту минуту, тяжелей которой еще не было в ее жизни, она продолжала торговаться. В это время в ее дверь позвонили. На экране искусно замаскированной на лестничной площадке телекамеры Альбина увидела стоящего за дверью человека с густой черной бородой. Что-то ей подсказало, что за дверью опасности нет, и это не обычный нищеброд. Бросив взгляд на два других экрана, которые открывали панораму вверх и вниз по лестничным пролетам, она не увидела ничего подозрительного. Ни одному незнакомому человеку она бы не открыла свою дверь, ему же, она ее отворила. Перед ней стоял высокий, очень худой монах в черной рясе и в черном колпаке. Из-под рясы вместо левой ноги торчала окованная снизу железом изношенная деревяшка. Взглянув ей в глаза горящими неистовым огнем огромными карими глазищами, он тихо произнес голосом, который, казалось, минуя слух, проник непосредственно в ее сознание. — Альбина Станиславовна, к вам попала икона Ильинской божьей матери. Вы должны ее отдать. — Не понимаю, о чем вы говорите. Подите прочь! — резко оборвала его Альбина и захлопнула дверь. Сразу же раздался требовательный, не прекращающийся звонок. Что это, провокация?! Лихорадочно соображала Альбина. Не хватало на этом, завершающем этапе, провалить дело! Но опасаться мне нечего, здесь у меня ничего не найдут, а сандал надо тихо уладить. Этого монаха я уже видела возле своего дома. Для опознания следящего нужно заметить одно и то же лицо не менее трех раз. А, сколько раз я видела его? Не помню. В любом случае вначале следует попытаться договориться. Альбина не боялась ничего, она не верила ни в бога, ни в черта, никогда не признавала над собой ни власти коммунистов, ни власти новых украинских буржуинов. Она верила лишь в силу денег. При этом она понимала, что не все продается за деньги. Весь этот каскад молниеносных размышлений вылился в решение, и она открыла дверь. Монах стоял в той же позе и так же прямо глядел ей в глаза. В кармане халата Альбина беззвучно сняла с предохранителя «Вальтер». — У вас красивый пистолет, — одновременно с неслышным, только под пальцем ощутимым щелчком, произнес монах. — Незачем его теребить, он вам не понадобится. Мою пулю еще не зарядили, хоть смерть доведется принять от нее. Так-то и лучше, солдат однажды — солдат навсегда. Эта икона чудотворная. Она все время находилась у праведника, и я ее не видел. Праведника не стало, и икона пошла по рукам, и это, ничего. Но теперь ей предстоит покинуть нашу землю, а этого допустить нельзя. Матерь Божия Ильинская — защитница наших людей. Если она уйдет, кто их защитит? Знаю, вы хотите ее продать, но этого делать нельзя. Чтобы вы мне поверили, я вам скажу, что ведаю о том, что она к вам приходила не далее как этой ночью и просила вас о том же. У Альбины похолодело в груди, это было действительно так. Но она справилась со своим волнением. Там, где наши сокровища и беды, там и подсознательные мысли. Альбине было известно о способностях некоторых экстрасенсов сканировать мысли. Проникнув в самое сокровенное, они приобретают тайную власть над людьми, манипулируя ими. Поэтому она подавила в себе все возрастающее беспокойство и холодно проговорила: — Повторяю вам, я не понимаю, о чем вы говорите. Или вы оставите меня в покое, или я вызываю милицию. У меня договоренность и прямая связь с ОМОН. Один звонок, и через пять минут они будут здесь. Я не шучу, выбирайте. — Я знаю. Вы не умеете шутить. Даже, если захотите, у вас не получится, — опять совершенно точно угадал он. Свинцовая усталость залегла в углах его пересохших сеченых губ. — Я больше никогда вас не побеспокою, но прежде, выслушайте меня. Коварство и ложь — есть безумие в очах Бога. Украсть икону, все равно, что сжечь храм. Еще можно все предотвратить. Если вы не отдадите мне икону, прольется много крови, и вы погибните. Вы будете умирать в муках, крысы у вас, живой, будут есть лицо. Отдайте икону. В ее глазах он увидел ответ, и ответ тот был: «нет». Он знал, что так и будет, но он должен был передать ей это. Предостережение дает шанс изменить ход событий и избежать непоправимого. Только все зря, уповать на ее совестьбесполезно, на месте совести у нее выросла белена наживы. Незачем искать то, чего на самом деле нет. И тогда он произнес слова, ради которых пришел. Пусть знает и с этим погибнет. — Отец Иоанн, перед тем как благословил меня на поиск иконы, сказал: «Тот, кто торгует святынями родной земли, хуже собаки». Альбина знала множество ругательств, проклятий и оскорблений на разных языках, она их коллекционировала. Это было ее тайное хобби. При этом, в ее понимании, слово «собака» было худшим из оскорблений. Эти животные ассоциировались у нее с представителями религиозно-политической секты, известной под названием «коммунисты». Не исключено, что все было гораздо проще, и в одной из прошлых своих жизней она была кошкой… Альбина молча захлопнула перед ним сейфовую дверь своего бункера, для надежности прислонившись к ней спиной. Почему-то она была уверена, что то, что сейчас сказал этот сумасшедший, правда. Так и будет, но она не могла преодолеть себя и отдать этому бомжу очень дорогую, стоящую многие тысячи долларов доску. Если один раз проявишь слабость, назавтра придет другой хам и потребует что-то еще. Как говорят в Одессе: «Вначале, дай закурить, а потом, давай все остальное…» Нет, никогда! С кем угодно, но не со мной, все что угодно, но без меня. И пусть все идет так, как должно идти, я не отступлю, не сверну со своей дороги, даже если этот путь к погибели. «Так и будет», — как-то непроизвольно произнесла она вслух, и от этих слов ее снова пробил озноб. И она начала успокаивать себя, убеждая себя в том, что каждый гость приносит радость, если и не своим приходом, то уж непременно, своим уходом… Ее мысли прервал звонок городского телефона, донесшийся из кабинета. — Так, слухай сюда, — сердце ее сжалось, Альбина узнала этот гнусавый голос, она классифицировала его, как «носовой тенор». — Готовь выкуп за своего хахаля. Даю тебе два дня. Шоб в среду у тебя было сорок тысяч долларов. Куда привезти, я тебе после скажу. И никаких ментов, а то Мишаню своего живым не увидишь. Она хотела крикнуть, что деньги у нее есть и она их привезет сейчас же, но на том конце дали отбой. Автоматический определитель показал тот же номер мобильного телефона. Сколько она его ни набирала, он не отвечал.
* * *
Ночи становились все холоднее. Тихон ночевал в том же подъезде дома, где жила Альбина. Без труда подобрав код к входной двери, он устроил себе лежбище на лестничной площадке верхнего этажа перед входом на крышу. Питался он подаяниями, которые собирал на рынке «Виноградарь», расположенном рядом. В подъезде было холодно, и заснуть удавалось только под утро. Под утро ему приснился Афганистан и его последний бой, когда усилием воли он отвернул, летящую в него пулю. На той войне Тихон убил двоих. Сколько было убито в перестрелках, не считается. Когда стреляют все вместе, не знаешь, кто от чьей пули упал, чтобы не подняться. Другое дело, когда один на один, глаза в глаза. Первый, был в Кабуле, где после призыва, он отбывал воинскую повинность в Советской армии. Во время комендантского часа их патруль задержал местного ловеласа, который возвращался от любовницы. Прикрывая друг друга, они молча продвигались по длинной улице столицы, ему не забыть ее название: «Майванд». Улица уходила круто под уклон вниз и пролегала по дну древнего ущелья Гузарга между двумя горами Асмаи и Шир-Дарваз, а потом поднималась вверх. Мелкая пыль скрипела на зубах. Быстро темнело. К вечеру жара донимала не так сильно, как днем, с гор понемногу начинала струиться прохлада. Кабул, будто вымер, совсем недавно начался комендантский час, но все лавки и мастерские были закрыты. Попрятались громкоголосые уличные торговцы, которые продают свои цветастые товары с лотков или вывешивают их на показ на заборы и стены домов, а то и просто, грудами раскладывают на земле. Из нагромождения темных лавок и будок ремесленников (жестянщиков, сапожников, портных), слышалось то возрастающее до визга, то приглушенное, лопотание на фарси. Отовсюду доносились запахи восточных пряностей, аромат жареного шашлыка, дух свежезаваренного кофе, дым мангалов и гашиша. Там кипит своя жизнь, не затихающая до утра. Шаг за поворот от улицы-базара с ее диким разгулом коммерции и ты попадаешь в лабиринт из множества узких кривых переулков, где один к другому лепятся убогие глинобитные дома без окон. Из одного такого переулка, будто из-за кулис, им навстречу балетной побежкой выскочил афганец. Он был лет на пять старше Тихона, с маслянисто блестящим в сумерках, толстощеким лицом. Полнота на Востоке означает достаток, толстая рожа и пузо здесь признак богатства. Одет он был в белый полотняный костюм и розовую рубашку с отложенным воротником. Костюм висел на нем мешком и выглядел измятым и грязным, как у здешних городских мужчин, которые наряжаются в европейскую одежду. Глядя на них, поневоле думалось, что они носят костюмы вместо пижам, чтобы в них спать не раздеваясь. Тихон уже сталкивался с подобными представителями местного населения, под маской радушия у них кроется особое восточное лукавство. Они безрассудно лживы, обещают все подряд, но никогда не исполняют своих обещаний. Главная их цель: хоть в чем-то, хоть на грош, да обмануть не только кафира, но и своего единоверца, будто лгать и обманывать призвание их жизни. Без возражений он отдал им все, что было у него в карманах, там-то и было около двадцати афгани и какая-то металлическая мелочь, — пулы. Он снял и отдал им швейцарские часы (дешевую штамповку) и серебряный перстень (оказалось из алюминия). По местным меркам, он был настоящий франт и все бы для него закончилось благополучно, если бы внезапно что-то не пронеслось между Тихоном и этим афганским пижоном. Тихон отреагировал мгновенно, прошив его короткой очередью. Три пули легли недалеко друг от друга на груди его белеющего в сумерках пиджака. Ничего особенного, на такой дистанции даже при автоматическом режиме огня разброс минимальный. Оказалось, то пролетела летучая мышь. А вторым, был майсафа[17] в круглой шапке, похожей на бескозырку (в дуканах их называли пуштунками) и долгополой землистого цвета рубахе на острых развернутых плечах. При прочесывании кишлака под Гератом с расстояния трех метров Тихону в грудь выстрелил из допотопного «Кольта» тощий седобородый дехканин в съехавшей набок коричневой шапке. Они столкнулись лицом к лицу за хлевом в глухом углу огороженного высоким дувалом двора. Тихона будто тянуло туда, в тот дальний угол, где они бы ни за что не разминулись. Он до мельчайших подробностей помнил смуглое, как табачный лист, лицо старика, изборожденное морщинами, белый хлопок бороды и высверк, полыхающих праведным гневом глаз. Неопределенного возраста, ему одинаково легко можно было дать как шестьдесят, так и восемьдесят. Тихон увидел вспышку и пламя, отделившееся от дульного среза, а потом увидел пулю, вращаясь, она приближалась к нему, как в замедленной съемке. Он успел подумать, что с такого расстояния не промахиваются и усилием воли отвернул ее полет. Скользнув по бронежилету, пуля изменила траекторию и, обогнув грудь, ударила в ствол тутового дерева, только щепки полетели! Звука выстрела он не слышал, их двоих обступила ватная тишина. Что́ это было? Чудо? Или все это ему привиделось? Он не знал. Но он был убежден, ‒ чудеса не свершаются для тех, кто в них не верит. Уже в госпитале, обожженный лейтенант-вертолетчик объяснил ему, что иногда в бою людей в состоянии транса не берут пули, они их «обминают». Вокруг них, будто искривляется пространство, как в присутствии громадной гравитационной массы. Что же это было? Тихон так для себя и не решил. Причины некоторых явлений до сих пор неизвестны, даже названия для них еще не придумали. Тихон считал, что не стоит знать слишком много о вещах, в которых никто ничего не понимает. А лейтенант? Он умер. Чудно́, он умер совсем не от ожогов, их оказалось не так-то много, обгорело в основном лицо, но переломы костей таза осложнились перитонитом, он и умер. Тихон помнил, как тяжело он отходил. Напоследок, вырываясь из бреда, он изо всех сил стиснул Тихону руку, хотел что-то сказать, глядя ему в глаза озаренным последним просветлением взглядом. Видно, хотел ему что-то передать, поведать что-то важное и не успел. Руку только на прощание сжал, откуда и сила взялась, ногти после черные были, будто дверью прищемил. Длинная очередь из «Калашникова» разорвала старика напополам. Во все стороны разлетелись клочья одежды и окровавленной плоти. Его сухие узловатые пальцы долго скребли, сгребая под себя землю, да босые ноги в резиновых галошах взбрыкнули пару раз. Тихон, в миру Владимир, подумал тогда, что не надо было выстреливать в него весь магазин. Но ему не удалось совладать с охватившей его яростью из-за пережитого страха. Это случилось утром, а вечером он подорвался на растяжке, как после выяснилось, поставленной своими. Ногу оторвало начисто, она отлетела недалеко, метра на два, не дальше. Тихон лежал на глинистой земле, и безразлично разглядывал свою ногу. В кровавом месиве сахарно белела кость, налетел горячий ветер и припорошил ее рыжей пылью. Вдали за равниной виднелись бурые горы. Тогда же к нему пришло откровение о том, что есть высшая справедливость, которая к поступкам приставляет зеркало, возвращая тебе то, что ты совершил. Неподалеку был блокпост, хлопцы знали, что главное остановить течь, как на подводной лодке. Потому и остался в живых. А способность видеть будущее пришла позже, уже в Союзе, в реабилитационном центре, в ту ночь, когда не получилось с санитаркой Валей. С ней получалось у всех, даже у тех, кто не мог. Она делала это для них, для всех, и ни один из них не смог бы обозвать ее известным грязным словом, потому что они знали, она делала это больше для них, чем для себя. А он с нею не смог, не смог потом и с другими, а потом пришло все остальное, и он узнал, что будет дальше, в общих чертах. Потом стали приходить подробности. Как ему удавалось заглядывать в будущее, видя наперед то, что сбудется, он не знал, но он это умел. Он всегда чуял тяжелые шаги приближающегося рока. Когда у него появлялось это предчувствие, он знал, что скоро им овладеет какая-то темная сила, которой он не в силах будет противостоять. Тогда он начнет совершать опрометчивые поступки, один за другим, и каждый из них будет наносить ему непоправимый вред, но он все равно будет их совершать, потому что ничего не может с собой поделать. Он пробовал сопротивляться, поступать по-своему, наперекор обстоятельствам, но ничего не получалось. Молот сам своей доле кузнец. Все шло своим чередом: водка и еще раз водка, тяжелое похмелье и снова водка, водка без конца. Пьяные руки все на пол швыряли, руки часто живут отдельно от нас: чувствуют, думают, пакостят или приходят на помощь. Один запой плавно переходил в другой, постоянный поиск денег на опохмел, судимость, благо, что условная, вторая, побег и жизнь в розыске, монастырь, годы послушничества и, наконец, ‒ постриг. Он решил провести остаток жизни наедине с собой и Богом в монастыре, вдали от городских соблазнов. Тогда же он принял новое имя в честь страдальца за землю русскую патриарха Тихона. В иноческой обители Тихон прошел все ступени послушания: три года работал на кухне, рубил дрова, носил воду и готовил еду для братии. Еще три года стоял на страже у монастырских ворот, не отходя никуда, кроме церкви. Его не тяготил неприхотливый до суровости монашеский быт, размеренная, строго регламентированная жизнь, требовавшая ежеминутного неукоснительного подчинения. Сполна он испытал на себе ту непреложную истину, что в монахи идут не тогда, когда захотят, а когда Бог тебя призовет. Монах, значит один по дороге к Богу, он стоит одинокий на грани миров, олицетворяя собою завет: «Далее следуй сам». Все это уже было, закономерно повторяясь от начала времен: за жизнью военной последовала жизнь монашеская, ибо крайности сходятся, а искренность раскаяния неизбежно приводит к покаянию. Но, покаявшись в прежней своей жизни, ему не удалось пристать к новым берегам, монастырь не стал для него последней пристанью, местом для уединения и размышлений. И в тихой обители, неприступной для князя Тьмы, мир не отпускал его. Хоть он и дал обет и отрекся от всего мирского, мир по-прежнему владел его мыслями и готовил ему самое трудное испытание. Монотонность монастырской жизни невольно заставляет концентрироваться на себе самом, снова и снова переживать то, что было в его прежней жизни, и он додумался до того, что его жизнь в монастыре есть некое сонное видение, насланное на него Врагом рода человеческого. Однообразность повседневного физического труда, молитвы и пост ничего кроме отупения у него не вызывали. Успокоения он не находил, и ему начало казаться, что он прячется от самого себя. Тягостное ощущение безвременья томило его. Все чаще к нему стала приходить, подосланная Лукавым мысль, что и в монастыре не все спасаются, да и в миру не все погибают. И кто-то темный неотступно искушал его во сне, вопрошая: «Туда ли ты пришел? И, здесь ли твое место?» Так тянулось бы и дальше, неизвестно сколь, но за ночью неизбежно наступает рассвет, смертью смерть поправ, Христос поднялся из мертвых. Однажды, когда силы оставили его и он, оглянувшись на свою прошлую жизнь и заглянув в будущее, без тени сомненья увидел, что он на этом свете никому не нужен, и нет у него впереди ничего, кроме смерти. Осталось ему только терпеть и ждать, ждать и терпеть, как терпел Христос, он тоже не смог попрать смерть ничем другим, как смертью. И не было в том ожидании ни конца, ни края и просвета в нем тоже не было, пока не привиделся ему образ Черниговской Ильинской Божией Матери и не отважился он на поиски иконы. Теперь же, ему открылось главное, почему пришли эти испытания, то была Икона. Она спасла многих, пришел черед спасти ее. А впереди?.. Что впереди, известно, но икону я спасу, ‒ дал обет он себе.
Глава 8
Каждое утро жизнь начинается снова. И в это утро она началась, как в первый раз при рождении. Неужели, так же холодно было и тогда, когда родилась? По колено в тишине Альбина мерила шагами комнаты своей теплой квартиры и замерзала. Хождение по комнатам часто нападало на нее, и временами она часами напролет проводила за этим занятием. В который раз она дошла до гостиной и, развернувшись, снова шаг за шагом проследовала до спальни. Стена, возле нее софа, бюро восемнадцатого века, подлинный шедевр французских краснодеревщиков, кресло, снежной белизны раздвижная дверь с золотым орнаментом, туалетный столик семнадцатого века, над ним изящное венецианское зеркало эпохи Возрождения, мерцающее хрустальными гранями, козетка на выгнутых золоченых ножках и снова стена, а потом назад. Взгляд притягивали раскрашенные вручную дивные китайские веера, вечно живые экзотические цветы, цапли и черепахи в зарослях зеленого бамбука. Что́ вещи, какими бы красивыми и дорогими они ни были, это всего лишь вещи. Их можно рассматривать, трогать руками, гладить, ласкать, ими можно восхищаться, их даже можно любить, но от них не дождешься ничего в ответ. Потому как это всего лишь вещи, равнодушные и в чем-то высокомерные, глухие и немые, неодушевленные предметы. А одушевлена ли она? И, где, куда подевалась ее душа?.. Все! Достаточно глупых вопросов. Что только не взбредет в голову от вынужденного бездействия. Ей было холодно. Хотя автономный германский водонагревательный агрегат работал на полную мощность, пол с подогревом был теплым, а к радиаторам отопления вообще нельзя было прикоснуться. Все работало и, наверняка, было тепло, но ее бил мелкий озноб, она страдала от холода. Это был какой-то парадоксальный, не подвластный внешнему физическому теплу, внутренний холод. Кроме холода, ее изматывал непрерывный, ни днем, ни ночью не прекращавшийся шум. В ее полностью изолированной от внешнего мира квартире, на звукоизоляцию которой была истрачена не одна тысяча долларов, каждую минуту что-то происходило. Любой, едва слышный звук, воспринимался ею с невероятной силой, вспухая нарывом и болезненно царапая слух, он до мучения долго звучал в ушах. Непрерывное ожидание новых звуков взвинчивало напряжение. Она пребывала в постоянном ожидании, сосредоточено прислушиваясь, когда же послышится новый шум. И вот, в дальней комнате раздавался чуть слышный скрип рассыхающейся мебели либо беззвучная капля неожиданно отрывалась из крана в ванной. Среди могильной тишины они были подобны скрежету раздираемого металла или падению чего-то бесформенно огромного. Альбина включила телевизор. Сегодня президент Кучма где-то спрятался, зато по всем каналам показывали его собратьев, трансвестита Верку Сердючку и Поплавского, толстозадого клоуна с повадками педофила. Эта сладкая парочка представителей новой украинской культуры постоянные персонажи всех каналов государственного телевидения. Переодетый женщиной трансвестит Верка кривлялся, и на суржике выкрикивал частушки со словами из национального гимна. Вокруг него скакал Поплавский, маленький, волосатый с несоразмерно короткими зверюшечьми ручками в окружении голых студенток национального университета культуры, где он ректор, ‒ первый в истории цивилизации танцюючий[18] ректор. И студенток себе в подтанцовку он подобрал с соответствующими ужимками, на сцене они ведут себя как на осмотре у гинеколога. Выстроившись за Поплавским и Сердючкой, эта беснующаяся орда принялась маршировать по сцене, вот оно триумфальное шествие пошлости! Альбина переключала каналы, надо было посмотреть новости, но вместо них диктор пересказывал содержание предыдущей серии очередного цыганского сериала, где Баро сказал, а Маро ответил, и так до бесконечности. На одном из каналов некто с бритой конической головой и ярко выраженной еврейской наружностью брал интервью у известного писателя, лауреата литературной премии «Коронация словом». Как же фамилия этого бритоголового? Его лысый череп сужался кверху, словно вытянутый щипцами неумелого акушера, он не вылезал из ящика телевизора практически по всем каналам. Альбина вспомнила, что он редактор какой-то бульварной газеты, а фамилию его запамятовала, то ли Гордиенко, то ли Шлагбаум, что-то около этого. — Над чем вы сейчас работаете? — задал свой коронный вопрос Гордиенко-Шлагбаум. Инженер человеческих душ в вышитой украинской сорочке, дико глянул на своего интервьюера и ответил: — Я, как лавреат, сейчас работаю над изобретением новой буквы. Наразі[19] изобретю, то есть изобрету и вделаю ее в наш алфавит. Нам нашу мову надо развивать, а то она у нас занепадает из-за москалей. Это буква будет наподобие иероглифа, в виде этакого апострофа. Он, этот апостроф, будет многофункциональный, как мужской половой член. И этот член… То есть, наш новый членообразный апостроф будет иметь много значений, в том числе, и «Пошел ты на х…!» Улавливаете мою мысль? Хорошо улавливаете?.. Альбина выключила телевизор и плотнее закуталась в теплый кашемировый халат. Вчера она ездила продлить визу, и ей все время казалось, что кто-то рассматривает ее со спины. Она несколько раз незаметно проверялась, но ничего подозрительного не заметила. И все же она чувствовала на себе чей-то неотвязный взгляд, он лежал на ее плече, как чья-то невидимая длинная рука. Ей казалось, что эта рука и сейчас тянется к ней. Нужно было поскорее согреться и унять охватившую ее внутреннюю дрожь. Она открыв буфет, налила и выпила рюмку коньяка, закусив ломтиком лимона, предварительно обваляв его в сахарной пудре. Но вместо коньяка в графин кто-то налил коричневого цвета безвкусную жидкость. Вот это да! Не сон ли это наяву? Лишь после до нее дошло, что и вкуса лимона она тоже не почувствовала, все было до отвращения пресным. «Так не пойдет…», — прошептала она и закашлялась сухим надсадным кашлем. Надо что-то делать с этой внезапно появляющейся сухостью в горле, она всегда сопровождается мучительным кашлем. Эта сухость, как живая затаилась у нее в груди, подстерегая момент, чтобы сдавить ей горло. Однако коньяк, принятый натощак, подействовал, сковывающая ее стынь незаметно ушла вместе с трясучкой, живительное тепло ласково окутало ее и ей показалось, будто все в ее жизни опять стало на свои места. Она хотела уж было связаться со Склянским, но тут раздался рингтон ее мобильного телефона, Склянский позвонил ей сам. — Нам необходимо встретиться, срочно, — раздался торопливый голос Склянского. — На том же месте, через час, — ответила Альбина. И суток не прошло, как она с ним виделась, и ничего путного он ей не сообщил, но и по телефону говорить упорно отказывался. Уж не влюбился ли он в меня, невзирая на преклонный возраст? Нет, он влюблен в меня давно, с нашей первой встречи. Оба об это знаем. Перестраховывается старик. Стареет. — Нет, там нельзя. Я рядом. Назовите другую точку, — возразил Склянский. Это уж было совсем не комильфо. — На набережной озера у моего дома, напротив евангельской церкви, через пять минут, — сразу же предложила Альбина. — Принято, — сказал Склянский и первым дал отбой. Склянский всегда помнил, что «выход на связь» один из самых опасных моментов в работе разведчика. Пройдя в конец двора своего дома, Альбина спустилась по ступеням на набережную озера «Голубое», одного из самых живописных озер Киева. Трудно сказать, когда это озеро красивее, летом или зимой, а может быть, осенью? Здесь красиво всегда, и когда идет дождь, и когда метет снег. В недвижимом зеркале озера отражаются берега и голубое киевское небо, а вокруг липы и развесистые плакучие ивы склонились у воды. Чем-то они напоминали ей расчесывающих косы девчат, тоскующих о том, что было или не сбылось, и вряд ли сбудется. А в час цветения лип их кроны всегда гудят музыкою пчел и все вокруг пахнет медом. Сейчас декабрь, деревья оголены, лишь одна сердцелистая липа стоит одинокая, одетая в сухие листья. До чего грустно слышать шелест мертвых листьев на уснувшем дереве. Медленно прогуливаясь со Склянским, Альбина с увлечением и душевным подъемом смотрела по сторонам, она уже не могла и вспомнить, сколько лет она сюда не приходила, а ведь вся эта краса жила в двух шагах от ее дома. Она опьянела от безмятежной красоты притихшего зимнего озера. Подошвы ее туфлей стали прилипать к бетонным плитам набережной, когда она услышала: — Из Москвы пришла совершенно достоверная информация. Выяснилось, что Напханюк бывший оперативный сотрудник Российской ФСБ, — как всегда кратко докладывал Склянский. — Его настоящая фамилия Проскуратов. Из ФСБ в звании майора он перешел в Центральное бюро Интерпола в России. Работает у нас под прикрытием, выдает себя за содержателя контрабандного канала. Имеет разведзадание отслеживать экспорт оружия, наркотиков, радиоактивных веществ и технологий двойного предназначения из Украины на Запад. Она приняла эту новость сдержанно, не теряя самообладания. Жизнь Альбины и раньше была полна превратностей, ее трудно было застигнуть врасплох. — Я изменил место встречи, так как заметил, что за мной следят. Кто именно, мои старые или новые знакомые, пока не разобрался, — добавил, как гвоздь в крышку забил, Склянский. — С Напханюком все ясно. Прослушивание и наблюдение за ним надо немедленно снять. Я вам очень признательна. Подумайте, как отблагодарить вашего московского друга. Поразмыслив над услышанным, сказала Альбина с суховатой твердостью, с которой всегда говорила на самые важные темы, подкрепив свои слова красноречивым взмахом кисти, словно подвела черту — Теперь все наши усилия должны быть направлены на поиски Михаила. Хладнокровно и обстоятельно она рассказала Склянскому о звонках похитителей. Он выслушал ее молча, лишь на лбу у него еще глубже проступили морщины. Его молчание бывало столь же разнообразным, как интонации в разговоре. — У меня к вам просьба, — продолжила Альбина, — Надо изготовить одну вещицу для наших знакомых. Небольшой сюрприз. Обычный атташе-кейс, которые используют для передачи выкупа. Тот, кто его откроет, должен взорваться. — В течение суток вы его получите, — без каких-либо эмоций ответил Склянский. Она с благодарностью посмотрела на Склянского, которого послала ей сама судьба. Легкость, с которой он думал и действовал, освободила ее от самого тяжелого: просьб и мучительных колебаний. Так что ей самой осталось только выполнить небольшую формальность — осуществить задуманное. Внезапно Альбина почувствовала какое-то неприятное ощущение, что-то почти осязаемое, наподобие дуновения леденящего ветерка, здесь стало как-то не хорошо. Похожее ощущение посетило и Склянского, он незаметно озирался вокруг, но они были одни на этом берегу озера, а на противоположном, вдалеке, какой-то мужчина выгуливал таксу. Ни Альбина, ни Склянский не могли знать, что из-за угла евангельской церкви на них навели параболическую антенну дистанционного микрофона. Но ощущение опасности нарастало, и Склянский предложил: — Нам необходимо расстаться. Сейчас же. Так и есть, за нами следят! Верный глаз Склянского безошибочно выбрал наиболее перспективное направление и засек черную вязаную шапку, выглядывающего из-за белого угла церкви человека. — Я оторвусь, сделаю «переключение», зайду им в тыл и уточню, кто они. Будьте осторожны, расходимся! Прикрыв рот рукой, будто вытирает губы, скороговоркой проговорил Склянский. Он помнил о специалистах, способных по губам на расстоянии читать, о чем говорят объекты слежки. О микрофонах направленного действия он, конечно знал, но сам с ними не работал. Прогресс в технике наружного наблюдения ушел далеко вперед и Склянскому за ним уж не угнаться, по сути, он был глубокий старик. Склянский присел, делая вид, что завязывает развязавшийся шнурок, незаметно осматриваясь вокруг и намечая план действий. Он никогда не нарушал неписаное правило разведчика: «Убегать — последнее дело. Прежде надо выяснить, кто за тобой гонится». Развернувшись, Альбина не торопясь направился в сторону евангельской церкви «Благодать», стоящей на берегу озера. Вход на набережную венчали два высоких круглых постамента, на одном из которых, возвышался стройный серебристый тополь. Второй постамент стоял пустым. Где ж твоя пара? Проходя по набережной озера, Альбина взглянула в воду и ужаснулась, она никогда раньше не замечала, насколько загажено озеро. В нем плавало множество пластиковых и стеклянных бутылок, автомобильные сидения и покрышки, сломанные костыли, пенопластовые корытца из-под фасованных закусок, старые тапочки, картонные лотки из-под яиц, обломки оконных рам и прочий плавучий хлам. Понятно, аборигены приходят сюда не любоваться красотами, а используют озеро, как свалку. А ведь это озеро когда-то было жемчужиной Киева. Тем лучше, не будет тянуть обратно. Это их озеро, им здесь жить, пусть живут и гниют вместе с ним. Когда Альбина поднималась по ступеням набережной, со стороны церкви ей навстречу вышли двое мужчин. Они были разного возраста, одному из них было лет тридцать пять, другому, не более двадцати пяти, но что-то у них было общее, заметное наметанному глазу. Разговаривая между собой, они прошли мимо Альбины и пошли вслед за Склянским. Тот, что помоложе, взглянул на нее и быстро отвел глаза. «Это слежка!» — с уверенностью решила Альбина. Наружник всегда старается не встретиться взглядом с тем, кого ведет. Встретившись взглядами, объект слежки может зафиксировать того, кто за ним следит, и обнаружить наблюдение. — Иногда я задаю себе вопрос, зачем мы все это делаем? Правильно ли это? — неожиданно сказал Сахно. Сомненье и странная боль послышались в его голосе. — Правда? — пристально взглянув на него на ходу, спросил Цуркан. Он и сам в последнее время не раз задумывался над тем, что интересная работа с каждым днем превращается в совершенно бесполезное, бессодержательное занятие. — Нет… — быстрей, чем надо, ответил Сахно. Для убедительности он несколько раз отрицательно помотал головой, подумав при этом, ‒ «Провались все к чертовой матери!»Глава 9
Ожидание трудно назвать приятным времяпрепровождением. Очерет сидел и ждал в кабине угнанных «Жигулей». Он ждал уже два часа. Согласно спланированной им шахматной партии, этим вечером ему предстояло взять офицера. Величайшая осмотрительность сочеталась в нем с удивительным складом ума. С дотошностью миниатюриста он продумывал каждый ход своих шахматных партий. Анализируя их в ретроспективе, он каждый раз убеждался в том, что на шахматной доске жизни беспроигрышным остается ход конем. Профессионал всегда отличается умением управлять «конями»… Но, прежде чем сделать свой беспроигрышный ход, Очерет всегда пользовался правилом, принятым за основу работы сотрудников ФБР: «Проверь, перепроверь и еще раз пере-перепроверь». Он поставил машину на безлюдной Гоголевской улице, метрах в пятидесяти от офиса под вывеской: «МП Avis[20] ‒ продукты питания». Офис располагался в двухэтажном дореволюционной постройки особняке со строгой прямоугольной аркой и двумя симметричными балконами по углам. Среди старых домов, петляющей и горбатой Гоголевской улицы, этот дом выделялся своим торжественно декоративным решением фасада. Коричневые сумерки сгущались, ухудшалась видимость. Неожиданно зажглись тусклые фонари, и темнота вокруг них стала еще гуще. Накаляясь и потрескивая, фонари разгорались и вроде бы светили ярче, но виднее от этого не становилось. Своим бесполезным светом они освещали лишь небольшие круги асфальта под фонарными столбами. Больше ничего не происходило. Ждать пришлось долго. За годы службы Очерет научился умению ждать. В засаде все решает умение ждать, ничего не делать, ни о чем не думать, только ждать, не сжигая зря энергию, которая понадобится перед решающим броском. От ожидания многие устают больше, чем от активных действий. Особенно, если это ожидание напряженное, и нельзя пропустить решающий момент. Вызванная усталостью невнимательность, может свести на нет все затраченные усилия. Очерету случалось подолгу, без счета дней, наблюдать за объектом, месяцами разрабатывать рассчитанный до мелочей план действий, на реализацию которых уходила минута, а то и секунды. И когда все складывалось с точностью до последнего дюйма, торжество победителя не знало границ. В этом поэзия и проза разведки. Когда Очерету бесконечно долгими часами приходилось вести наблюдение из засады, он сравнивал себя с охотником. Досконально изучив и представив себе во всех подробностях, что собой представляет цель, охотник выбирает оружие и изготавливает его к предстоящей охоте. Само собой разумеется, в охоте на этого зверя не обойтись без серебра. Охотник берет серебряную сахарницу, отламывает у нее ручку, достает тигель и аккуратно, не торопясь, отливает из нее пулю, тщательно отмеривает потребную навеску пороха, снаряжая свой единственный патрон. Осторожно, с оглядкой, идет по следу, выслеживая зверя, и убивает его одним выстрелом прямо в сердце. А потом любит его всю жизнь, потому что шкура убитого зверя, прибитая на стене, принадлежит теперь только ему одному. В двадцать один час и ни минутой позже из дверей «Avis’а» выпорхнули две женщины. Оживленно болтая и пересмеиваясь на ходу, они быстрым шагом направились вниз по улице в сторону метро. «Вырвались из клетки, сороки», — провожая их взглядом, сказал про себя Очерет. Через полчаса на пороге офиса показался Напханюк. Он стоял, не торопясь спускаться по ступеням, их было шесть. Очерет приходил сюда днем и не поленился их сосчитать: пять одинаковых и шестая, совсем невысокая, почти вросшая в землю. Напханюк долго и внимательно осматривал пустынную улицу, будто остерегался ступить на предательский тротуар. Он напоминал хищника, почуявшего опасность: выжидал и принюхивался, настороженно поглядывая по сторонам. Прошло несколько бесконечно томительных минут. Напханюк поговорил с кем-то по мобильному телефону, надолго застыл, облокотившись на массивные хромированные перила, тускло отсвечивающие в темноте. И… ‒ вернулся обратно в офис. Нет! Как бы ни так! Оказывается, он просто запирал дверь. Он еще немного постоял, что-то выжидая, и неожиданно пристально посмотрел в сторону, пригнувшегося за рулем Очерета. С такого расстояния да еще в темноте Напханюк не смог бы его заметить, но Очерет сразу же отвел глаза. Он не сомневался в том, что некоторые люди каким-то шестым чувством ощущают направленный на них взгляд. Чем обусловлен этот феномен, обострением зрения или неизученным физиологами чутьем, его не интересовало, но он всегда учитывал этот фактор. Подозрительно озираясь по сторонам, Напханюк поспешил в сторону своего «Джипа», глыбой чернеющего через дорогу напротив офиса. Мотор девятой модели «Жигулей» тихо урчал, скорость была включена, теперь все замыкалось на нажатой педали сцепления. «Иди сюда, дорогой. Здесь тебя ждут с цветами», — нацелившись взглядом на Напханюка, пробормотал Очерет. Не включая фар, он беззвучно направил неразличимую в темноте машину цвета «мокрый асфальт» вниз по улице в сторону приближающегося Напханюка, включил дальний свет и вдавил в пол педаль акселератора до упора. Мотор взревел, приемистая машина, казалось присела, и прыгнула с места, как лягушка за мотыльком. Перед капотом мелькнуло белое пятно лица с взметнувшимися к глазам руками. Левое переднее колесо с лету преодолело возникшее под ним препятствие, зато заднее, сильно подбросило, когда оно переехало тело. «Так недолго и подвеску повредить, хозяин будет недоволен», — озабочено сказал Очерет. Когда он бывал наедине с собой, а он всегда был один, он разговаривал, забавляя себя мрачными каламбурами. «Видишь, совсем не больно. Разве это сравнимо с трехколесным велосипедом, которым ровняют асфальт», — усмехнувшись одними губами, произнес Очерет. Привычка развлекать себя шутками появилась у Очерета давно, во время его долгих одиночных операций, когда лишь подобное развлечение помогало ему осознавать, что он не потерялся в безбрежном океане времени. «Несовместимые с жизнью повреждения влекут за собой наступление смерти и состоят с последней в прямой и непосредственной связи, являясь ее причинами…» — развлекался Очерет, вспомнившимися цитатами из специальных руководств, написанных свихнувшимися от своей учености учеными. Поворот направо на улицу Гончара, под колесами шуршал асфальт. Машина хорошо держала дорогу. Потом налево и через три минуты Очерет подъехал к станции метро «Университет». Он припарковал «Жигули» у обочины и вышел, аккуратно прикрыв дверь. Подходя к входу в метро, он на ходу снял телесного цвета нитяные перчатки, легко пропускающие воздух, и незаметно уронил их в мусорную урну.Глава 10
На Мишу напали. Вечером, в конце рабочего дня он вышел из антикварного магазина, где работал, передав его на попечение охраннику, и пошел в сторону троллейбусной остановки. Бритоголовый громила неожиданно шагнул ему навстречу и ударил под дых. Он помнил, как его втащили в машину и прижимали ко рту большой холодный тампон, как он инстинктивно вырывался и не хотел вдыхать удушливый запах эфира, а потом сдался и безвольно и сладко провалился в темную пустоту. Очнулся он, сидя на полу. Он осмотрел себя и подумал: «Это я, и я все еще жив». На поясе у него позвякивала стальная цепь с плоским замком, она была продета за трубу, похоже, парового отопления. Перед ним стоял и сурово его разглядывал невысокий, грозного вида мужчина лет тридцати с жестко торчащими усами и черными взъерошенными волосами. Его глаза были едва видны из-под низко нависших бровей. Правое плечо у него было выше левого. На нем была сильно растянутая вылинявшая синяя майка и черные сатиновые трусы. Все его тело было покрыто татуировками. Мише показалось, что он раньше его уже видел. Но никак не мог вспомнить, где и когда? Вспомнил, он! После десятого класса поступить в институт не удалось, и он пошел учиться на телемастера, модную в то время профессию. Для освоения этой сложной специальности надо было шесть месяцев проработать учеником телемастера. Район их обслуживания назывался «Военное», он находился на окраине Херсона и напоминал помойную яму. В жалких лачугах здесь ютилась местная голытьба, перебивавшаяся случайными заработками. Их низкие, в рост человека глинобитные мазанки, напоминали будки в зверинце. Похожие на щели улицы, петляя, спускались к Днепру. Между высоким обрывистым берегом из ракушечника и рекой находилась узкая кромка суши, состоящая из выброшенной на берег тины, бытовых отходов и битого стекла. В реке на приколе болталось множество смоленых рыбачьих лодок ‒ каюков. Здесь не было ни водопровода, ни канализации. Мусор местные жители вываливали прямо на свои «улицы». Доносившийся отовсюду запах мочи, перекрывало зловоние выгребных ям и гниющих отходов. В дождливую погоду ноги по щиколотку и выше утопали в вязкой жиже. Дурную болезнь здесь можно было подхватить, просто прислонившись к забору. Царство грязи и нищеты. Жарким августовским днем Миша со своим наставником углубились в паутину горбатых переулков, шли на вызов к местному жителю, некому гражданину по фамилии Карандей. В заявке, принятой по телефону, значилось: «Телевизор — «Знамя-58». Мигает, как проклятый!» Хата Карандея в два окна, как и все здесь, была крыта камышом и напоминала курятник. На побеленной мелом саманной стене гуталином был выведен адрес: «Щемиловка — 15». Гуталин на солнце подтек, и кривые буквы приобрели некую художественность. На покосившемся штакетнике из почерневших от времени досок сушилась новая браконьерская сеть. Хозяин, невысокий и смуглый, с грозно щетинившимися из-под маленького носа сапожком усами, глядел на них из-подо лба, как паук на очередную жертву. У него были маленькие цепкие глаза с желтушными белками, верный признак многолетней дружбы с алкогольными суррогатами, а усы, вызывали непроизвольное желание сосчитать редкие, похожие на черную проволоку волосы. Вот где он его видел! Но это было так давно, что паук должен быть уже стариком. Тот, когдатошний его прототип, впившись в них своими колючими глазками и пробурчав что-то наподобие приветствия, начал делать приглашающие жесты двумя руками, словно намеревался, как курей, загнать их в свою паучью берлогу. Мишу это насторожило, но хочешь, не хочешь, а идти надо, ведь там должен был находиться виновник их вызова. Внутри, вместо телевизора на земляном полу валялась груда щепок от деревянного корпуса и битые радиолампы в переплетении обугленных проводов. Выяснилось, что последнее время телевизор начал периодически подмигивать своему суровому хозяину, и как на зло, в самых интересных местах передачи. Вполне закономерно, хозяин вначале проникся к нему своим нерасположением, а после люто возненавидел. Когда стали показывать футбольный матч, телевизор вообще потерял всякую совесть. Вначале он просто ехидно подмигивал. Карандей пару раз его стукнул, совсем слегка, «зовсим легохонько»… Но подлый телевизор замигал так, что смотреть его стало совсем невозможно. Карандей избил об телевизор все свои руки, но тот упрямо продолжал мигать. А когда комментатор завыл: «Г-о-о-л!», мученик Карандей сорвал со стены дробовик и выпалил в мигающий экран картечью. — Картечью?.. А, почему не дробями? Тут все на уток охотятся. Картечь, она ж на крупного зверя, — невозмутимо поинтересовался Мишин наставник. Миша называл его про себя «Наставник молодежи», ему было тридцать два года, он был запойный пьяница. — То для рыбных инспекторов… Для них, змеёв зеленых, картечь в самый раз, — пояснил ему Карандей. — Все ясно, — подвел черту под сбором анамнеза[21] Наставник молодежи. — А теперь, по существу дела, — он прошел школу жизни в этом районе, здесь спился, а впоследствии, повесился. — Покажи, уважаемый, что здесь можно отремонтировать? — Ну, раз вы такие мастера… Не умеете справить, так берить на запчасти, а мне хочь на стакан вина дайте. Чего уж там, так уж и быть… — Не трогай его, Нюмич! — окрикнул усача гнусавым голосом, сидящий за столом бритоголовый, который ударил Мишу в живот. У него не было передних зубов сверху и снизу. Оказывается, этого, который в майке и трусах, зовут Нюмич. — Морамойка сказала, он бацильный. Сам подцепишь и нас наградишь, — сварливо прогундосил беззубый. Но грозный Нюмич не мог просто так уйти, он куда-то вышел и быстро вернулся с грязным полотенцем, завязав его на конце узлом, он три раза больно ударил Мишу по голове и спине. После этого он отступил на шаг, любуясь делом рук своих и с видом человека, выполненного свой долг, вернулся за стол к собутыльникам. Кроме Нюмича, все они были бритоголовые, в черных кожаных куртках и спортивных штанах. Их лица… Нет, то, что должно было быть на месте лиц, скорее напоминало ведения из кошмара. Опухшие личины с заплывшими щелями глаз, свороченные набок носы, порванные рты с черными обломками зубов. Невнятно о чем-то переговариваясь, они раз за разом опрокидывали в себя чашки и стаканы с водкой. Из закусок на столе был лишь хлеб, они его только нюхали. Миша смотрел на них и недоумевал: что же, собственно, будет дальше? — Тебя как зовут? — угрюмо спросил его беззубый, похоже, что он у них главный. — Михаил, — робко ответил Миша. — Так, Мишаня, отвечай, только по быстрому, и не вздумай брехать. Ты правда больной? — Да, — помолчав, с боязливой покорностью признался Миша. — У меня СПИД… — Тю, удивил, — презрительно обронил беззубый, — Он, у Нюмича тоже СПИД, а ему хоть бы хны… — Не СПИД, а сифон! — обижено возразил Нюмич. — Не сцы, голубок, будет у тебя и СПИД, — обнадежил его беззубый. — А у тебя, Мишаня, будет сифон. Нюмич у нас такой же кругляк, как и ты, — он подмигнул Мише для чего-то и ехидно захихикал. — А ты, не кругляк?! — обижено огрызнулся Нюмич. — Универсал… — тихо, в сторону процедил он. — Заткни хайло чухан гунявый! Вякни еще раз, я тебя, как капусту пошинкую! — с неистовой злобой окрысился беззубый. Миша съежился и невольно поджал под себя ноги. — Нюмич дьявол забурелый, работать ему в падло, а воровать боится, — подал голос сидящий напротив беззубого, бритоголовый, с внушительным синяком под глазом. — Весь расписной, а толку с него, как с козла молока: ни украсть, ни покараулить. Пора списать его в утиль, ‒ говоря это, он неотступно сверлил глазами беззубого, словно провоцировал его. Беззубый ничего не ответил, молча налил себе в красную с белым горошком кофейную чашку водки и выпил, занюхав ее огрызком хлеба. — Ты уверен, что эта фрейфеяза него заплатит? — кивнув на Мишу, с сомнением в голосе спросил у беззубого тот что с синяком. Его бритая голова была разукрашена белыми шрамами от многочисленных драк, а на затылке бугрились две толстые жировые складки. — Заплатит, куда ей деться, — убежденно ответил беззубый, — Она его любит. Морамойка говорила, она ему на Прорезной квартиру купила и обставила. Ты знаешь, сколько на Прорезной квартира стоит? — Черт его знает, — ответил тот, что с синяком. — Я и где Прорезная не знаю. А ты не много заломил? Где она стоко бабок возьмет? Начнет лямку тянуть, а дело стремное, тухлятиной воняет, — с еще большим сомнением сказал он и налил себе полный граненый стакан водки. Прежде чем выпить, он долго дул на водку, опрокинул в себя весь стакан, и громко чавкая, принялся жевать хлеб. Вдруг, что-то вспомнив, шлепнул ладонью себя по макушке и севшим голосом просипел: — Нюма, а ну мотнись на кухню! Пошуруй там, я кажись, на окне консерву видел. Нюмич сразу же вскочил и засеменил на кухню, переставляя широко расставленными кривыми ногами. В каждом его движении была какая-то развинченность. Черные трусы у него были разорваны между ног и при ходьбе развивались, как юбка. — Нюмич, не расставляй так ноги, когда ходишь, а то получишь по яйцам, — прогундел беззубый, обвел взглядом своих собутыльников, и захихикал своей шутке. Нюмич быстро вернулся, неся в одной руке, жестяную банку консервов, а в другой финку и орудуя финкой, вскрыл банку. — А весло? — требовательно спросил тот, что с синяком. — Где я тебе его возьму? — пробурчал Нюмич. Было видно, что он у них в услужении. — Рубай пером или руками, — предложил он. — Воблянах! Чмо порченое! Та я тебя щас руками за окно поставлю! — рявкнул Синяк и Нюмич виляя бедрами, снова заковылял на кухню. — Ничего не много, она баба икряная, — после продолжительного молчания возразил беззубый, возвращаясь к прежнему разговору. — Морамойка сказала, она на антикваре сидит, свой магазин и тачка с водилой. У нее зелени не меряно. Морамойка брехать не будет. — Морамойка, бедка бездорожная. Она с иглы не слазит. Ей бабло нужо, она тебе еще не такую фаску протянет. Самого заметут и нас потянешь, — с набитым ртом, возразил подбитый глаз. Миша заметил, что тот в постоянном несогласии с беззубым, он его и боится, и задирает. — Нехай хоть сорок штук отстегнет, а там посмотрим. Я ей его по частям отдавать буду, — неуверенно ответил беззубый и, заметив полные ужаса глаза Миши, обратился к нему. — А ты, Мишаня… Ты, нас не слухай, мы тут про свое перетираем, — с приторной ласковостью начал он и на глазах зверея, продолжил, — Еще раз замечу, шо ты нас слухаешь, я тебе, падла заделаю такую сатану, скоко жить будешь, будешь помнить! Если будешь… — и помолчав, разглядывая Мишу налитыми злобой мутными глазами, гнусаво присовокупил, — Ты, давай, сиди тут тихо, а будешь вопеть, Нюма тебя зарежет. Зарежешь, Нюма? — криво усмехаясь, спросил он у Нюмича. — Запросто! — с готовностью поддакнул Нюмич и с грозным видом снял со спинки стула свое полотенце с узлом на конце. — Токо, Утюг, мне надо пойти резиновые перчатки купить. Голыми руками я его разбирать не буду, это ж кровищи скоко… Я же не знал, что эта мина спидоносная, — играя глазами, он жеманно склонил голову набок и кокетливо улыбнулся. Миша заметил в нем что-то мучительно знакомое и даже близкое, но в его оскаленном рту сверкнули металлические зубы, которые сразу вернули его на землю. — Ты мне пургу не гони! Знаю, какая ты овца блудная, сразу во дворец бракосочетания попрешься. Сиди тут каминем и попробуй токо жопу свою за двери высунуть! — вдруг вызверился беззубый. — Овца тварына добра… — томно проговорил один из бритоголовых, молчавший до сих пор. От угла рта до средины щеки у него багровел рубец похожий на дождевого червя. Неужели, ему кто-то разрывал рот? Содрогаясь, подумал Миша. — Свыня, колы иё йебэшь, усэ время дергаиться, утикаты хочэ, а овца стоить соби, дожыдаиться, колы кончышь… — Вобля! — грубо перебил его бритоголовый с синяком, — Сравнил х… с пальцем! Свиню трахать в сто раз лучше, п… низко и сало близко! — и задергался в пароксизмах захлебывающегося хохота. — Ладно, Нюма, не мандражируй, привезем мы тебе перчатки, — примирительно сказал беззубый. Его настроение менялось ежесекундно. — Ты пока тут сиди и за этим цинкуй, и никаких внешних сношений… Та смотри, шоб он к тебе в доверие не втерся. Ты мне за него отвечаешь. Понял? — с неожиданной угрозой спросил он. Нюмич промолчал, с деланным интересом разглядывая что-то на потолке. — Борзеешь?! — рявкнул беззубый, — Ты меня понял, овца блудная?! — Та понял я, понял, — буркнул в сторону Нюмич, всем своим видом выражая несогласие. — Отвечай, когда тебя спрашивают, — проворчал беззубый. — А теперь, замри, как муха на всю зиму! Эта пьяная оргия, в которой царила атмосфера горячечного бреда, продолжалась всю ночь. Время от времени среди них вспыхивала грызня, как у взбесившихся животных, и Мише казалось, что он в качестве персонажа участвует в фильме ужасов. Либо они начинали развлекаться, задавая друг другу загадки, наподобие: «Ни гриб, ни морковка, красная головка. Что это такое?» или «Вокруг стекло, посредине говно?». И всегда у них получался один и то же ответ: либо просто «мент», либо «мент в будке». Эти отгадки сопровождались громким ржанием. Одному Мише было не смешно. Он сидел на полу, представляя себе, что наблюдает за ними из щели под плинтусом с точки зрения таракана, глядящего на странные двуногие существа. И больше всего ему сейчас хотелось спрятаться под этот самый плинтус. Вдоволь насмеявшись, беззубый неожиданно обратился к Мише. — Ты чё это, Мишаня, на нас обижаешься? Чи шо? — Нет, — поспешно ответил Миша, испугано вскинув глаза, и тут же их опустив, не осмеливаясь смотреть открыто. — Тогда в чем дело? Чё ты там сидишь, надутый такой? Чё ты там себе маракуешь? — недобро прищурился беззубый. ‒ А ну, отвечать! — Видите ли, я не могу на вас обижаться, поскольку вы для меня не люди. Нет, простите меня, пожалуйста, я не то имел ввиду… — Миша поспешно поправил себя, смущаясь. — В моем понимании, вы не такие, как все… — голос его, робко прячась, звучал все тише. — Вы… Ну, вот, например, как тараканы. Вы есть, но, в то же время, вас нет, поскольку у вас нет души, ‒ выразил он, наконец, свою мысль в подходящих словах. Мише хотелось снискать хоть какое-то расположение у захвативших его свирепых злодеев, но он не единожды уже убеждался в том, что его прямота иногда граничит с бестактностью, поэтому не ожидал от нее ничего хорошего. Так получилось и в этот раз. Но, кто определяет смысл и правильность наших поступков? Беззубый, молча подошел, и с размаха ударил Мишу ногой, процедив: — Ах, ты с-сука, падла! Первого удара Миша не ожидал, он пришелся под ребра, а остальные — по почкам. Прижав колени к животу и закрыв лицо согнутой в локте рукой, Миша ждал последующих «пенальти», но беззубый вернулся за стол и начал дико реготать, повторяя: — Ах, вы ж тараканы! Под утро, когда начало светать, все заснули, кто на стуле, кто под столом, беззубый с Нюмичем развалились на кровати. Миша понял, что попал в плен к отребью, стоящему на последней ступени в иерархии преступного мира. Униженные своими собратьями, они издеваются над всеми, над кем могут, и совсем одичали в своей животной злобе. Ну и что? Что́ они мне сделают? Ну, убьют, так я и сам два раза уже хотел себя убить. Пускай убивают, лишь бы не мучили. Жутко пребывать в когтях у самого страшного зверя на земле, имя которому — человек. Думал Миша, прислонившись к стене, сидя на холодном полу. Ему вспомнились, не раз говоренные матерью слова: «Не сиди на холодном, печенку простудишь, будешь мне потом кашлять!» Почему люди такие злые? Задавал он себе вопрос, ответ на который, уже многие годы искал и не находил. Человек изначально рождается добрым. Даже в последнем из негодяев теплится искра добра. Иногда ей суждено потухнуть, но порой, из нее разгорается костер. Тяжелые испытания делают человека открытым добру и человечности либо превращают его в зверя. Одних, они ломают, других, — закаливают, превращая мягкий графит в алмаз. Сколько ж у меня будет этих испытаний и, чем они кончатся? В последнее время его все больше угнетала его собственная нерешительность и мягкотелость. Нет, так больше не будет! Я никому не дам себя испытывать. Решено, я убегу или погибну, пытаясь сбежать. Почему бы и нет? Сила у меня есть, и воля, тоже есть. Только силы воли нет… Но, надо бороться, жизнь — это борьба. Да, но только у борцов… Зачем мне такая жизнь? И, удобнее привалившись к стене, он попытался заснуть.Глава 11
Очерет вышел на рандеву со своим осведомителем. Он никогда не проходил на встречу, много раз не проверившись. Несколько минут он со стороны наблюдал за тем, с кем встречался, стараясь определить его настроение, после чего намечал план предстоящего разговора в зависимости от состояния собеседника. Стоя за пивным ларьком, сделанным из декоративных бревен, он уже двадцать минут наблюдал за небольшой площадкой у входа в метро «Крещатик». Встречаться с информаторами следует подальше от людных мест, где меньше вероятность встретить знакомых. Но, ввиду особой срочности, свидание пришлось назначить в удобной для обоих, но многолюдной точке. Важно было подстраховаться от возможной слежки. Резкие оглядывания или остановки, чтобы «завязать шнурки на ботинках» сразу подскажут следящему, что объект слежки проверяется. Мастерство антинаблюдения заключается в том, чтобы выглядеть совершенно не озабоченным, и вместе с тем, обнаружить увязавшийся хвост. Для этого удобны поездки в метро. Очерет дважды сменил направление, вначале сел в поезд, следующий в Святошино, потом пересел в состав, идущий в сторону Дарницы. Убедившись, что за ним никто не следит, он вышел из вагона на станции Нивки и пошел по платформе к выходу, а в последний момент, когда двери уже закрывались, вскочил на ходу в хвостовой вагон состава, идущего до Крещатика, из которого вышел последним, наблюдая за теми, кто идет впереди. Осведомителя Сонькина не было. Может и не прийти, с сомнением подумал Очерет, впрочем, вряд ли. Завербовать цивила бывает не просто (всех не военных Очерет называл «цивилами»), еще сложнее, его удержать. Но у этого особый интерес. Нет у него других вариантов, придет. В недавнем прошлом Сонькин был известный киевский шулер, ныне же, это был опустившийся субъект, многократно наказанный своими собратьями по ремеслу за неуплату карточных долгов. Тем не менее, он делал титанические для своих возможностей усилия, чтобы освободить свою сожительницу, которая была осуждена на восемь лет за мошенничество и покушение на убийство, повлекшее за собой тяжелые телесные повреждения. Сонькин многие годы вращался в криминальной среде, в которой в настоящее время он не пользовался авторитетом. Он был глуп и хитер, поэтому совершенно непредсказуем. Но, дядя Сонькина, некий Иван Иванович Пинтусевич, был известный в узких кругах экстрасенс. Настолько узких, что его знали не только его коллеги на Украине, но и в Штатах, Африке и на Филиппинах, а также в некоторых других местах, где жили обладающие этим даром несколько истинных феноменов. Они не общались между собой при помощи обычных средств коммуникаций, но связь между ними была, из-за этой неподконтрольной связи они и попали в поле зрения спецслужб. Официальная версия их разработки спецслужбами разных стран, как ни странно, была одна и та же. Не сговариваясь, «компетентные органы» вменяли им в вину вероятность использования их феноменальных возможностей в преступной деятельности. Хотя ни один из них к преступной деятельности никакого отношения не имел, из-за «возможности использования их возможностей», они подвергались настоящим гонениям. После того, как на Ивана Ивановичи было предпринято несколько покушений, он перешел на нелегальное положение. Очерет уже дважды через Сонькина обращался к нему за помощью, и оба раза, минуя все сложные перипетии сыска, не делая усилий, он выходил на нужный результат. Пинтусевич обладал чрезвычайно развитым даром отдаленного видения. В ста случаях из ста, по предметам одежды или по личным вещам, он находил скрывающихся либо пропавших людей. Только встретиться с ним мог не каждый. Несмотря на выстрел в упор, взорванную машину и несколько сожженных квартир, Пинтусевич продолжал свою необычную деятельность. Секундная стрелка, никуда не торопясь, размеренно бежала по кругу. Ей не было дела до Розенцвайг, Шеина, Останнего и всех остальных вместе взятых. Часы на руке у Очерета бесстрастно показывал «пятнадцать тридцать четыре», Сонькин опаздывал уже на полчаса. Солнце не показывалось более трех недель, и в этот относительно ранний послеобеденный час уже начинало смеркаться. Очерет решил выйти из своего укрытия и стать возле входа в метро, может, таким образом удастся ускорить появление Сонькина. Так и случилось. — А я тебя заждался… — ухмыляясь, развязно начал подкравшийся сзади Сонькин, но не выдержав устремленный на него взгляд Очерета, сразу же начал оправдываться. — В метро такая давка, я не привык… Надо было на такси, но я портмоне дома забыл и немного опоздал… — прятал он от взгляда Очерета свои постоянно увиливающие глаза. В начале своей шулерской карьеры Сонькина в его окружении с уважением называли Гудини, теперь же он откликался на прозвище Мудини. В овале его холеного, гладко выбритого лица и очертаниях тонкого носа с горбинкой не ощущалось никакой силы. Привычка ко лжи наложила на его лицо тавро коварства. Его выразительные карие глаза были в постоянном движении, в них блуждала, выискивающая затаенные интриги, настороженность. Маленький бесформенный рот с мокрыми лаково красными губами нервно подергивался, кривясь в насильственной улыбке. Как и все неудачники, он всегда надеялся на случай. В голове у него, не переставая, зрели хитроумные планы, в которых он никогда не учитывал свои возможности. Он то и дело перескакивал с одной своей сверх ценной идеи на другую, да так быстро, что редко доводил хоть одну из них до конца. В очередной раз, впутываясь в рискованное предприятие, он во всем делал ставку на шулерские уловки. Жизнь жестоко расправляется с теми, кто всецело полагается на силу хитрости. Раздражительный и капризный, как ребенок Сонькин был весьма памятливым на причиненное ему зло. Благосклонность при общении с подобными типами обязательна, но она должна быть точно отмеряна с добавлением изрядной толики твердости. Вместе с тем, Сонькин был довольно сентиментален и, как большинство сентиментальных людей, он был жесток и беззащитен одновременно. С ним было очень сложно общаться, трудно было угадать, где у него кончается глупость и начинается подлость. Вежливость он принимал за слабость и трусость, участие — за притворство, а обычная приветливость воспринималась им, как подготовка к очередному обману. — Не знаю для чего, но дядя оставил себе его рубашку, — бегая по лицу Очерета липким взглядом, торопливо рассказывал Сонькин. Его лицо при каждом слове принимало новое выражение, он тряс головой и играл бровями. Общаясь с людьми, подобными Сонькину, Очерет давно пришел к выводу, что в отношении их следует неукоснительно придерживаться одного главного правила: им нельзя доверять ‒ никогда, ни в чем и ни при каких обстоятельствах. — Я хотел ее забрать, чтобы вернуть, она мне ни к чему. Ты же знаешь, если я что-то беру, то всегда возвращаю… Тем более, рубашку, она мне вообще ни к чему. Но он ее не отдал, уперся рогом и сказал, что она ему еще понадобится… Его разве поймешь? У него столько причуд, — с утрированной артистичностью прижимал руки к груди и недоуменно пожимал плечами Сонькин. — Эдик, давай по делу. Сам понимаешь, для него, может, каждая минута на вес жизни, — мягко остановил его Очерет. — Их банда, типичный беспредел. Всего их четверо, заправляет ими Утюг. Он из какого-то села под Фастовом. Первый срок получил за изнасилование несовершеннолетней. Комментарии нужны?.. — но наткнувшись на взгляд Очерета, Сонькин поспешно продолжил, — Держат они его на Подоле, улица Межигорская, дом пятьдесят шесть, — он назвал квартиру. — На втором этаже, — не зная, что бы еще добавить Сонькин облизал губы, перестал размахивать руками и умолк. — Здесь пятьсот долларов, как договаривались, — сказал Очерет, незаметно передавая Сонькину пять, сложенных пополам зеленых банкнот. Очерет понимал, что на его долю выпала одна из удач, которые случаются лишь при хорошо поставленной агентурной работе. Впрочем, не так-то все однозначно. Агентура агентурой, но грош ей цена без толковой головы. — Конечно, спасибо, но ты же знаешь, дело не в зелени. Деньги — это дерьмо, — и Сонькин небрежно сунул доллары в карман. — Знаю. Но дерьмо, это далеко не деньги… — в тон ему ответил Очерет. Уж кому-кому, а ему хорошо было известно крохоборство Мудини. — Тебе они ни к чему. Все равно проиграешь. Дяде отдашь. Ему, мой привет и благодарность, — изобразил учтивую улыбку Очерет. У него совершенно не было желания улыбаться, и эта улыбка у него получилась с трудом, она лишь слегка стянула кожу на скулах и возле рта. Его все больше тяготила необходимость внешне проявлять эмоции, не соответствующие его настроению. Люди стали для него, как черви, кишащие в жизненном навозе. — А, как с ней?.. Ведь ты же знаешь, я только ради нее взялся… — не выдержав, перебил его Сонькин. «А она ради тебя, сволочь, на это пошла», ‒ подумал в ответ Очерет. — Я сделаю все, чтобы дело твоей Псюхи было пересмотрено. Тебе известно, слово свое я не ломаю, — твердо сказал Очерет. Он никогда не давал обещаний, которых не мог сдержать. Очерет не любил лгать, если и делал это, то только в случае крайней необходимости. Безошибочно чувствуя ложь, он полагал, что и другие не обделены таким же умением. Он всегда помнил, что агентурная работа дело ответственное и деликатное. Без взаимного доверия оперативника и агента их сотрудничество пустая трата времени. С отрешенностью стоика Очерет относился к деньгам, он презирал плен вещей и был равнодушен к комфорту, воздержан в еде и одежде. Деньги были для него лишь одним из инструментов для достижения цели. Он и обращался с ними, как с инструментом, дорогим и надежным. Свои же обещания он всегда выполнял, хотя нередко осложнял этим себе жизнь, но никогда об этом не жалел. Гордость для него была важнее. Он неукоснительно сдерживал свои обещания не только перед информаторами, но и перед врагами. Он жить бы не смог без самоуважения. — Я знаю, иначе никогда бы за это не взялся. Там такие отморозки, полный отстой, если узнают, что я их вложил, найдут и на нож поставят, — заглядывая в глаза Очерета, жалко улыбался Сонькин. В его дрогнувшем голосе слышалась тоска обреченного. Из него будто выпустили воздух, плечи его поникли, а руки плетьми повисли вдоль туловища. — Никто ничего не узнает. Спи спокойно, — убежденно произнес Очерет. — До встречи, — и кивнув на прощанье, пошел в сторону метро. — Все меня считают конченым! — пронзительно вскрикнул ему вдогонку Сонькин. Этот крик напомнил Очерету крик чайки. Там, у синего Черного моря, в брызгах разбитой о скалы волны… То ли крик, то ли плач, не поймешь. — И ты так думаешь, Борис?! А я ведь человеку жизнь спас. Что, скажешь, нет?! Очерет не ответил и не обернулся. Он шел, и на ходу размышлял о «деятельности» сексота, она, как смола, прилипнет — не отдерешь. Ему вспомнился § 29 «Инструкции по организации и ведению внутреннего (агентурного) наблюдения», утвержденной Министром внутренних дел Российской империи в 1907 году. Двадцать девятый параграф гласил: «Расставаясь с секретным сотрудником, не следует обострять личных с ним отношений. Но, вместе с тем, не надлежит ставить его в такое положение, чтобы он мог в дальнейшем эксплуатировать лицо, ведающее розыском, неприемлемыми требованиями». Раздумывая об этом, Очерет в очередной раз согласился с Конфуцием, который в свое время сказал, что строить правильно отношения труднее всего с женщинами и низкими людьми. Если приближаешь их к себе, они становятся развязными, если удаляешь, — начинают ненавидеть. Очерет был убежден, что для эффективной работы разведчику необходим ряд качеств, без которых невозможно работать с людьми. В его характере должна быть живая непосредственность; высоко развитая эмпатия — способность к сочувствию, сопереживанию; чувство юмора и даже озорство, они помогают быстро налаживать контакт и выдерживать профессиональные стрессы. У большинства разведчиков в процессе их деятельности эти качества теряются, ‒ они выгорают. Так, путем деформации, личность защищает себя от неминуемого разрушения. И тогда, человек превращается в бездушно жестокую машину, анализирующую события холодно и методично. Функционировать он будет, но работа с людьми ему противопоказана. Ему не завоевать у собеседника доверия или хотя бы уважения, потому как у него нет больше ни энтузиазма, ни отзывчивости, ни восторга, которые позволили бы ему расположить к себе человека и увидеть то, чего не могут заметить другие. Да! Он это знал. Он имел все, и все потерял. И ничего тут поделать нельзя. Он стал тверд до бессердечия и, принимая решения, уже никогда больше не терзался сомнениями. Одно только нарушало его покой: необходимость ежедневного общения с людьми, с каждым днем это становилась для него все невыносимой. Очерет быстро нашел нужный дом на улице Межигорской. Неподалеку от подъезда он припарковал новую, взятую «напрокат» машину. На этот раз шахматная задача могла оказаться более сложной, чем предыдущая, поэтому он «взял напрокат» надежную иномарку, серую «Ауди». Очерет сидел в машине, продумывая свои действия в деталях. Через некоторое время он вышел из машины и поднялся на второй этаж. Проходя мимо квартиры, в которой должен был находиться Шеин, он прислушался, и не останавливаясь, внимательно осмотрел дверной замок. — Ну шо ты рыло строишь?! — донесся из-за двери гнусавый мужской голос. — Вафлю хочешь?! Чы тебе в пятак зарядить?! Ты шо такое на голову себе нацепила? Ты ж, как лошадь цирковая, вся в плюмаже! — А ты?!.. Пидар гнойный! ‒ Шо?! Порву падлу позорную! ‒ Ты ж два дозняка себе замастырил! Я же тебя предупреждала, на двоих! — истерический женский крик пресекся хлестким ударом и бурными рыданиями. По всей вероятности, Пинтусевич и на этот раз не ошибся, решил Очерет. Но важен конечный, а не промежуточный результат. Половина — не целое, половинчатость, дорога в никуда. Интересно, почему он так упорно отказывается со мной познакомиться? Ответ на этот вопрос Очерет приблизительно знал. Он вернулся в машину и начал ждать. Ждать пришлось долго, всю ночь. Очерет никогда не гнался за быстрыми результатами и умел ждать, он половину своей жизни только и делал, что ждал. «Поспешишь — людей насмешишь», эта поговорка особенно приемлема в разведке. Надо уметь организовывать свои победы и побеждать. А на это всегда необходимо время. Ранним утром в зыбкий пепел тумана из подъезда вышли трое мужчин в черных кожаный куртках с бритыми головами, каждый из них нес по две сумки. Вместе с ними вышла неестественной худобы женщина в оранжевой косынке, она была одета в такую же черную куртку и подобие коротких штанов, из которых торчали тонкие и белые до синевы щиколотки. Громко бранясь, они долго спорили, как ехать: на метро или на «тачке», наконец, они уехали в подобравшем их такси. Методично сосредоточившись, Очерет мысленно дал отсчет от десяти до нуля, и скомандовал: «Штурм!» Войдя в подъезд, он около минуты прислушивался, стоя у двери нужной квартиры, периферическим зрением фиксируя любое движение. Очерет обладал обостренным «чувством противника» и мгновенной готовностью к отражению любой угрозы. Вообще-то он считал, что ответные действия должны опережать реакцию, от этого зависит победа или поражение, жизнь или смерть. Сейчас же он не ощущал никакой опасности. Быстро работая отмычкой, Очерет открыл дверной замок и беззвучно вошел в квартиру. На него пахнуло застоявшимся воздухом, наполненным омерзительным сочетанием зловонных запахов, среди которых преобладал тяжелый дух немытого человеческого тела и пронзительный смрад блевотины. За поворотом коридора, на кухне, горел свет, оттуда доносилось тихое монотонное пение.Глава 12
Альбина вышла из своей квартиры. Запирая дверь и щелкая ригельными засовами замков, она думала, что если есть дверь, хоть бы и бронированная, ее откроют, и никакие замки ее не уберегут. На первом этаже ее дома располагался гастроном с весьма многообещающим названием «Бумі маркет». Возле камер хранения гастронома у нее была назначена встреча со Склянским. На скамейке возле подъезда сидела юная, лет семнадцати мать в черной кожаной куртке. Рядом с ней стоял ее четырехлетний сын в такой же кожаной куртке. У матери были растрепанные ярко-оранжевые волосы, покрашенные «перьями» зеленкой. Поверх этой экстравагантной прически она надела наушники плеера. Тонкими пальцами, унизанными дешевыми мельхиоровыми кольцами и перстнями, вертит колесико настройки. На лице выражение неописуемого восторга. Сама еще ребенок, в ней было что-то до отвращения животное, скорее всего, обезьянье. В этой интенсивно размножающейся особи воплотилось все ничтожество, весь ужас и грязь женского пола. Волна ненависти к женской никчемности всколыхнулась в Альбине и тошнотой подступила к горлу. Неожиданно Альбина почувствовала, что силы оставляют ее. Вокруг было полно воздуха, а дышалось тяжело. Головокружение и слабость в ногах заставили ее присесть на край скамейки. Может, я заболела? Она раньше никогда не болела, лишь изредка случались легкие простудные заболевания. Она знала, что провидение иногда вырывает человека из стремительного бега жизни болезнью, оберегая его от гибельных поступков, малой неприятностью, избавляя от большой беды. А еще, она истово верила колокольному звону, которому одному было дано врачевать от всех болезней. Нет, это не болезнь. Всему виною свежий воздух, давно не выходила из дома, успокаивала она себя. Раздышусь, и все пройдет. Да, но пройдет ли это, часами не прекращающееся подергивание века, никогда ранее не беспокоящее ее? Вряд ли, сказывается напряжение последних дней. Надо дать себе роздых, подумать, как снять напряжение. Сидя рядом с матерью и ребенком, Альбина невольно наблюдала за ними. А глаза у этой девицы явно отрешенные, заметила она. Так музыку не слушают, так впадая в транс, спасаясь от скуки. Пустые глаза над жующими жвачку челюстями, они не переносят одиночества, им жизненно необходима компания. Лишенные внутреннего мира, оставшись наедине с собой, они начинают подыхать со скуки. Свободное время вызывает у них панику и тягу к самоубийству. Убивая время, они убивают себя и, если не дерут глотку на дискотеках, то хлещут пиво или цепенеют в наркотических видениях, а когда нет денег на выпивку и наркотики, развлекаются, таская друг друга за патлы и разбивая головы себе подобным. Бездушные и пустые, как картонные упаковки. Мальчику было скучно и он громко, чтобы сквозь скрежет в наушниках его услышала мать, закричал: — Мама! Расскажи мне сказку. Его мать широко улыбнулась, у нее был большой эротический рот и ровные белые зубы. — Хорошо, мой родной, — ласково сказала она, сняла наушники и выключила плеер. Посадив рядом с собой сына, она обняла его и, глядя пред собой лучистыми голубыми глазами, словно рассматривая что-то вдали, негромко и на удивление проникновенно, начала. — Я расскажу тебе сказку о сыне Ветра и принцессе страны Гладиолусов. Жил-был один бедный юноша. Он, как и ты, вначале ходил в детский сад, а потом в школу. После окончания школы он хотел поступить в институт, чтобы стать археологом. Далеко, в сыпучих песках пустыни искать покинутые древние города или в глубинах океана проплывать над улицами затонувшей Атлантиды. Но денег у него не было, и учиться ему было нельзя, его сразу же провалили на вступительном экзамене. Он очень расстроился и не знал, как ему жить дальше. Ему было хуже, чем остальным людям, потому что это был не совсем обычный юноша. Его отцом был Ветер, а мать — Облако. Он стал посреди дороги жизни, не зная, куда идти. К нему подошла старая цыганка и сказала: «Ты правильно сделал, что остановился. Когда не знаешь, куда дальше идти, надо остановиться и послушать Ветер. Он много чего знает, и многое может тебе подсказать». Юноша сделал так, как сказала цыганка. Он стоял и ждал, но Ветра не было. Подходило к концу лето, стояла безветренная солнечная погода, его отец Ветер где-то летал. Вдруг над ним прошелестел легкий ветерок, и тихий голос едва слышно прошептал: «Если не знаешь, куда идти, обернись и посмотри, откуда пришел. Тебе не надо никуда идти. Ты далек от себя. Найди самого себя». Так он и сделал. Он вернулся в то место, где жил и начал приводить его в порядок. Прежде всего, он вымыл окно, и то место, где он жил, стало его любимым домом. В прозрачном, будто в нем не было стекол окне, он увидел своего отца и мать. Ветер шел, рука об руку с Облаком, они оба были небесной красоты. Вдруг за окном он увидел принцессу страны Гладиолусов, к тому времени настала осень, а осенью всегда расцветают гладиолусы. Юноша с первого взгляда влюбился в принцессу и воскликнул: «О, принцесса! Я полюбил тебя и не могу дальше жить без тебя. Никто в целом свете никогда не любил так, как я. Будь моей невестой! Я жизни не мыслю без тебя!» Принцесса Гладиолусов свысока оглядела юношу и ответила: «Но, ведь ты очень бедный, как же ты смеешь предлагать мне стать твоей невестой? Ты ничего не можешь мне подарить, кроме своей любви, а для меня этого мало. Твоя любовь для меня ничего не значит, ведь она ничего не стоит. Мне нужны новые бриллиантовые серьги и десять новых платьев, а ты даже на такси не в состоянии меня подвести. У тебя есть деньги только на трамвай. Неужели тебе не стыдно, что твоя принцесса будет ехать в трамвае? Чтобы твоей невестой стала принцесса, ты сам должен быть, как минимум, принцем или хотя бы соответствовать ему. У тебя же нет ничего, кроме твоего желания. Ты, как незрелое дитя, тянешь руки к красивой игрушке. Стань равным мне. Впрочем, это сложно… Стань хотя бы кем-то и, если ты действительно меня любишь, мы продолжим наш разговор». Юноша догадался, что нужно принцессе и бросился зарабатывать деньги. Но он ничего не умел, поэтому не мог найти себе работу. Он брался за все: мыл машины, разгружал вагоны, выгуливал собак богатых людей, но денег мог заработать только на молоко для своей кошки. Его кошку звали Дуська, в ее маленьком теле жило преданное сердце. И как-то под вечер он голодный и сердитый пришел домой и обидел Дуську. Она всегда его ждала, и в этот раз тоже, она подбежала и радостно потерлась о его ногу. А он ее оттолкнул и крикнул: «А ты, кошка! Вообще, отвали, ты ниже самой низкой собаки!» Дуська обиделась и ушла. Сыну Ветра вспомнились слова его матери Облака: «Не пускай зло в свое сердце, оно поселится в нем навсегда». Он побежал искать Дуську, чтобы попросить у нее прощения, но так и не нашел… Тогда он понял, что остался совсем один и что он на грани отчаяния. В это время он взглянул в окно, где под громкую музыку в лимузине с открытым верхом проехала принцесса страны Гладиолусов. Сын Ветра хотел ее окликнуть, позвать, но она уже уехала, и он с новыми силами принялся зарабатывать деньги. Юноша мечтал, что когда-нибудь он сядет вместе с принцессой страны Гладиолусов в кабриолет и помчится быстрее ветра, и они вдвоем объедут весь мир. Он рыл канавы и строил дома, работал водителем трамвая, в который никогда бы не вошла принцесса. Со временем сын Ветра научился работать у токарного станка, ремонтировать машины и компьютеры. — Как наш папа? — спросил мальчик. — Да, малыш, как наш папа, — улыбнулась и прижала к себе сына она. А затем продолжила тем же, проникновенным голосом. Так умела говорить только бабушка Альбины. Когда она говорила, исчезало время и казалось, вот сейчас отворится дверь и все случится. — Прошло много лет, но он не заработал денег даже на одну бриллиантовую сережку для своей принцессы. И однажды возле своего дома он встретил девушку, свою соседку, и взглянув на нее, он увидел, что она намного красивее принцессы страны Гладиолусов. Да, сынок, до этого было все просто, и все это просто сложилось в сложно. Но не для сына Ветра, он смело подошел к девушке и сказал: «О, небесное создание! Ты прекраснее принцессы страны Гладиолусов! Ты любовь всей моей жизни, я мечтал о тебе всегда. Я люблю тебя! Прошу, будь моей невестой. Я сделаю для тебя все, что ты пожелаешь». Недаром он был сыном Ветра… Девушка ответила: «Я согласна. Мне ничего не надо, кроме твоей любви. На свете нет ничего дороже любви». Чтобы встретить свою любовь, бывает, надо идти за тридевять земель, износить семь пар железных сапог, переплыть пять морей и два океана, а бывает, — надо просто оглянуться. У каждого бывает по-разному, но свою любовь надо искать, и ты ее обязательно найдешь. А потом у них была свадьба и сама принцесса страны Гладиолусов преподнесла его невесте букет хризантем. Все свадьбы бывают осенью, а осенью всегда расцветают хризантемы. Когда-то давным-давно один мудрец сказал, что вслед за исполнением сильных желаний всегда приходит смерть. Но я думаю, так бывает лишь у тех, чье сердце закрыто для любви. Совсем не так было у сына Ветра и его возлюбленной, ни у кого еще не было такой большой любви. Они жили долго и счастливо, как могут быть счастливыми только самые красивые и смелые люди. У них не было детей, и это их немного огорчало, а потом у них родилась дочь, и они назвали ее Радуга. Но это уже другая сказка. К Альбине вернулись силы, но она еще долго сидела одна, на пустой скамейке.* * *
Когда Альбина вышла из арки своего дома и направилась в сторону гастронома, к ней неожиданно подошел Склянский и, взяв под руку, быстро увлек в фойе находящегося рядом салона «Фотография». Его было не узнать, в добротном драповом пальто он выглядел толстым и респектабельным, а шляпа с высокой тульей и ботинки на платформе и высоких каблуках делали его чуть ли ни на голову выше. Нет, пожалуй, тут дело не только в платформе, подумала Альбина, здесь не обошлось и без специальных стелек. Она с удивлением рассматривала преображенного Склянского, который с явным самодовольством поглаживал пышную подкову черных запорожских усов. — В магазин идти нельзя, там нас ждут, — быстро заговорил он, поглядывая то ей в глаза, то через окно на улицу. — Вам надо быть очень осторожной. За вами следят оперативники МВД или СБУ. Кто именно, выяснить не удалось, но работают они профессионально. Пока я организовал контрнаблюдение. Знаю, вам сейчас нельзя уезжать, но это было бы оптимальное решение. Альбина ничего не ответила. Она была с ним согласна, ее проблемы возрастали по экспоненте. Наученная жизнью, она всегда с осторожностью относилась к проблемам, избавиться от некоторых из них было возможно только вместе с людьми. Ей и думать не хотелось о том, что все летит прахом к бисячему дядьке. Ничего, успокаивала она себя, если выхода нет, надо подняться над обстоятельствами, подчинив их себе, направить разрушительную энергию неудачи в конструктивное русло, и невероятное станет реальным. А относительно тех, кто за ней следит, без разницы из какой конторы, ей известны их подлые уловки. Они не вездесущи и не всемогущи, они хотят, чтобы о них так думали, это облегчает их работу. Еще несколько дней и она будет плевать на них с известной высокой башни. — Вот то, что вы просили, — скороговоркой, не шевеля губами, выдохнул Склянский, торопливо передавая ей обычный пластиковый дипломат. Неожиданно он вздрогнул и незаметно осмотрел вошедшую в салон женщину, а потом снова стал выглядывать в окно. Сегодня его неизменная выдержка явно его подводила. Перемены произошли не только во внешности Склянского. В нем появилось что-то новое, напряженность и многословность, неуместные при скоротечном контакте. Не заметив ничего подозрительного, Склянский поспешно продолжил: — Вот здесь, возле ручки, выключатель. Открыта зеленая точка, можно открывать, а открыта красная, тоже можно, но не вам… Лучше отойти метров на десять, а еще лучше, на пятнадцать. Рассеянно слушая Склянского, Альбина подумала, насколько печальна его стариковская суетливость.
Глава 13
Группа Хоменко была в сборе. Они собрались на конспиративной квартире для встреч с агентурой, которая находилась в районе Виноградаря, недалеко от дома Розенцвайг. Все разместились за небольшим круглым столом, символом нравственных идеалов рыцарства. Подобно стародавнему королю бриттов, совещание «Круглого стола» вел Очерет, слушали информацию по результатам оперативной разработки Розенцвайг. Мусияке места за столом не хватило, он сидел позади Очерета на диване, как его бессловесная тень. Докладывал Цуркан, известный своей вдумчивостью и развитым оперативным мышлением. Говорил он спокойно и кратко. То, что группе удалось выяснить, в основном, выглядело так. — Розенцвайг постоянно вступает в контакт с очень подозрительным стариком. Он появляется и исчезает, как невидимка, сфотографировать его не удается, и вряд ли это случайность. Мы ему присвоили кодовую кличку «Дед». С целью его идентификации были предприняты две попытки вступить с ним в контакт под вымышленным предлогом, но он будто угадывает наши намерения и уходит из-под наблюдения. Хоменко многозначительно кивал, сам-то он так внятно доложить не сумел, но если докладывает его подчиненный, это все равно, что докладывает он сам. Впрочем, Хоменко тоже внес свой вклад в расследование. На основании данных, полученных от своих подначальных, он составил словесный портрет нового фигуранта. Он и сам в течение нескольких минут вел за ним наблюдение. При этом действовал с большой осторожностью и, чтобы не спугнуть, следил за объектом с такой дистанции, что понятия не имел, как он выглядит. Слушая Цуркана, Очерет просматривал установочные данные на Склянского, не переставая удивляться слабости ума их составившего. «Словесный портрет подозреваемого, оперативный псевдоним: «Дед». Возраст — около пятидесяти, шестидесяти или семидесяти; рост — средний, невысокий; фигура — средняя; плечи — прямые; шея — средняя, толстая (перечеркнуто), тонкая; голова — овальная; волосы — седые, лысый; лоб — средний, прямой, большой; брови — прямые; глаза — неизвестного цвета; нос — средний, прямой, с горизонтальным основанием; ноги — прямые. Особых примет не имеет». Куда ни глянь, все среднее и прямое, ноги и те прямые, глаза, так вообще «неизвестного цвета». Не за что зацепиться. Налицо отсутствие индивидуальных примет и приблизительность описания внешности. Безусловно, это усложнит розыск. Судя по тому, как он многократно уходил от слежки и часто связывался с Розенцвайг, это не простой старичок, прикрыв глаза тяжелыми веками, рассуждал про себя Очерет. Достаточное количество «ничего» в сумме дает «нечто», — это принцип работы «хоменков», подвел итог Очерет. В слух же он произнес следующее: — Все это занятно. Возможно, даже существенно. И фактов у нас достаточно, но зацепиться не за что, — без тени иронии, раздумчиво подвел черту он. Тон его непродолжительных совещаний с опергруппой, которые он проводил раз в два дня, всегда был коллегиальный, без малейшего намека на то, кто здесь главный, и без мелочной опеки, которая всегда мешает делу.Вместе с тем, он всегда держал известную дистанцию, существующую между ним и подчиненными, при общении с Очеретом никто не забывал о субординации. Что же касается фактов, то это голые факты, их недооценка или переоценка может принести только вред, размышлял Очерет. Хотя из разрозненных фактов иногда возникают совершенно непредвиденные корреляции. Задача разведчика состоит в том, чтобы среди многих фактов «учуять» главные, выделить их и компетентно проанализировать и, основополагающее — определить функциональные связи между ними. Тогда полученная информация приобретет реальную ценность. Все это теория! Досужие рассуждения от безделья, оборвал себя Очерет. Он знал, откуда они взялись, и почему он на них застревает. Причина была, и отнюдь не простая. Очерет не хотел вспоминать о последнем разговоре с генералом Останним. — Если Розенцвайг действительно торгует экономическими секретами, то этот Дед похож на резидента, — поделился своими соображениями Цуркан. Его суждения, как правило, отличались точностью. — Только, думается мне, это криминальная группировка. Хорошо организованная, но криминальная, — в голосе Цуркана зазвучали убедительные ноты. — К нашей сфере деятельности они отношения не имеют и национальной безопасности не угрожают. В любом случае, нам придется уточнить, чем они занимаются, а потом передадим их по принадлежности. Но выборы затягиваются, и не известно, когда они кончатся. Никого нам в помощь не дадут. Не сегодня-завтра оперативная обстановка может измениться, и нас опять пошлют на майдан, а то и куда подальше… Нашим составом, без поддержки группы наружного наблюдения, провести качественное наблюдение и отработать связи Деда не получится. Потому как дедок этот уж больно крученый, заметит наблюдение, «сбросит хвост» и ляжет на дно. С ним требуется определиться, и сделать это нужно немедля. Я думаю, его надо брать и устанавливать личность. Решай, капитан. Одна из первоочередных задач работы контрразведчика, это выявление связей подозреваемых. Думая совсем о другом, машинально отметил про себя Очерет. Но выяснять связи некогда. Не упустить бы главного фигуранта — Розенцвайг, и подготовленную на вывоз партию антиквариата. Отбросив колебания, Очерет решил пока не ставить в известность оперативников о своем разговоре с Останним. Рассказать им придется, но позже, не теперь. Если сказать сейчас, проку будет мало, а вред будет, реальный. Их и так раз-два и обчелся, скажешь, и выбьешь кого-то из обоймы, а это совсем ни к чему. Посмотрим, доложит ли об этом Мусияка генералу. Положим, доложит, и что? Пусть докладывает, в конце концов, это касается только Очерета, ему самому решать, ставить ли об этом в известность подчиненных. Срочно вызвав Очерета в управление, генерал сообщил ему о том, что задержана группа воров, обокравших Черниговский художественный музей. Картины они продали Розенцвайг. Одного из них, во время дебоша в ресторане задержали, при нем был «Наган», отобранный у охранника музея, он сдал остальных. В ультимативной форме Останний приказал Очерету в течение трех дней выяснить, где Розенцвайг прячет скупленный ею антиквариат и коллекцию похищенных картин. В случае невыполнения приказа, Очерет будет отстранен от дальнейшего ведения дела, и по «массе его предыдущих проступков» и последнему, в частности, будет назначено служебное расследование. Очерет не сомневался, что именно так и будет. Охота за незаконно скупленным антиквариатом вывела на коллекцию украденных картин, представляющих национальное достояние. Дело резонансное, на котором генерал не упустит возможность сломать ему шею. Тем более, что он поручил Очерету разработку Розенцвайг еще до того, как стало известно, что она купила краденую коллекцию. Без сомнений, у Останнего выигрышная позиция, у него есть все шансы выиграть эту партию. Он будет во всем белом, а Очерет? Очерет будет в том, в чем был и до того… Но король еще не повержен, за Очеретом остался его последний ход. Судя по всему, пришло время действовать, пора жать на педали. Сахно, как самый младший, все время молчал. Когда Очерет дал ему слово, он старательно доложил о своих наблюдениях и согласился с предложением Цуркана. Он не стал упоминать о своем подозрении, что фигурант обнаружил их наблюдение, хотя и обсуждал это накануне с Цурканом. Но раз Цуркан умолчал об этом, незачем самому подставляться и подводить остальных. Заметил Дед или не заметил, что его ведут, выяснится в ближайшие дни, и они получат оценку качеству своей работы. Не забыв о реноме командира группы, Очерет в заключение предоставил слово Хоменко. На совещание Очерет пришел последним, поэтому не знал о случившемся инциденте. Как обычно, основательно подзакусив, в результате чего он ухомячил целый, лишь слегка общипанный батон, Хоменко захотелось пить. Он пошел на кухню и по своей привычке хотел напиться воды из носика чайника. Оперативное чутье в этот раз его подвело и не подсказало о надвигающейся опасности. Он не знал, что в это самое время жажда начала томить и двух объевшихся тараканов, которые имели похожие манеры и залезли в носик чайника испить водицы. Странные у них нравы… При попытке сделать глоток, под напором воды к Хоменко в рот забежали эти непредусмотренные тараканы и принялись бегать у него во рту наперегонки. Не понимающий, что происходит, Хоменко ворвался в комнату, где сидели Цуркан и Сахно и, раздувая щеки, несколько мгновений молча на них таращился, до невозможности выпучив глаза, а потом заорал так, что чуть не рассекретил конспиративную квартиру. От этого крика тараканы вообще обезумили, и Хоменко ничего не оставалось делать, как применить к ним радикальные меры воздействия. Одного из них, Хоменко проглотил, хотя после утверждал, что он «дэсь побиг», а второго, пожевал и выплюнул. Расследуя происшествие, Цуркан поинтересовался у Хоменко, какие на вкус тараканы? Хоменко невозмутимо ответил: «Ничо́го, хорошие. По вкусу оны похожие на крабовы палочки. Есть можно». Когда Очерет дал слово Хоменко, тот, надувшись, как мышь на сало, некоторое время изображал глубокомысленные размышления. Все, глядя на него, ожидали, что скажет им ас разведки. Воздержавшись от комментариев, с лаконской краткостью Хоменко важно высказал свое мнение, согласившись с предложением Цуркана предельно скупым вердиктом: «Поддерживаем». Ему часто удавалось напускать на себя умный вид и подчеркнутую деловитость. Сказывалась школа генерала Останнего. На том и держался, ‒ держались оба… Взвесив все pro et contra[22], Очерет дал задание Хоменко: с целью установления личности и выяснения намерений — задержать фигуранта. Когда и где он выйдет на связь с Розенцвайг, им сообщит Мусияка, который постоянно дежурил в квартире над ней. Применив метод «электронной разведки», попросту говоря, подключившись к одной из официально зарегистрированных «шайб», ему удалось запеленговать и прослушивать сигнал телефона Розенцвайг во время ее разговоров со Склянским. Совещание не продлилось и десяти минут, на том и закончилось. — Господа офицеры! — громко произнес Очерет, поднявшись из-за стола и выпрямившись во весь рост, полушутя, полусерьезно прощаясь с группой. Все поднялись, а Хоменко не преминул вставить: — А по пиву? — Хоменко с уважением относился только к тем совещаниям, на которых председательствовал он сам. — Будет вам и пиво. Непременно, — взглянув на Хоменко и обведя взглядом остальных, твердо пообещал Очерет. — Генерала Останний выставит, если упустите пенсионера…* * *
С самого начала задание Очерета по задержанию неизвестного фигуранта Хоменко в коре не понравилось. Для таких операций есть сторожевые милиционеры, специально натасканные крутить руки подозрительным типам и всем подряд, а также всякие там рукокрылые: «Беркуты», «Соколы», сгодятся и мордовороты из УБОПа, а не умственные профессионалы ранга Хоменко. После совещания разглагольствовал перед своими подчиненными Хоменко, презрительной гримасой выражая свое полное отвращение к предстоящей операции. Открыто возразить Очерету он не посмел, над этим делом витала тень генерала Останнего. — Хай они этим и занимаются. А мы разведчики, наше дело тонкое… Мы должны ловить и ликвидировать шпионов. Смешно поручать задерживать какого-то бомжа профессионалам нашего класса, — с важным видом высказался Хоменко, состроив гримасу обиженного, но покорного судьбе человека. Затем он принялся пространно распространяться на свою излюбленную тему: о повышении доплаты за «аналитическую деятельность». — Така ужэ дурня, нас с ментовскими операми ровнять. Разве ж можно им за аналитическую деятельность доплачивать? С них аналитики, как из говна пуля! Не прошло и суток с момента совещания, как Хоменко получил экстренное сообщение от Мусияки о том, что объект договорился встретиться с Розенцвайг через час у гастронома, расположенного на первом этаже ее дома. Группа была в сборе, и сразу же было достигнуто состояние «плюс десять», то есть полная готовность в течение десяти минут начать операцию по задержанию. Хоменко быстро провел рекогносцировку. Просчитав наперед все возможные варианты изменения ситуации, он грамотно выдвинул Цуркана и Сахно на исходную: с двух сторон от гастронома, перекрывая вход в арку, ведущую во двор к Розенцвайг. Сам же он занял самую опасную позицию, куда фигурант никогда бы не вздумал сунуться, он схоронился за киоском «Пресса», подальше от гастронома у дороги. Проходя мимо рекламных щитов с афишами, Хоменко дернул за рукав Сахно. — Ты дывы, Сахно, ото фамилия: «Шульберт!» — Хоменко со смехом указал пальцем на скромно отпечатанный текст на плакате. — Шуберт… — поправил Сахно, подозрительно взглянув на Хоменко. «Проверяет», ‒ обижено подумал Сахно. В детстве родители Валеры Сахно измывались над своим единственным отпрыском при помощи музыкальной школы. Он же, вместо фортепьянных миниатюр лирико-психологического содержания, как его герой Шарапов, наигрывал «Мурку» в своей собственной особо разухабистой интерпретации. Склянский впритык поспевал на рандеву. Подвел городской транспорт, он не учел пробки на дорогах в час пик. Но его переживания оказались напрасными, и он прибыл на место за тринадцать минут до назначенного срока. Он бы никогда не назначил встречу Альбине там, где чуть не попал в засаду, но выхода не было, добытую им информацию надо было передать немедленно. От этого зависела ее свобода. В сгущавшихся сумерках быстро изменялись очертания предметов, стали исчезать мелкие, малозначительные подробности жизни. Несмотря на резко ухудшившуюся видимость, Склянский заметил как с двух сторон от арки и от входа в гастроном к нему устремилось двое в кожаных куртках, правая рука у каждого была в кармане. От стоящего рядом зеленого пластикового балагана с рекламой пива «Оболонь» к нему бежали еще трое. Он не мог знать, что это были просто пьяные, играющие в популярную народную игру под названием: «Догоню и дам по морде». Слишком много, успел подумать Склянский и, развернувшись, побежал в сторону дороги. Там, у светофора, рядом с газетным киоском чертополохом на ветру мотался Хоменко. Увидев, бегущего к нему Склянского, Хоменко присел на корточки и завыл сиреной. Никто бы не посмел упрекнуть его в трусости, потому что в руке, прикрывая голову, он мужественно сжимал табельный пистолет, совершенно не боясь им застрелиться. Склянскому некогда было сворачивать, он перепрыгнул через Хоменко, который неожиданно сел у него на пути и рванулся через улицу, наперерез рычащей лавине машин. Светофоры всегда стоят на пути, но теперь их красный свет за меня. Так, и только так можно вырваться из западни! Перебегая между двумя относительно медленно едущими машинами, в сумерках он не разглядел, что одна из них на буксире тянет другую. Налетев на натянутый трос, он упал и оказался под колесами буксируемой машины. Чудом выкатившись из-под нее, он очутился под колесами третьей машины, которая шла на обгон. Но и тут ему повезло, водитель в мгновенье ока среагировал и пушечным ядром пролетел в нескольких сантиметрах от него. Склянский вскочил и все же пересек злосчастный проспект Правды. Нескончаемый поток мчащихся машин отсек от него преследователей. Подбежав к троллейбусной остановке, Склянский втиснулся в отъезжающий троллейбус. С лязгом захлопнулись створки спасительных дверей и троллейбус начал набирать скорость. Склянский никак не мог отдышаться, ему не удавалось сделать ни вдох, ни выдох. Он отдавал себе молниеносные команды: «Соберись! Сконцентрируйся! Сделай хотя бы легкий выдох!» И тут его грудь разодрала боль равной которой он не испытывал. «Сметь? Подумаешь, смерть! Умереть можно, но только выполнив задание». Но ноги перестали ему повиноваться. Ноги его подвели, ‒ предали и медленно подогнулись.
Глава 14
Альбина пришла на встречу с Джино. Джино был ответственный сотрудник посольства одной африканской страны, аккредитованной на Украине. И звали его не Джино, имя его вообще нельзя было выговорить, не сломав язык, разве что промычать. Поэтому скромный дипломат называл себя просто, без излишних претензий на исключительность, Джино. Встреча была назначена в выставочном павильоне на Броварском шоссе, где третий вечер подряд продолжался праздник украинской моды. Выставочный павильон представлял собой обычный, продуваемый декабрьскими сквозняками ангар, под потолком которого плавало, все больше сгущаясь, облако табачного дыма. Этот физический феномен, сгущение дыма на фоне сквозняков, некому было описать, так как из-за зверского холода все любознательные физики частично вымерзли, а частично разбежались. Осталась только ничего не понимающая в законах физики публика, съехавшаяся поглядеть на демонстрацию новой украинской моды. В сегодняшний, заключительный день праздника, собралась целая толпа почитателей высокой моды. Публика подобралась довольно пестрая, от посиневших от холода светских дам, увешенных драгоценностями, в вечерних платьях с открытыми спинами, в умопомрачительных шляпках и с замысловатыми прическами, до заджинсованой молодежи и странных субъектов в фуфайках и чеботах. Живое это месиво шумело и пенилось под сопровождение оглушительно громыхающей, многократно отраженной от металлических стен ангара музыки. Альбина умела и любила одеться. Она часто посещала подобные мероприятия и имела представление, какая публика здесь соберется. Но она не предполагала, что в этот раз все будет так, до непристойности убого. Она надела платье из бархата бездонно темно-зеленого цвета, совсем немного черных кружев и дивной работы тонкую белую мантилью. Кроме бабушкиных серег, с которыми она не расставалась, на ней было одно единственное украшение, осыпанный бриллиантами крест из белого и червонного золота, сверкавший в глубоком вырезе платья. Оглядев себя в зеркале перед поездкой, она нашла свой наряд вполне приемлемым для предстоящего шоу. Но теперь, увидев собравшуюся публику, она решила не снимать свою укороченную, необыкновенно эффектно сидящую на ней шубку на соболях. Во-первых, она не видела, перед кем здесь красоваться, а во-вторых, уж очень ненадежным было окружение, и легко можно было не досчитаться шубы в тридцать тысяч долларов. Было и третье, — холод. Но если бы не было трех первых, и четвертого, — полутемного сарая из рифленой жести на окраине города, она бы блеснула своим вечерним туалетом, который на редкость удачно подчеркивал статность ее фигуры, гармонируя с матовой кожей и золотистыми волосами. Даже не снимая шубы и не демонстрируя своего вечернего туалета, она с удовлетворением замечала, как женщины, подобно «ужасно добрым» хищным птицам, не поворачивая головы, провожали ее глазами. В ангаре прибавилось света, и стало лучше видно, кто здесь есть. Присмотревшись, Альбина заметила, что на этот раз число «звездных» гостей превзошло все мыслимые нормы. Было такое впечатление, что каждый более-менее известный в своей области человек решил отметиться на сегодняшнем шоу. В бесконечном мельтешении лиц и нарядов Альбина увидела известных банкиров, предпринимателей и коммерсантов, видных спортсменов и популярных артистов. Одного Джино нигде не было видно. Столичный бомонд почтили своим вниманием и некоторые политики. Альбина отметила, насколько лучше они были одеты, по сравнению с прошлым годом… С напыщенным видом, запрокинув патлатую голову и выпятив вперед острый кадык, деревянной походкой промаршировал известный композитор со своей новой, юной супругой. Демонстрируя себя во всяческих позах, одетые так, чтобы всех «убить наповал», медленно фланировали светские киевские модницы. Всеобщее любопытство вызвала предводительница столичных львиц, скандально известная Нинель Тарабан. Она была броско намазанная, в ее спаленных пергидролем, небрежно скрученных в узел волосах торчали три страусовых пера. Но фурор в рядах сбежавшейся поглазеть на нее публики вызвали не ее перья, а имидж Тарабан à la[23] «дама с собачкой». В качестве собачки она вела на поводке с ошейником на шее субтильную брюнетку, коротко остриженную под «тифози». Та, изображая пинчера, время от времени становилась на четвереньки и, преданно глядя на хозяйку невеселыми глазами навыкат, лизала ей руки. Отклячив зад, Тарабан с идиотским видом вертела головой и улыбалась, показывая, вымазанные губной помадой зубы. Брюнетка была в коротком черном топике и в черных, обтягивающих велосипедных трусах, отчего казалась тоньше, чем была. Она сильно озябла, ее худенькое посиневшее тельце сотрясал озноб. Альбина с состраданием подумала, что у такой худой девчонки непременно должны быть глисты, и поспешно отошла от этой пары. А «дама с собачкой» еще долго позировала перед телекамерами в бликах фотовспышек под аккомпанемент восхищенных и возмущенных реплик. Грохот музыки поубавился, и под выкрики и понукания ведущего по подиуму начали расхаживать манекенщицы и манекенщики, в общем, модели… Напрягая зрение и разыскивая по залу Джино, Альбина машинально отмечала приталенный силуэт в тренчах, сложный крой костюмов и пальто, удачное сочетание велюра с шелком и кашемиром. А вот интересная фишка: полупрозрачный шелк, летящие линии, рюши и кружева, всепобеждающая женственность в стиле рококо. Очень хороша была блуза-туника с глубоким вырезом и высокой талией, она создавала нежный и элегантный образ, акцентуируя внимание на достоинствах фигуры. А сочетание голубого с белым и кремового с бежевым, усиливало эффект воздушности, в таком наряде будто паришь в облаках… Но это были единичные находки, жалкие крохи, подмеченные острым глазом Альбины, в океане пошлого хулиганства с тканями. Так уж повелось, что всегда кто-то идет в авангарде и всегда это кому-то не нравится, но представленные на всеобщее обозрение коллекции не тянули даже на карикатуры. И речи быть не могло об их «носибельности». Подобные конструкции могли на себя напялить только местные «модели», чтобы забежав за кулисы, побыстрее их с себя снять, в надежде, что в зале не было знакомых. В огонь негодования Альбины подливал масла ни на минуту не замолкающий ведущий. Завывая, как вурдалак на кладбище, он на всхлип рассказывал о том, что в новом сезоне будут популярны изделия из меха пони и стриженой нутрии, обработанные по сверхсовременной технологии лазером, расшитые бисером и стразами. «Этот новейший концептуально-конструктивный дизайн, ‒ захлебывался соплями ведущий, ‒ Необычайно ярок по креативу и конструктиву дизайнерской мысли. Хитом сезона будет голый живот, а изюминками, аксессуары, прежде всего, пирсинговые украшения оральной и пупочной области». Словом, по версии наших ведущих дизайнеров, в сезоне наступающего 2005 года в моде будут превалировать блеск, шик и красота! Маслом по древу растекался ведущий. Потому что все, что дорого — стильно и качественно. А главное, женщина должна чувствовать себя таинственно. Как при этом должен себя чувствовать мужчина, ведущий не сказал. Но когда на подиуме появился, как объявил ведущий, «мачо» в цветастой юбке со «стильной» циркулярной электропилой в руках и, путаясь в проводах пилы, начал принимать картинные позы, терпению Альбины пришел конец. Она поднялась с дорогостоящего места и отправилась в поход по ангару на поиски Джино. Очень скоро она нашла его у крохотной торговой точки, представляющей собой обычный пластиковый стол на хлипких ножках, где было выставлено пиво, засохшие бутерброды и водка, которая стоила, как французский «Наполеон». Ее слегка позабавил серо-голубой оттенок лица замерзающего негра. Теперь понятно, что имел ввиду Вертинский, когда пел о «лиловом негре»… Одетый в белый летний костюм Джино, судорожными глотками глотал водку из залапанного, не раз использованного пластикового стакана. Его черная безволосая голова блестела, как полированная. Увидев Альбину, карие глаза Джино радостно забегали. Много раз перенесенная малярия придавала белкам его глаз ярко желтый оттенок. Став рядом с ним, и прикрыв рот окаменелым бутербродом, Альбина быстро оговорила условия перевозки груза. Мимо них прошел новый украинец, громко выговаривая своей половине. Он вышагивал с растопыренными руками, коренастый и необычайно толстый, его жена была ему под стать. Словно два шкафа, переваливаясь на коротких ногах, протопали перед ними. До Альбины донеслось его негодующее: «А бодай уси б вони поздыхалы!» Несмотря на диковинной оттенок черной кожи, с Джино быстро удалось договориться. К радости Альбины, в связи с ротацией сотрудников посольства у него была возможность переправить весь груз одной партией, но сумма гонорара при этом выросла до пятисот тысяч долларов. Зато он давал полную гарантию доставки груза прямо в Лондон. Альбину слегка покоробило, когда Джино вместо cargo[24], сказал smuggling[25]. Его излишний натурализм ей претил. Забавляясь, она подумала, что Джино схватывает чисто внешние стороны жизни в ущерб осмыслению глубин идейного содержания… В конце их короткого разговора Джино перешел с английского на украинский и, сверкнув белизной кривых зубов, проговорил напоследок: «Дё побачъення!» Этот пассаж рассмешил Альбину, подсластив пилюлю возросших расходов. Когда надо будет передать ему груз и аванс, Джино обещал сообщить ей в течение двух суток. Альбину это устраивало, хотя и хотелось бы поскорее. В целом показ мод удался, хоть и дороговато обошелся. Проходя мимо Альбины и Джино, Цуркан сделал два моментальных снимка скрытой камерой. Он и Сахно вели Розенцвайг от ее дома. Уже издалека он сделал третий снимок, стоящего вблизи от этой пары Сахно в момент, когда он подносил ко рту бутылку пива. Будет чем дразнить парнишку, усмехнулся Цуркан, уж больно он трясется над своей репутацией, я в его годы был попроще. Небось, мечтает стать генералом, как Останний. Вспомнив об Останнем, Цуркан нахмурился, но сейчас его больше беспокоило, попало ли в фокус лицо негра. Цуркана, как и Альбину, удивил фиолетовый оттенок лица Джино, но он отнес это к особенностям его африканского загара. Он и предположить не мог, что негр на грани замерзания, сам-то он был в неприметной, болотного цвета куртке на толстой меховой подкладке. Удалось ли качественно щелкнуть физию негра? Этот вопрос его сейчас волновал больше всего. Цуркан был высокого мнения о своей камере «Аякс-12», о ее надежности спецы всего бывшего Союза вспоминают, как о качестве советской пенсии: «хорошо, стабильно и надежно». Куда там штатовскому «Миноксу» с корпусом из чистого золота. Впрочем, Цуркан видел этот миниатюрный шпионский фотоаппарат только на картинке… Ему давно уже предлагали перейти на цифровую съемку, но он отказывался, привык к своему Аяксу, как к напарнику. Нет, Старый Верняк не подведет! Неподалеку от стойки с напитками и закусками стояло три высоких столика, возле которых выпивало около десяти человек, точнее восемь. Вся публика находилась в зале, где под грохот барабанов голосил, будто его режут, ведущий. Может, все-таки пройти мимо и сделать еще один дубль? Нет, слишком мало народа, можно засветиться. Цуркан пожалел, что оставил в машине «Nikon» с длиннофокусным объективом. И хотел же взять, да решил, что он слишком громоздкий, будет привлекать внимание, забыл, что здесь все фотографируют. Носил бы его сейчас на плече, как какой-нибудь журналюга, была бы отличная маскировка и стопроцентное фото негритоса, с досадой упрекнул он себя. Как же поступить с этими двумя? Невелика надежда на то, что Валера что-то услышал из их разговора. Нет, этого негра нельзя упустить, это не обычный фиолетовый негр, уж очень он смахивает на покупателя наших секретов. Вот Розенцвайг и «показала свои уши». Следовательно, она действительно продает экономические секреты Украины. Как правило, профессиональное чутье Цуркана не подводило, выходит, получилась ошибка, должен был признать он. Не долго тебе осталось ими торговать. Чего тебе не хватает? Все есть: квартира, машина, два магазина. Нет, таким все мало! На тот свет ничего с собой не заберешь, у гроба нет карманов. Вообще-то, известно, у кого всего много, тому всегда чего-то не хватает. Другое дело я, в день зарплаты я богат, как Ротшильд с Онасисом в придачу. Когда время от времени Цуркан имел в кармане зарплату, полторы тысячи гривен (по плавающему курсу, около триста долларов), он чувствовал себя миллионером, в большей степени, чем настоящий миллионер. Неважно, что это было не более, чем «ощущение субъективного богатства», как выражаются мудрилы психологи. Дело не в том, совершенно не в том! Главное чувствовать себя человеком, этого не купишь ни за какие деньги. Погоди, я тебя приодену, не манто, а пижаму с номером будешь носить. Кровь из носа, но надо выяснить, кто этот африкан. Вспомнился сосед по комнате в общежитии школы КГБ, который утверждал, что негры это сильно загорелые белые, а обезьяны умеют говорить, но из осторожности это скрывают. Надо на что-то решаться. Получить бы санкцию на переключение от Очерета. Да где там! Заранее получить санкции на все случаи жизни не получится. Выхода нет, придется отпустить Розенцвайг и вести негра, как старший, принял решение Цуркан. Как бы сейчас пригодился Хоменко, но после того как они упустили Деда, он оформил себе больничный лист. Позвонил накануне, сказал, что у него температура и обострение старой травмы, намекнув, что боевой. Скорее, родовой, презрительно скривился Цуркан. Прячется на больничном, скотина, а нам отдуваться. Очерет, свой, поймет, а Останний, если потянем пустышку, кожу с нас рвать будет. Заметив, что негр уходит, Цуркан дал маяк Сахно. Следуя, с небольшим отрывом в кильватере друг за другом, они отправились вслед за негром, а тот, едва ли не бегом, припустился в сторону гардероба.* * *
Поздней ночью Альбина добралась до своего дома. Город спал. Утих его несмолкаемый шум и всем вокруг овладела тихая грусть. Красота ночи, это то, чем ей в последнее время так редко доводилось любоваться. Отпустив шофера, Альбина подошла к своему подъезду. Сильно похолодало, застывшие лужи поблескивали первым в этом сезоне льдом. Мороз, опавший ломким инеем, хрустел под ногами. Студеный недвижимый воздух был необычайно чист. Она улыбнулась, глядя на белую розу пара у рта. Стеклянно чистые звезды сияли звонким хрусталем. Глядя вверх, Альбина случайно увидела, что в окнах ее квартиры горит свет. Это не могла быть Мила, она одна имела ключи от наружных дверей и знала код сигнализации. Но она всегда предупреждала Альбину перед тем, как прийти. Так было заведено. Значит, у нее в доме чужие.
Глава 15
Захвативший Мишу похититель был намного опаснее прежних. Он был настолько жутко сосредоточенно молчалив, что Мише даже в голову не пришло возражать против того, что его куда-то везут, тем более сопротивляться этому. Очерет привез Мишу на дачу к одному из оппозиционных режиму президента Кучмы местных предпринимателей. С начала выборной компании «для его же блага», он был заключен в следственный изолятор. Очерет «одолжил» ключи от его дачи из вещественных доказательств. Очерет считал, что большинство обычных воров и спекулянтов сейчас начали называть себя «предпринимателями», воры же мастью покрупнее, придумали для себя название «олигарх». Вполне благопристойное название, но эта игра слов могла ввести в заблуждение только их самих. Куда отнести Розенцвайг, он пока для себя не решил, не исключено, что она не подпадала ни под одну из этих рубрик. Возможно, так и было, а быть может, и нет. Очерет никогда не делал упрощенных, скоропалительных умозаключений и вообще отрицательно относился к альтернативе, полагая, что при ней нет степеней свободы. Ни слова не говоря, Очерет завел Мишу в дом, запер дверь и, вывернув ему руки за спину, надел на него наручники. Затем он отвел Мишу в подвал и усадил его на металлический стул. На уровне груди он примотал Мишу широкой липкой лентой к спинке стула, той же лентой накрепко прикрепил его ноги к ножкам стула. — Должен вас уведомить, что есть кое-что похуже смерти, и я вам это устрою, — глухим, как из бочки голосом произнес он. — Сейчас я буду вас пытать. Я знаю, вы боитесь боли, а вам будет очень больно… — медленно и страшно сказал незнакомец, пристально разглядывая Мишу. Миша, не отрываясь глядел, как расширились аспидной черноты зрачки его мучителя, и становились все больше, и больше, будто стремились раздаться во все глаза. — Прошу вас, никуда не уходите, — коротко бросил он и куда-то ушел. Невыразимая тоска охватила Мишу. Нет ничего хуже бессилия. Минут через пятнадцать, которые показались Мише пятнадцатью годами, незнакомец вернулся, держа за ручку железный ящик с инструментами. С нарочитой медлительностью он расстелил на полу перед Мишей газету «Киевские ведомости» с оторванным углом и аккуратно разложил на ней: садовые ножницы с матово-белыми острыми кривыми лезвиями, клещи, несколько отверток, шило и молоток. Сладостный трепет ужаса приподнял волосы у Миши на голове. Затем он снял с Миши туфли и носки, как тисками сжал его стопу и защелкал над пальцами садовыми ножницами. — Я умоляю вас, пожалуйста! Не делайте мне больно! — вскрикнул Миша. Его охватил невыносимый всепоглощающий ужас, какой испытывает человек перед лицом страшной мучительной смерти. — Я отдам вам все, что у меня есть, я сделаю для вас все, что вы хотите, только не делайте мне больно, пожалуйста… — тихо попросил он. В ответ, его палач лишь молча сверлил его черными дырами глаз. — Я расскажу вам все, о чем вы спросите, но вы же ничего не спрашиваете… — содрогаясь всем телом, искал и не находил, чем бы заинтересовать своего мучителя Миша. — Это другой разговор, — наконец отозвался тот. — В таком случае, у вас есть шанс выйти отсюда живым и невредимым. Но, чтобы вас отпустить, вам ничего нельзя повреждать, — разъяснил он и положил на газету ножницы. Вдруг он схватил молоток и слегка ударил Мишу по пальцу на ноге. Миша закричал страшно, это был крик не человека, а смертельно испуганного животного. Чуть позже он сообразил, что кричал больше от испуга, чем от боли. — А вот мизинчик вы уже и повредили… — ласково сказал и сокрушенно покачал головой его мучитель. — Не лгите мне, иначе мне придется вам много чего повредить, а с повреждениями я не смогу вас отпустить. Вы меня понимаете? — Да… — сдавленно прошептал Миша. Больше всего на свете он хотел одного, чтоб это поскорее кончилось, безразлично как. — Тогда расскажите мне, со всеми подробностями, каким образом Розенцвайг планирует переправить партию антиквариата и коллекцию картин Черниговского художественного музея за рубеж? — чрезвычайно медленно и раздельно проговорил, допрашивающий его незнакомец и навел на него свои ужасные глаза. Ничего не скрывая, Миша рассказал ему то, немногое, что он знал о Напханюке, а также о запасном варианте. О том, что в случае, если не удастся договориться с Напханюком, Розенцвайг планировала вывезти антиквариат по второму каналу, с дипломатической почтой. Но он не знал, ни названия посольства, ни имени дипломата. И самое главное, Миша не знал и даже не догадывался, где Альбина это все хранила. Хоть Миша и не надеялся на это, но садюга-похититель ему поверил. Он, молча собрал орудия пыток и, не попрощавшись, ушел. Если проанализировать и обобщить суть внутренних механизмов предательств, то можно прийти к выводу, что большинство из них совершается не намеренно, а по слабости характера. В самом худшем, что случается в жизни, повинны не зло и жестокость, а чаще всего слабость. Уходя, рассуждал про себя Очерет. Мотивы любого предательства, как правило, просты, с некоторыми незначительными вариациями. И хотя все случаи предательства по-своему уникальны, в них, как и в самих изменниках, много общего. Трусость и эгоизм — движущие силы предательства. Очерет много об этом размышлял, непроизвольно сравнивая себя, человека чести, с предателем. С одним из тех, жалких, уронивших себя ничтожеств, запутавшихся в липкий паутине предательства. По этому вопросу он располагал богатым фактическим материалом, которого хватило бы для того, чтобы написать на эту тему основательную монографию. Он даже название для нее придумал: «Анатомия предательства». Он бы мог ее написать без труда, точнее, не напрягаясь. Но он не видел в этом смысла, ему не для кого было ее писать. Размышляя над темой предательства, у него всегда возникал один и тот же вопрос: «Через что может переступить предатель, чтобы остаться собой?» Ответ всегда был неизменным: «Через все, кроме самого себя». И вне связи с этим, он, будто глядя со стороны, отметил, что в последние годы люди стали для него безразличны и безлики, как лишенные лица манекены, и даже внутренняя речь его изменилась, теперь она постоянно была пропитана желчью цинизма. Миша сидел на железной кровати с плоским слежавшимся тюфяком, прикованный за руку наручниками к литой чугунной спинке, и размышлял над своей жизнью. Новая беда обрушилась на него, дичайшая по своей нелепости и чем-то напоминающая кошмарный сон. Эх, кто бы сказал мне, что это всего-навсего сон… А может, нескончаемым сном до этого было его прежнее существование? Будто в сумерках вечерних, не ведая ни радости, ни горя, сгоревшей спичкой он лежал на обочине, наблюдая, как мимо с шумом проносится жизнь. Налетевший ветер подхватил его и понес так быстро, что теперь был явственно виден конец его полета. Неужели мне суждено умереть, так и не узнав, зачем я жил? Да, плохи дела, в погреб его еще не запирали. И надо бы хуже, да не бывает. Он не знал что делать, и был совершенно потерян. В дальнем конце подвала под потолком горела, упрятанная за проволочную решетку лампочка. «Любопытно, зачем эта решетка? ‒ подумал Миша. ‒ Должно быть от мух, чтобы не гадили». Он снял носок и, как мог, обмотал им натертое браслетом наручника запястье. Барахтаясь в зыбучем болоте отчаяния, он медленно погружался в глубокую прострацию. Веки его отяжелели, и он ненадолго забылся тревожным полусном. Через некоторое время он увидел, как из темных углов подвала бесшумно вылезли маленькие злые зверьки и молча, окружили его кровать, почесываясь и что-то терпеливо выжидая. Где-то неподалеку в машине сработала сигнализация, прерывистый вой сирены вспугнул их, и они бросились врассыпную, оставив на бетонном полу мокрые следы от своих проворных лап, по форме напоминающие кленовые листья. Миша вздрогнул озябшими плечами и окончательно проснулся. Сколько продолжался его сон, он не знал, часы у него отнял Нюмич. Все было по-прежнему, только сильно сушило во рту. Он тщательно вытер губы пальцами и постарался смочить рот слюной, но ее не было. Хотелось пить. Он увидел, стоящую на полу подле кровати трехлитровую стеклянную банку с водой, но дотянуться до нее было невозможно, не позволял наручник. Что это, случайность или очередная пытка? И тут Мишу осенила спасительная идея, ведь эти металлические кровати разбираются! Если отсоединить спинку от сетки, то, удерживая ее в руках, можно будет отсюда выбраться. Он вскочил и без труда выдернул из пазов спинки металлическую раму с натянутой на нее панцирной сеткой. К его удивлению, спинка даже не пошатнулась, а продолжала стоять, как стояла. Присмотревшись, он увидел, что ее ножки приварены к отрезку стального рельса, вмурованного в бетонный пол подвала. Судя по ржавчине на сварочных швах, его похититель давно подготовил эту кровать ‒ «колыбель революции» для своего пленника. А что, если их уже было несколько? И где они теперь? Неожиданно для себя, он тихо запел любимый романс Сандомирского: «Где вы теперь, кто вам целует пальчики?..» Но вспомнив о своем мизинце, у него пропало желание петь про пальчики… Тем не менее, после запетой песни ему стало легче. Он еще долго стоял так, ни о чем не думая. Потом он устал и собрал кровать, подложил под спинку сбитую в блин засаленную подушку без наволочки, неспешно уснастил тем же носком ноющее запястье, поудобнее устроился в кровати и задумался. Он думал о лете. Что может быть прекраснее лета в Херсоне? Желто-горячие абрикосы в бархатистом изумруде листьев, в коричневых сотах янтарный мед, млеющая нега солнечных полдней, дышащая тягучими ароматами нагретых зноем трав, песни сверчка в подступающих сумерках, исполненные необычайно нежной тоски, задумчивое затишье вечеров, когда сердце в упоении замирает и томится. А закаты! Их дивную прелесть не передать словами, это надо видеть. Ну что́, казалось бы, слова? Слова и голос, — больше ничего. Взять, к примеру, те же абрикосы. Выглядят они, бесспорно, изысканнее, чем, скажем, картошка либо какие-нибудь другие корнеплоды. Но наивным людям не понять, что поэтизировать можно самые обыденные предметы, открывая их новый смысл, возвышающий их до небес, как бы не презирали их поборники изысканного вкуса. Хотя бы и ту же картошку. Да, с большим бы удовольствием отведал бы сейчас молодую отварную картошку с маслом и зеленым лучком. Ему захотелось есть. Это его расстроило, но ненадолго. А что за чудо утро на Днепре! Матовая ртуть воды парится белым молоком, и зелень вокруг окутана туманом. Туман бывает таким густым, что его можно зачерпывать горстями и держать на ладонях или комкать и лепить из него снежки. И вот, неожиданно, средь непробудного сна тишины сквозь гущу тумана, словно Oriflamme[26] пробиваются первые лучи восходящего солнца, и пространство вокруг начинает фантастически разрастаться и нежная синева неба зарождающегося дня смутно проявляется в вышине. Миша вырос почти у самого Днепра и в Киеве жил недалеко от него, но он забыл уже, когда последний раз видел Днепр. Река, для живущего у реки, нечто обыденное. Когда река рядом, к ней привыкаешь, и перестаешь замечать ее красу. От этого он снова расстроился и, чтобы отвлечься от невеселых мыслей, он начал думать о том, что большинство наших мыслей не связаны с удручающей действительностью. И это действительно так. Бо́льшую часть своей жизни я провел в мечтаниях, следовательно, я самый счастливый человек. Убедив себя в этом, он с удовлетворением отметил, что пить ему больше не хочется.Глава 16
Наступил декабрьский вечер. Снега не было. Земля лежала голая и замерзала на ветру. Солнца тоже не было, уже пятую неделю. Вокруг была одна лишь пыль, и пыли было в избытке. Эта зима ничем не отличалась от обычной зимы, — на Марсе. Налетами дул северный ветер, наполненный колючей ледяной порошей. Над Городом колыхался темно-оранжевый смог, своим отвисшим чревом касаясь крыш высотных домов. Это мерзкое марево дышало чем-то непостижимо зловещим и постоянно менялось. Наливаясь демонической силой, оно, то разгоралось заревом вселенского пожара, то, тускнея, обагрялось цветом крови. В такие вечера количество самоубийств в Киеве возрастало втрое.* * *
Этим вечером Очерет и Мусияка продолжали слушать и «документировать» Розенцвайг, сидя над ее головой в квартире сто шестнадцать. Несколько минут назад они подслушали и записали ее телефонный разговор с каким-то иностранцем. Он звонил ей из телефонного автомата, как удалось выяснить, находящегося на Крещатике. Говорили они по-английски. Фоновый шум сильно мешал, и разговаривали они слишком быстро. Чтобы ничего не упустить, Очерет для контроля прослушал запись, но ничего нового не услышал. В коротком разговоре иностранец предложил Розенцвайг привезти ему завтра в семь часов вечера весь груз. Адрес не назывался, но было сказано, что груз надо доставить в то же место, что и раньше. Розенцвайг согласилась. Иностранец напомнил ей о том, что согласно их договоренности, необходимо привезти с собой задаток, и повесил трубку. — Вы не могли бы перевести, о чем они говорят? — спросил Очерет у Мусияки. — Ничего не могу понять, слишком быстро говорят, — прослушав запись и, спрятав глаза, ответил Мусияка. Самоуверенный до наглости, он никогда не мог взглянуть прямо в глаза собеседнику. — Завтра отдам эту кассету переводчикам, может они того… — Мусияка со значением покрутилрастопыренными пальцами у виска, жест явно позаимствованный у Останнего, ‒ Переведут, — нашелся Мусияка. Все ты понял. Не годится обматывать старших по званию, подумал Очерет. Это равносильно самовольному выходу из строя, так недалеко и до измены родине. За это полагается небольшое взыскание… Во время их суточных бдений Мусияка проговорился ему о том, что в совершенстве владеет английским языком. Длинный язык может навредить шее. Эта информация не должна попасть к Последнему из генералов, решил Очерет. Пришло время «взвесить» твои заслуги перед родиной, вынес свой приговор Очерет. Упиваясь ядом безверия, он не замечал, что в своем цинизме перешел границу дозволенного. Дозволенного? Кем это, дозволенного? Тем непостижимым началом, которое отличает человека от животного. Очерет зашел в туалет, некоторое время постоял там и спустил воду в унитазе. Потом он вошел в ванную, отвинтил кран в умывальнике и достал из настенного шкафчика заранее приготовленную капроновую бельевую веревку. Он неслышно подошел к двери комнаты, где сидел Мусияка и, поглядывая на него в приоткрытую дверь, сделал петлю, повесил веревку на дверную ручку, достал из кармана электрошокер и снял его с предохранителя. Лучший способ действия против неприятеля — скрывать от него свои намерения вплоть до их реализации. Наблюдая за Мусиякой, сформулировал про себя основное положение оптимальной тактики Очерет. Пора брать инициативу в свои руки. Мусияка сидел к нему вполоборота с полуоткрытым ртом и о чем-то усердно размышлял. На столе перед ним на полиэтиленовом пакете были разбросаны засохшие шкурки от вареной колбасы, надкушенные куски хлеба вперемешку с горелыми спичками и окурками. ‒ Та-ак, ты оставил после себя беспорядок, за это тебя убить мало, ‒ с суровой укоризной прошептал Очерет. Провинности Мусияки возрастали с каждой минутой, хотя он об этом не догадывался. Запустив пальцы в волосы, он долго чесал голову, его длинные, до плеч, засаленные лохмы были давно не мыты. Эти волосы были неплохим камуфляжем, похожие прически носят члены определенных молодежных группировок. «А может, тебе насильственным путем изменить пол и ориентацию?» — глядя на него, раздумывал Очерет. Затем Мусияка вырвал из головы длинный черный волос и взяв его двумя руками, начал чистить зубы, протягивая волос взад-вперед между зубами. «Давай, вычищай, чистые зубы тебе сегодня пригодятся», ‒ пробормотал Очерет. Прикрыв контакты электрошокера носовым платком, он подошел сзади к Мусияке, приставил шокер ему к затылку и дал разряд. Сухой щелчок с характерным электрическим скрежетом громко протрещал в тишине. Взяв под мышки обмякшее тело Мусияки, Очерет подтащил его к двери и, склонившись над ним, любезно предложил: ‒ Дай-ка, я тебе галстук завяжу, ‒ аккуратно надев ему на шею петлю, Очерет постоял, рассматривая сверху расплывшееся, как квашня, лицо Мусияки. ‒ Ну, как? Не жмет? ‒ заботливо осведомился он у Мусияки. Мусияка начал приходить в сознание, он открыл глаза, и хоботком вытягивая толстые губы, пытался что-то сказать. Тонкая нить слюны с каплей на конце, дрожа и поблескивая, свесилась у него изо рта. Перекинув веревку через верх дверей, Очерет рывком потянул ее на себя и повесил Мусияку на дверях, закрепив конец веревки на дверной ручке с противоположной стороны дверей. Мусияка делал отчаянные попытки высвободить шею из петли, но координация его движений была нарушена. У него получались только беспорядочные судорожные взмахи руками, и что он ни делал, как ни сжимался в комок, подбрасывая до подбородка колени, поднимая плечи до ушей, как ни вытягивался дрожащей струной, пытаясь хоть на цыпочках дотянуться до спасительного пола, все его усилия были тщетны. На фоне белого дверного полотна, как на экране, его хаотические телодвижения напоминали пляску, подвешенной на нитке марионетки. — Как это у тебя получается танцевать, не касаясь пола ногами? — наблюдая за Мусиякой, спросил у него Очерет. Без интереса, лишь бы поддержать разговор. Мусияка сучил ногами, его пятки отбивали чечетку на двери. Он все отчаяннее извивался и дергался, судорожно пытаясь освободить шею из петли. ‒ Повесившись, надо мотаться, а оторвавшись, кататься, ‒ склонив голову к плечу, назидательно посоветовал Очерет. Мусияка из последних сил боролся за жизнь, но все было напрасно, его руки бессильно повисли вдоль туловища. Очерет знал, что без посторонней помощи из петли еще никому не удалось освободиться. Поэтому, как он поставил себе в заслугу, проявляя гуманность, он не стал связывать Мусияке руки. — Тяжело убивать своего ближнего, — равнодушно произнес Очерет. — Еще тяжелее, когда твой ближний убивает тебя. Но я добрый, придется тебе все простить. Посмертно… Проявил пример христианского всепрощения Очерет. Мусияка в знак признательности громко выпустил кишечные газы. ‒ Прекрасно, ‒ обронил в ответ Очерет. ‒ Человек, сделавший такое, способен на многое. Когда конвульсии закончились, Очерет принес из кухни табурет и опрокинул его у ног трупа. Затем он вынул из магнитофона кассету с записью разговора и положил ее к себе в карман. Он все делал методично, не торопясь, чтобы ничего не упустить. ‒ Может быть, это тебя образумит? ‒ глядя на висевшего без движения Мусияку, с сомнение проговорил Очерет. Он набрал номер мобильного телефона Хоменко, тот ответил сразу, будто поджидал, когда он ему позвонит, и принялся поспешно и многословно рассказывать о том, как он тяжело и почти смертельно заболел и как у него открылась, то есть обострилась, боевая рана, в смысле, травма, но боевая… В связи с этим он вынужден был взять больничный лист для того, чтобы… «Вернее, с тем, чтобы затем не было после ни у кого никаких претензий и, чтобы никто не клеветал, что он здоров… Потому что он знает, что на него клеветают, от этих клеветаний даже здоровый может заболеть и помереть…» ‒ не замолкая, плаксиво канючил Хоменко. Очерет оборвал его на полуслове, строго отчеканив: — Ваш больничный лист аннулирован. Генерал Останний приказал вам выздороветь. Слушайте новый приказ: «Опергруппе снять наблюдение за Розенцвайг. Всем быть на связи и отдыхать по домам, до моего особого распоряжения». Повторите. Когда Хоменко, заикаясь и путаясь, повторил приказание, Очерет, на манер генерала, пролаял в трубку: «Выполнять!» Бросив напоследок взгляд на широко раззявленный рот Мусияки с вывалившимся сизым языком, и посмотрев на лужу мочи под его ногами, Очерет ровным, лишенным каких-либо оттенков голосом, произнес: ‒ Вот и все твои заслуги. Как и у каждого из нас… ‒ и навсегда покинул квартиру сто шестнадцать.
Глава 17
В кармане халата Альбины что-то шевелилось. Первое, о чем она подумала, ‒ у нее в доме поселился полтергейст! Полный бред. Еще немного и начнут мерещатся приведения. Это пульсировал в вибрационном режиме мобильный телефон. Альбина сообразила, что происходит, только после того как он принялся противно пищать по возрастающей. Все нет времени подобрать подходящую мелодию. Когда оно у меня будет? На дисплее обозначилось имя того, кто звонил. — Это я, — очень тихо прозвучал в трубке голос Склянского. «Мог бы и не говорить», ‒ с облегчением и радостью подумала Альбина. Этот телефон предназначен только для него, и они оба об этом знали. — Я вас разыскивала. У вас неполадки с телефоном? — Нет. Не мог до него добраться. Попал в больницу. — В какой вы больнице? — Октябрьская. — Ни слова больше! Держитесь, я сейчас буду. Октябрьская городская больница, в прошлом старейшая больница Киева имени Цесаревича Александра Александровича, располагалась на склонах летописного Клова. Альбина о ней читала в справочнике по достопримечательностям Киева. Она была открыта в 1875 году на средства, собранные жителями Киева, которые собирались ими в течение десяти лет. Стремительно шагая, Альбина неслась по бесконечно длинному коридору больницы. Какая-то санитарка с сердитыми воплями погналась за ней. Альбина остановилась и взглянула ей в глаза, у той сразу пропала охота орать. С бледного, на удивление похорошевшего лица, на нее глянули широко раскрытые глаза разъяренной Багиры. Душевные переживания укорачивают наши дни, но, быть может, только тогда мы и живем? Криво ухмыляясь, повелительница тряпок отступила. Зеленые деньги универсальной отмычкой открывают любые двери. Дверь реанимационного отделения не исключение. Склянский лежал на функциональной кровати, прозрачная трубка капельницы заканчивалась иглой в его иссохшей, почти детской руке. Он очень изменился, черты лица заострились, серую кожу прорезали глубокие морщины, ввалившиеся глаза глядели страдальчески. Альбина впервые заметила, что перед ней лежит дряхлый старик. С усилием шевеля пепельными губами, он едва слышно прошептал: — Простите, Your majesty[27]. Годы… — Меньше слов, берегите силы. Время еще не пришло, в этот раз Ей ничего не достанется… Поверьте, я вам ручаюсь, — твердо сказала Альбина. Склянский хотел кивнуть и не смог. В знак согласия слегка прикрыл глаза. Он силился ей что-то сказать, но лишь беззвучно шевелил губами. На экране, стоящего возле кровати монитора, сильно упростился рисунок кардиограммы, пронзительно начал пищать зуммер. К Склянскому неторопливо подошел врач, его лицо закрывала белая маска. Он что-то коротко сказал медсестре, та открыла сейф, достала оттуда флакон и набрав в шприц прозрачную жидкость, ввела ее в резиновую манжетку капельницы. Зуммер умолк. Врач ушел. Альбину покоробило безразличие персонала, хотя она и понимала, что это результат опыта помноженного на компетентность, но от этого было не легче. Склянский спал, его дыхание было спокойным, размеренным, щеки слегка порозовели, и, что особенно обрадовало Альбину, на его лице появилась легкая умиротворенная улыбка. В просторном реанимационном зале Альбина сразу выделила молодую сноровистую медицинскую сестру и отозвав ее в сторону, убедительно сказала: — У меня к вам предложение. Здесь лежит близкий мне человек, ему нужен особый уход. Вы не могли бы взяться за это? Я буду платить вам двести долларов в неделю. Оплата вперед. Вот первый взнос, — согласно кивнув, медсестра взяла протянутые деньги. Примерно такой же разговор состоялся у нее и с заведующим отделением, только сумма увеличилась до тысячи долларов. Настоящие деньги говорят по-английски. Здесь все это понимают, даже те, кто ни бельмеса не смыслит в английском. Обоим она оставила номер своего мобильного телефона, растолковав, что в случае необходимости звонить ей надо сразу, в любое время суток. Выйдя из отделения, Альбина оглянулась на больничный корпус. Рядом с ней под окнами стояла худенькая девочка лет восьми. Маленькая, сутулая и чем-то озабоченная. Ее тоненькие ноги в застиранных коричневых чулках в рубчик были обуты в большие, не по ноге, старушечьи войлочные боты. Возле нее на сыром асфальте дорожки стояла потертая сумка из пластиковой мешковины в синюю, белую и красную нитку. Она бережно прижимала к груди что-то завернутое в детское одеяльце. — Мамочка! Смотри, кого я тебе принесла, — тоненьким голосом радостно крикнула она, глядя вверх. Неужели, притащила сюда ребенка? Содрогнулась Альбина. Там, в окне третьего этажа белело лицо женщины, кутающейся в тюремный, мышиного цвета халат. Девочка слегка развернула сверток и подняла его вверх, чтобы мать увидела завернутого в одеяльце котенка. Альбина взглянула на девочку, на ее бледное до прозрачности лицо, сияющие восторгом глаза, и у нее защемило сердце. Ей почему-то подумалось о своей босой душе. Отчего ж ей быть босой? Обуви у нее хватает, туфлей и сапог, одних комнатных тапочек более двадцати пар. Вполне достаточно. Странные ассоциации иной раз вызывают совершенно бессмысленные жизненные явления.* * *
Глубоко задумавшись, Альбина шла по Крещатику. Серый потолок неба, нависая, довлел над ней, не давая выпрямиться в полный рост. Городской транспорт стоял, ни такси, ни частника остановить не удалось. Мобильный телефон ее шофера не отвечал. Лишь бесстрастный голос компьютера твердил, что в настоящее время связь с абонентом отсутствует. От Октябрьской больницы она пешком добралась до Крещатика. Вся проезжая часть главной улицы Киева была заполнена палатками революционеров. На синих биотуалетах, установленных на тротуарах, жители палаточного городка укрепили таблички: «Кабинет Кучмы», а еще, чтобы не перепутать ‒ «ЦВК»[28]. Украина восстала против режима президента Кучмы. Все вокруг пестрело померанцевыми лентами. В круизах по Средиземному морю Альбина много раз видела померанец. Ей знакомо было это вечнозеленое, цвета надежды на лучшее, дерево, она даже пробовала на вкус его оранжевые, горькие, несъедобные плоды. Правящий президент Кучма на свое место приемником назначил наиболее социально близкого себе кандидата по фамилии Янукович. Все украинские средства массовой информации наперебой доказывали, что он дважды несудимый. Янукович был мелкий уголовник, промышлявший кражей шапок у прохожих, теперь же, президент Кучма назначил его уважаемым профессором и более того, ‒ новым украинским академиком.
* * *
Под конец Альбине повезло, ей удалось втиснуться в переполненный микроавтобус маршрутного такси, и она продолжила свой путь домой. Это был настоящий «микро», горбатый недоносок чуть выше обычного автомобиля с бортовым номером четыреста двадцать. Набившиеся в него, как шпроты в банку, люди ехали стоя в полусогнутом состоянии. Один водитель чувствовал себя вполне вольготно, изображая из себя Шумахера, он неожиданно с пробуксовкой срывался с места, рычал двигателем и визжал тормозами, бросая свою набитую до отказа колымагу из стороны в сторону. Подолгу замирая в бесконечных пробках, согнутая в три погибели Альбина, считала минуты окончания этого мучительства. На видном месте за спиной у шофера висел плакат, на ярко-красном фоне большими белыми буквами был написан простой и доходчивый стишок.
Глава 18
Наступило утро. Усилился шум транспорта. Дворник по живому скреб асфальт. Тихон стряхнул с себя остатки дремы и сразу ощутил пробирающий до костей мозглый холод. Он не был робок к стуже, когда-то давно, в другой своей жизни, до монастыря, он не раз засыпал на земле в желтой луже зловонной мочи. Но в последние дни этой затянувшейся до зимы осени постоянное ощущение всеохватного телесного хлада медленно и нещадно изводило его. Он сел в своей постели, поставив одну ногу на бетон лестничной площадки, и привычными узлами стянул сыромятный ремешок, закрепив самодельный протез на культе другой ноги. Как всегда, потребовалась определенная сноровка, чтобы подняться со своей «перины», расстеленного на трех деревянных ящиках, сложенного вдвое толстого листа картона. Удержав баланс на одной ноге, он относительно прочно укрепился на двух, расправил плечи и с хрустом потянулся. Но крепатура, сковавшая его члены, не проходила, ныли все кости, каждый сустав, особенно донимала, ворочающаяся каждое утро боль в пальцах отрезанной ноги. Одно утешало, стоит расходиться и все пройдет. Упершись уцелевшей ногой в пол, он наклонился и взялся за ледяной металл ступени сварной лестницы, ведущей на крышу, и не обращая внимания на то, что ознобило ладони, тридцать раз отжался. Стало намного легче. Как и положено истинно религиозным людям, Тихон прятал веру глубоко в душе и о Боге вспоминал лишь в редких молитвах. Он постоял, припоминая слова, и произнес вслух молитву своему покровителю, святому Владимиру:* * *
Декабрь вступал в свои права. Становилось все холоднее. Длиннее и темней стали ночи. Солнце не появлялось. Вечером пошел снег с дождем, а ночью ударил мороз. Тихону не спалось, холод сегодня был ни тот, что всегда. Он понял, что в этот раз ему с ним не справится. Среди ночи ему пришлось покинуть лестничную площадку и отправиться на поиски более теплого пристанища. Остановившись у крайнего подъезда, он решил попытать счастья в подвале, может там, возле труб парового отопления удастся отогреться и скоротать ночь. Он увидел, как мимо прошла Розенцвайг и направилась в сторону рынка. Тихон не стал ее останавливать и не пошел за нею следом. Он знал, что это произойдет не сегодня. Все слова были сказаны и свой выбор она сделала. Глядя на падающие с неба снежинки, Альбина подумала, что на душу ей падает снег, намело сугробы. И тут же усилием воли отмела от себя эти декадентские мысли. Альбина направлялась в казино «Cherry», находящееся невдалеке от ее дома, там службой безопасности руководил Антоныч. За охрану своего бизнеса Альбина платила ему твердую ставку, плюс премиальные за реальные действия. Ему этого было достаточно, но Антоныч не мог сидеть, сложа руки, в нем жила властная потребность действовать, жизнь без приключений, без смертельного риска была ему в тягость. Постоянное пребывание на острие конфликта было для него такой же потребностью, как ежедневный прием пищи. То, чем он продолжительное время занимался, было не просто служба, это стало образом его жизни. В той, прошлой его жизни, все имело другую цену и смысл. Антоныч так и не смог вернуться с войны, он тосковал по ней. Жизнь на войне полна тревог и лишений, порой невыносимо тяжкая и, в то же время, изобилующая событиями, пьяняще захватывающая. Изнывая от бездеятельности, Антоныч не находил себе места от скуки. Такие долго не живут, война рано или поздно их сожрет. Ему это было известно, поэтому и оттягивал свое возвращение на войну, без которой уже не мог. Он был еще не стар годами, но обременен разрушительным опытом и воспоминаниями. Антоныч мало спал, бессонница изводила его. Долгими ночами делать было нечего, со всех сторон его обступала тишина и перед глазами оживала череда пережитых событий. Он помнил их настолько ярко, словно все произошло вчера. Каждый раз повторялось одно и то же. Вначале виделись лица мертвецов: друзей и врагов, они навсегда стали неразлучны. Потом вспоминались, леденящие кровь, обрывки отдельных ситуаций. Зажмуривая глаза, он пытаясь прервать поток кровавых видений, но это не помогало. Они начинали мелькать, вспыхивая в мозгу, как при вспышках блица, теряя всякий смысл, оживляя в памяти ужас пережитого. Антоныч не любил мертвецов, за его спиной их было немало. Он их не боялся, но не любил, потому что их нельзя было убить еще раз. Это его раздражало, и на него накатывала тоска и подозрительность. К некоторым из них он питал такую лютую ненависть, что был готов собственными руками вырыть из могил их трупы и жечь им волосы, чтобы их души метались в аду. Особый счет он имел к бойцам спецподразделения «Buffalo». Один африканский загар этих белокожих, отлично подговоренных парней приводил его в ярость. Как от вина, голову ему кружили слова: «Бей их! Гадов…» Бесконечное время ночей следовало чем-то занять. Алкоголь не годился, он вытворял с ним страшные вещи, и Антоныч от него полностью отказался. Тут кстати поступило предложение от давнего знакомого возглавить службу безопасности в казино, и он согласился. О характере человека многое можно узнать по его рукопожатию. Альбина помнила, как при их знакомстве основательно поизносившийся, но сохранивший военную выправку Антоныч, железной хваткой стиснул ей руку, и как непроизвольно приподнялась его бровь, когда в ответ он почувствовал не менее твердое рукопожатие. Это не было проявлением неотесанности, то был первый тест, который она выдержала. Был и второй тест, после которого у него не возникало желания ее проверять. Можно было бы без этого обойтись, потому как уже в первый раз Альбина в высшей степени учтиво его предупредила, сказав: ‒ В следующий раз, когда будете подавать руку, спрячьте, пожалуйста, когти… Антоныч был выше среднего роста, тонкий в поясе и широкий в плечах, но без излишней мышечной массы. Телосложением он большенапоминал акробата, чем борца, скорее гибкий прут, чем кувалда. Двигался он, как на пружинах, точность движений у него удачно дополнялась силой и выносливостью. Заметная сухощавость фигуры придавала его облику неприятную суровость. У него были прямые черные волосы, четкой чеканки мужественное лицо, какое можно увидеть на античных геммах и внимательные, зеленоватые с коричневыми вкраплениями вокруг зрачков, глаза. За застывшей невозмутимо-спокойной маской лица в его глазах нет-нет, да и мелькали всполохи сдерживаемой беспощадной свирепости. Каждый человек представляет собой личность с определенными индивидуальными особенностями. Вместе с тем, в мыслях и поступках людей так много общего, в стандартных ситуациях, повторяемого. Антоныч не вписывался в это правило, у него был совершенно неординарный образа мышления. При общении с ним Альбину не покидало ощущение, будто она, опасно балансируя на краю, глядит в бездонную глубину колодца. Антоныч с осторожностью и даже с подозрением относился к незнакомым людям. Если же человек ему нравился, он и тогда не спешил открываться, но его смуглое лицо время от времени преображалось белозубой улыбкой. Глаза его не улыбались никогда. Эту странную улыбку Альбина не раз сравнивала с улыбкой тигра. Его непомерная осторожность прямо соизмерялась с не менее чрезмерной инцидентоспособностью, он не уклонялся от любых опасных мероприятий. Альбине импонировала его врожденная жестокость, понятная ей самой. Она ценила его осторожность, она и сама постоянно была начеку. Осторожность — главная составляющая настоящей смелости. Альбина встречала в своей жизни смелых людей и была убежденна, что бесстрашия нет, есть недооценка опасности, иначе говоря, глупость или недомыслие. К Альбине Антоныч относился с большим уважением, с каким никогда не относился к представителям мужского пола. Он одобрял методы ее борьбы с вымогателями, был наслышан и о том, как она утрясает конфликты, возникающие при транспортировке антиквариата. Слухи об этом эхом разносились в их окружении. Но скорее, дело было не в этом, жестокости вокруг хватало с избытком. Антоныч уважал ее за ум, храбрость и решительность, с которыми она вела свое дело. Эти качества редко сочетаются у мужчин, еще реже они встречаются у красивых женщин. Знавший толк в людях Антоныч, умел это ценить. Казино «Cherry» серой гармошкой растянулось у подножья большого восемнадцатиэтажного дома. Через дорогу от него скрытно ворочался в колеблющемся сумраке никогда не засыпающий рынок «Виноградарь». У входа в казино гостеприимно приоткрыл железную пасть банкомат. Над дверями метались ослепительными молниями призывная вывеска: «Casino», донимая ночи напролет жителей многоэтажек. Каждую ночь подгулявшие завсегдатаи казино отмечали свои выигрыши или проигрыши оглушительным салютом, который часто переходил в перестрелку. Участь проживающих рядом с казино жителей Виноградаря была незавидной. При всем том, Альбине нравился Киев — город, который никогда не спит, с его шумом и суетой днем и продолжающейся до рассвета, никогда не затихающей ночной жизнью. Альбина любила ночь, ‒ время хищников и похожих на них людей. Нет, она никогда бы не смогла жить в селе. Ей вспомнилось, как много лет назад она приехала в одно из сел Полтавской области, где по сведениям Сандомирского, у селян сохранилась старинная мебель и другой антиквариат из разграбленного во время революции панского дома. Ехать было необходимо, притом срочно, из этого села к Сандомирскому попало сразу два подлинника передвижников: Васнецова и Маковского. Альбина приехала на неприметном сером «Москвиче», прихватив на случай удачи, грузовую машину с тентом. Она хорошо помнила ту поездку. Когда-то роскошное дворянское имение было сожжено и разрушено до основания, как и весь старый мир «насилья». Уцелел только заброшенный, наполовину вырубленный тенистый сад с кирпичными развалинами оранжереи, ‒ останки «дворянского гнезда». Этот беззащитный старый сад задел ее за живое, настолько он был живописен в метафоричности своего разорения. У заборов застыли селяне, внуки и правнуки грабителей помещичьей усадьбы. «Вот и встретились коллеги», ‒ подумалось Альбине. Увидев ее, одни, оцепенели, у других, словно в беззвучном крике разинулись рты, и те и другие, выпучив глаза, не отрываясь, глазели на нее. Это было тупое сельское любопытство. Так, расставив ноги, бессмысленно пялится на тебя корова, отправляя естественную надобность. Периодически они покашливали и переглядывались с затаенной неприязнью и осуждением. Неряшливые старики, раскоряченные старухи в надвинутых на лоб платках, с пустыми, немигающими глазами. Многовековой рабский труд, утеснения местных магнатов и советские репрессии провели естественный отбор: уцелели самые криводушные и лукавые. Их обветренные красные лица напоминали застывшие маски, но в неподвижных глазах таилась скрытая ненависть ящуров. Альбина знала, какую оголтелую ксенофобию питают деревенские к городским. Ее всегда поражала та пещерная злоба, с которой они смотрят на чужих. Не оборачиваясь, она чувствовала, как они, стоя позади нее, пучат глаза, обмениваются взглядами и злобно сопят. Она бы могла написать и защитить диссертацию на тему: «Идиотизм деревенской жизни» или «О скотской сущности селян». Могла бы, да времени не хватало. Но, так ли необходим селянам их каждодневный однообразно изнуряющий труд? Жизненно необходим. Они и работают день и ночь. Работали б и по воскресеньям, и по праздникам, да религия запрещает. И соседи неусыпно и ревностно следят друг за другом, чтобы никто ни дай бог не работал в воскресенье или в церковный праздник. Зачем им это? Чтобы не умереть с голоду? Нет, отнюдь нет, ‒ чтобы не думать. Физический труд ‒ злейший враг мысли. Работа занимает их мысли, вернее, избавляет от них. Таким способом они борются с беспросветной скукой деревенской глуши. Обделенные внутреннем миром, если у них забрать еще и отвлекающий труд, они, как мухи, передохнут от скуки. В ожидании смерти, не зная, чем себя занять, они изнуряют себя работой. Черный труд для них спасение от самих себя. Да, но, для них ли одних?.. Святой Серафим Соровский каждый день таскал на плечах мешок с камнями. «Зачем?», ‒ спросили у него. «Томлю себя, чтобы не утомиться от самого себя», ‒ доходчиво разъяснил изобретенный метод борьбы с одуряющей скукой своей подвижнической жизни Серафим. Вот так-то, а имя Серафим означает Сияющий Ангел… Нет, она бы никогда не смогла жить в селе. Антоныча в казино не было, еще не пришел. В просторном полутемном зале все, как и везде: зеленые столы, и пластиковый фонтан посредине. Освещены были только игральные столы, а высокого потолка будто и нет, будто вместо потолка над забредшими сюда искателями счастья распростерла крылья владычица Ночь. Игроков мало, час пик для игры еще не настал. Альбина любила игру и с удовольствием играла в карты и в другие азартные игры. Играя, она разговаривала с Судьбой. В наш стремглав летящий в никуда век у каждого свой допинг: кофеин, никотин, алкоголь, деньги, власть, слава. О наркотиках она никогда не упоминала, слишком многих из тех, кого она знала, из-за них не стало. Каждый сам для себя выбирает способ релаксации, но перебор здесь чреват зависимостью, не слабее наркотической. Среди безотрадно серой повседневности каждый ищет свой источник адреналина, одни, играют в войну, другие — в теннис. Охота же поиграть на деньги, на первый взгляд, невинное увлечение. А определение «азартный человек», не обидное, а скорей, наоборот, в нем подразумеваются качества страстной, соревнующейся личности. Здоровое чувство азарта помогает в достижении поставленной цели и одновременно позволяет еще и выиграть какую-то сумму денег. Но тут, как со спиртным, необходимо знать свою дозу. Страсть к игре легко переходит в болезнь, завладевающую сознанием манию и, если у игромана отобрать его единственную радость, заставить отказаться от игры, его жизнь будет лишена смысла, поскольку она безнадежно пуста. В последние годы преферанс из досуга Альбины был вытеснен более «остропсихологическим», с ее точки зрения, покером. Немало времени она провела и за столом, магнетизируя наматывающий круги шарик рулетки. Она хорошо знала блеск и нищету казино. К чему всю жизнь работать, копить жалкие крохи на свое маленькое счастье? Приходите к нам в казино, и вы за вечер станете сказочно богатым! Люди всегда ищут короткую дорогу к счастью, к сожалению, такой дороги нет. В былые времена она и сама играла в заграничных и в нелегальных, а потом уже, и в легальных одесских казино, и играла превосходно, не прижимисто, а рискованно. Она никогда много не выигрывала и очень редко проигрывала, придерживаясь золотого правила: играй, пока везет, и останавливайся, когда удача, как попугай у известного пирата, слетает с твоего плеча. Иными словами, играй, но не отыгрывайся, остановись, — пока ты в плюсе. Не теряя благоразумия, она поднимала ставки, когда везло и у нее хватало воли выйти из игры, когда начинала проигрывать. Поэтому Альбина никогда не проигрывала больше той суммы, с которой могла расстаться безболезненно. Острота и невыразимая увлекательность игры зависит от степени риска. Нельзя сказать, что ее не захватывала игра, не волновали ее перипетии, не привлекали сопутствующие победе напряженные переживания, делающие победу еще более желанной, но, мобилизуя волю, она всегда вовремя останавливалась. Впрочем, не всегда… Рулетку не зря относят к абсолютно азартным играм, в отличие от карт при игре в рулетку ничего не зависит от опыта или способностей игрока. Поддавшись азарту, при игре в рулетку легко проиграться до нитки. Как и в любой игре, здесь необходима воля и расчет. Естественно, в заведениях, где ставки делают в гривнах, не проиграешь столько, сколько можно оставить в долларовых казино. И хотя все понимают, что у казино нельзя выиграть (разве что, вначале купив его), игроки делают свои ставки, а когда им еще время от времени выплачивают деньги, они уже не могут остановиться. Большие выигрыши на ее глазах встречались крайне редко, и она была уверена, что это не более чем случайность. Поэтому она, никогда не стремилась сорвать банк в казино, хотя и не отказалась бы от этого. Счастье не выиграешь в рулетку, возможность найти свое счастье зависит от способности восприятия мира. Альбине нравилась торжественно-напряженная, но отнюдь не шумная обстановка залов казино. Женщины в вечерних туалетах, мужчины, одетые, как для театра. Проявлять эмоции здесь не принято. Внешние проявления чувств, со всем многообразием эмоциональных оттенков в казино можно прочесть по рукам. Она любила наблюдать за жизнью рук над зеленым сукном, как по-разному они делают ставки, берут выигрыш, или переживают напряженное ожидание итога игры. Руки над столом, как живые существа характеризуют своих хозяев. Насколько же они разные, с вялыми, как варенные макароны пальцами либо с изящно порхающими над столом кистями пианистов, но чаще всего она видела здесь беспокойно мечущиеся руки с пальцами, сведенными в когтистые лапы, мало похожие на человеческие. В казино «Cherry» собиралась не только преуспевающая элита, но и самая разношерстная публика, совершенно разные люди, как по возрасту, так и по уровню доходов. Вот кто-то, явно с расположенного рядом базара, разжился на несколько сотен гривен, и он уже тут как тут, играет, чтобы выиграть свой миллион. Женщин меньше, чем мужчин, но играют они не менее азартно, делают солидные ставки и переживают результат игры не менее экспансивно, чем мужчины. Для некоторых игра в казино представляет собой целый ритуал, где первейшее значение придается удаче. Они приходят сюда в одной и той же приносящей удачу одежде, и если случайно попадают в казино не в своих «фартовых» туфлях, готовы ехать на другой конец Киева, чтобы переобуться, а без приносящего счастье амулета вообще не сядут за стол. Альбина разработала свою классификацию игроков казино, разделив их на три категории. К первой, она относила тех, кто пришел сюда отдохнуть; для вторых — главное выигрыш; и третья категория, это игроки, для которых игра — смысл их жизни. Эти последние и есть постоянные клиенты, за счет которых живет казино. Они одержимы игрой, для них игра, это наркотик. Когда у них заводятся деньги, они приходят в казино и сидят здесь сутками напролет. В пылу азарта все отходит на задний план, и пока остается хоть доллар «на кармане», они не останавливаются. С помощью изматывающей игры они убивают время, забывая о быстротечности жизни, словно отпущенный им век и без того не слишком краток. Как и везде, наряду с типичными случаями, здесь встречаются исключения. Есть игроки, которые приходят сюда выпустить пар. Если у них нет возможности погоняться вокруг дома с топором за женой или хотя бы обхамить подчиненного, при очередном проигрыше весь негатив они выплескивают на крупье. Некоторые приходят сюда для поддержания своего собственного социального статуса, они могут проиграть значительную сумму, сохраняя внешнее спокойствие. Встречаются и одиночки, для которых игра в рулетку равнозначна «русской рулетке», идя на риск, они не думают о выигрыше, для них важен процесс, когда все висит на волоске и через край в жилах плещется адреналин. Чем-то они напоминали Альбине любителей прыгать с парашютом, которые знают, что у них есть шанс вместо парашюта надеть обычный рюкзак. За столом с рулеткой сидят четверо игроков. Особенно примечателен один пожилой господин в помятом коричневом костюме с розовой лысиной и гривой седых волос позади нее. Возбужденно переживая очередную неудачу, он с досадой ударил двумя кулаками по столу. Затем стал поспешно записывать в блокнот выпавший номер и цвет, достал карманный калькулятор и лихорадочно стал что-то вычислять. С удовлетворением закрыл блокнот и снова сделал ставку, поставив все свои жетоны, для надежности осмотрев пустые ладони. На этот раз он рискует всем. Колоритный тип, понятно, играет «по системе». С тех пор как более трехсот лет назад французский математик и философ Блез Паскаль изобрел рулетку, не прекращается поиск системы, с помощью которой можно было бы выигрывать больше, чем проигрываешь. Пока это никому не удалось, но надежда жива. Как сказал Бенджамин Франклин: «Тот, кто живет одной надеждой, умрет голодным». Похоже, он не ошибался, не зря его портрет тиражируют на известной всему миру зеленой бумажке. Надежду питают постоянные сообщения о том, что наконец, открыт секрет рулетки, и выигрыш теперь гарантирован. Каждый изобретатель из кожи вон лезет, рекламируя свою формулу выигрыша, естественно, не открывая ее, прежде за это надо заплатить. Если же задать вопрос, почему автор изобретения не воспользуется своей формулой сам, можно получить самый невероятный ответ, он у него подготовлен заблаговременно. Но он никогда не скажет, что его формулой может воспользоваться только доверчивый простак. Белый шарик из слоновой кости, подпрыгивая и громко постукивая, носится по массивному вращающемуся кругу, пересчитывая нумерованные лунки. Этот незабываемо дробный стук, лихая чечетка на ребрах рулетки одно время ей постоянно слышалась в тишине. Плясать ему осталось еще секунд пять-десять, после чего он попадет в одно из гнезд и остановится. Никому еще не удалось постичь последовательность этих «попаданий», приносящих одним победу, другим — поражение. Кто-то бросил свои жетоны на «красное» уже после того, как крупье запустил шарик по кругу. Обычно так делают для того, чтобы исключить возможность плутовства со стороны крупье. Ставки сделаны, господа! Вот и все, шарик остановился. Крупье своими граблями сгребает «салат», приличную кучу жетонов тех, кто проиграл, быстро в уме проводит расчет. У него сложная работа: все видеть и слышать, быстро считать и везде успевать. Крупье сложил жетоны в стопку и подвинул их белогривому Лобачевскому, тот схватил их дрожащими скрюченными пальцами и, уронил. Поспешно, на ходу подбирая жетоны, он чуть ли не вприпрыжку направился в сторону кассы. Крупье презрительно провожает его взглядом, ветеран казино сделал вид, что позабыл о полагающихся в таких случаях чаевых. Боковым зрением Альбина заметила, что кто-то беззвучно появился и стал с нею рядом. Это был Антоныч, как всегда собранный и молодцевато подтянутый. Серебристый отсвет люминесцентных ламп поблескивал на его зачесанных назад иссиня-черных волосах. На нем был великолепно сидящий смокинг, сверкающий пластрон туго накрахмаленной сорочки с черным пунктиром пуговиц, и разуметься бабочка. Вне всякого сомнения, он был самый импозантный мужчина в зале, а возможно, и в Киеве. Для Альбины это было без разницы. Поздоровавшись, она приветливо справилась, как идут дела в казино, хотя это ее нисколько не интересовало. — Налаживаю работу, — кратко рассказывал, будто рапортовал он. — Черные с базара торговали здесь наркотиками. Пришлось выдворить, были трения… Они и теперь продолжаются, но уже с местным криминалом. Потрошат выигравших чуть ли ни на выходе. Одного крупье пришлось уволить, присваивал выручку. Другим — занимаемся, за девять месяцев они с напарником не известно сколько украли. Много текущих проблем, особенно мелкого мошенничества. В общем, не скучно, — пытливо всматриваясь ей в глаза, закончил Антоныч. Погоди, сейчас скажу, зачем пришла, вздохнув, подумала Альбина. Иногда ей казалось, что его глаза видят обратную сторону вещей. — Склянский умер, — просто сказала она. — Инфаркт миокарда, похороны завтра в двенадцать. Антоныч помолчал, он никогда не перебивал собеседника, всегда выжидая, не скажет ли говоривший что-нибудь еще. Альбина почти физически ощутила, как он со всех сторон обкатывает ею сказанное. — Мне очень жаль. Примите мои соболезнования, — не выразив на лице никаких эмоций, ровным голосом произнес он. — Все наши будут. Что требуется от меня? — в его глазах, как всегда, мелькали искры недоверия. Альбина поняла, что он догадался о том, что она пришла не только за этим. — На похороны никому приходить не надо. У нас серьезные неприятности. Какие именно, пока сказать не могу. Все должны быть в полной готовности. На связь с вами я буду выходить только по этому телефону, — она протянула ему приобретенный накануне мобильный телефон. — Всем передайте, старыми телефонами пользоваться нельзя, их надо немедленно уничтожить, — закончив давать инструкции, собралась уходить она. — Смерть Склянского как-то с этим связана? — не меняя интонации и пронизывая ее внимательным взглядом, спросил Антоныч. Его волевое лицо с тонким прямым носом и резким разрезом губ не изменило своего выражения, но глаза… В его запавших в глазницах глазах, впервые за время их знакомства Альбина приметила затаенную тоску. — В какой-то мере, да, — подумав, ответила она. И кивнув на прощанье, пошла к выходу. Она знала, что Антоныч провожает ее взглядом, что он ждет от нее более подробной информации, от которой будут зависеть его действия, а возможно, и жизнь. Но ничего больше, чем было сказано, она сообщить не могла. Нельзя нарушать принцип необходимой информации: каждый должен знать только то, что ему необходимо знать. И сопоставив все последние события, она пришла к более точному ответу на его вопрос. Смерть Склянского напрямую связана с тем, что происходит. Ей отчего-то подумалось, что предвидеть долгосрочные последствия своих действий невозможно, выиграв мелочь, можно проиграть по-крупному.
Глава 19
Что-то происходило. И происходило что-то странное, чего Альбина не могла понять. Оказалось, в прихожей в кармане дубленки пронзительно пищал «Nokia». Она о нем забыла. В очередной раз перестраховываясь, для связи с Антонычем она приобрела не только новую SIM-карту, но и новый мобильный телефон другой всемирно известной фирмы. Звонить на номер старого «Nokia» мог только покойный Склянский. Но на дисплее светился номер неизвестного ей мобильного телефона. — Госпожа Розенцвайг, за жизнь Шеина не далее как завтра утром вы должны вручить нам триста тысяч долларов. Они вам больше не понадобятся, так как груз, который должен был переправить Напханюк, вы должны отдать сегодня, в течение двух часов, — голос в трубке был ей незнаком, он был чугунно-глухой и отрывистый, гораздо серьезнее того, первого. Сердце ее забилось сильней и чаще. — Или он вам больше знаком под фамилией Проскуратов? — и, не дожидаясь ответа, тот, говоривший из далекой пустоты, продолжил. — Небезызвестный вам Напханюк, он же Проскуратов, приказал вам долго жить. После того как мы получим весь груз, включая картины Черниговского художественного музея, я вам позвоню и сообщу, куда доставить деньги. Вы отдадите нам триста тысяч долларов, а мы возвратим вам живого и невредимого Михаила Шеина. Предупреждаю, никаких неожиданностей, за каждым вашим шагом следят. Одно необдуманное движение, и Шеина не станет. Ваше решение? Я жду три секунды. Альбина хотела потребовать, чтобы ей дали поговорить с Мишей, чтобы она могла убедиться, что он еще жив, чтобы потянуть время, чтобы успеть обдумать услышанное. Но вместо этого сказала: — Через дорогу от Кирилловской церкви начинается улица Копыловская, в доме № 2 (она назвала квартиру), стоят шесть картонных коробок из-под телевизоров и один рулон с картинами. Ключ от квартиры через два часа будет в почтовом ящике, — с безупречной выдержкой, объяснила Альбина. Это спокойствие дорого ей обошлось, сердце ее колотилось и рвалось из груди. — Никаких неожиданностей не будет, ручаюсь. Свои обещания я выполняю. Если это для вас не затруднительно, пожалуйста, не времените со вторым звонком, — попросила она. Она не продумала, как обычно, не взвесила и не рассчитала этих слов, мимо воли слетевших с языка. Потеря власти над ситуацией топором нависла над ней. — Что ж, проверим, — прозвучало в ответ, а затем частые гудки.* * *
Времени осталось в обрез. Альбине надо было срочно достать из тайника антиквариат и картины. Быстро собираясь, она позвонила по городскому телефону своему шоферу и приказала ему через полчаса быть с машиной у ее подъезда. Она редко пользовалась своим «Мерседесом» с тонированными стеклами, используя его для представительских целей либо для перевозки особо дорогостоящего антиквариата. Она не любила эту машину. Черный «Мерседес», как и черная кожаная куртка в комплекте с бритым черепом были обязательными атрибутами местных бандитов. Несмотря на этот общеизвестный факт, «Мерседес» здесь являлся предметом поклонения, показателем достатка и преуспевания, поэтому он был необходим для бизнеса. Чтобы получить за вещь максимальную цену, покупатель должен знать, что продает ее не малоимущий. С волками жить — поневоле будешь рядиться в волчью шкуру, и ей на трейлере привезли из Германии новый, в упаковке, «Мерседес». Сейчас он как раз пригодился, она решила использовать свою машину для отвлекающего маневра. Альбина вышла из квартиры черным ходом, он выходил в соседний подъезд. Спустившись в подвал, она открыла замок на окованной жестью двери и, освещая путь фонариком, прошла в конец своего длинного дома. Выйдя из дверей крайнего подъезда, она осторожно осмотрелась и не заметила ничего подозрительного. Слежки за собой она не опасалась, вышла она из дальнего подъезда, и ее трудно было бы узнать в каштановом парике и дымчатых очках-хамелеонах в модной оправе. На ней была джинсовая куртка «Аляска», бежевые вельветовые джинсы и кроссовки. В этом молодежном наряде она выглядела лет на двадцать моложе. На проспекте Правды она остановила частника, и за десять долларов он в течение семи минут домчал ее на Подол до Куриневского парка. Она вошла во двор старого четырехэтажного дома на улице Копыловская № 2. Это был небольшой грязный двор и выкрашенный выцветшей краской дом. В проплешинах облупившейся штукатурки стен там и сям выглядывала кирпичная кладка. В этом доме на подставное лицо ею была приобретена двухкомнатная квартира. Об этой квартире не знал никто, даже Миша. Подъезды этого дома были похожи на входы в норы, чтобы в них попасть приходилось спускаться по выщербленным от времени каменным ступеням на глубину человеческого роста. Альбина быстро вошла в подъезд и поднялась на третий этаж, открыла и заперла за собой на ключ и задвижку деревянную дверь, оббитую потертым коричневым дерматином, и оказалась в своем секретном хранилище. По внешнему виду это была заурядная двухкомнатная квартира, меблированная бывшей в употреблении мебелью из комиссионных магазинов. Все в ней, включая столовую посуду, погнутые вилки и сточенные ножи, было изношенным, не один год послужившим. На стенах проложена устаревшая наружная электропроводка: провода в матерчатой изоляции были натянутые на фарфоровые изоляторы, похожие на катушки от ниток. Квартира как квартира, таких много на Подоле. Но это была лишь видимость, предназначенная для отвлечения внимания от главного. В одной из комнат, с потемневшей позолотой наката на стенах, посредине стоял круглый стол, застланный ковровой скатертью украшенной бахромой, похожей на слежавшуюся паутину. Вокруг него и по углам были расставлены стулья с гнутыми спинками в серых лишаях облезшего желтого лака. К стене прислонился просиженный диван в ямах и буграх, с валиками по бокам, откидывающимися на оконных петлях. На одной из двух полок спинки дивана, выстроились семь уменьшающихся в размерах мраморных слоников (полный набор), а на другой, лежали две морские ракушки (рапаны), память об отдыхе в Крыму. Напротив дивана, черно-белый телевизор на тонких паучьих ножках и застекленный сервант с разрозненными тарелками и чашками от уцелевших дешевых сервизов. Пустовато, зато все на виду и сразу видно, что здесь ничего не спрячешь. В этой комнате была сделана фальшивая стена, Альбина называла ее «китайской стеной». Ее возвели настолько искусно, что заметить перепланировку комнаты было невозможно. Этому способствовало асимметричное расположение окон. После установки дополнительной стены расстояние между оконными проемами и простенками стало одинаковым, и пространственное восприятие комнаты никогда бы не натолкнуло на мысль о тайнике. Эта небольшая перепланировка обошлась ей в круглую сумму, делали русские умельцы, специально приглашенные из Питера. Но качество работы и гарантированная секретность, которой славилась эта фирма, стоили того. Многое в малом. Питерские мастера знали секрет, как влить море в наперсток. Альбина откинула боковые валики дивана, и он стал немного длиннее, а главное, почти ровным. Открыв встроенный платяной шкаф в углу комнаты, она сняла висевшие на деревянных вешалках поношенное женское пальто, коричневую куртку из болоньи с разошедшимся швом на рукаве и несколько пропахших нафталином шерстяных платьев. Внутри шкаф был обит картоном, окрашенным пожелтевшей от времени белой масленой краской. Если постучать по картону, раздавался тупой «бедренный» звук, словно за картоном была каменная стена, но за ним была звукопоглощающая прокладка и толстый дубовый брус. Нажав на скрытый запор, Альбина отодвинула перемещающуюся на роликах тяжелую заднюю стенку шкафа и вошла в узкий пенал схрона. Прежде всего, она вынесла и бережно положила на диван скатанные в рулон картины, а затем по одной вытащила шесть коробок из-под телевизоров. Они были не очень тяжелые, но громоздкие, особенно неудобно было проносить их через узкое нутро шкафа. Чем-то этот процесс напоминал ей роды, хотя в этом деле она не имела опыта. Сняв два длинных, натянутых друг на друга толстых полиэтиленовых мешка, она развернула рулон с картинами. Здесь были уникальные произведения Черниговского художественного музея. Ворам удалось похитить ценную коллекцию западноевропейской живописи и лучшие работы дореволюционных отечественных художников. В рулоне находились полотна итальянских, голландских, фламандских и немецких мастеров XVII–XIX веков, пользующихся всемирной известностью. Первой из-под отягощенных страданием век на нее взглянула «Анна Болейн за решеткой» кисти Карла Фогеля, полотно потрясающее по сюжету и живописной гамме. Проникнутое ясным упоением лицо жены английского короля Генриха VIII, освещенное струящимся откуда-то сверху неземным светом, и руки королевы-мученицы, прижимающие к себе через решетку золотоволосую девочку в момент ее прощания с дочерью перед казнью, никого бы не оставили равнодушным. Альбину всегда волновали произведения высокого искусства, но эта картина дарила ей радость воспоминаний, она ее хорошо помнила и хотела оставить ее себе. Альбина наскоро просмотрела прекрасный образец классического итальянского пейзажа: «Неаполитанский залив» Йоганна Рауха с неизменными памятниками архитектуры, берегом моря и Везувием вдали. Сквозь рамки канонов классицизма видно насколько привлекает мастера тихая голубизна неба и солнце, вечно живая игра света и воздуха. В этой картине чувствовалась поэзия восторга, здесь каждый мазок пел. Что хотел сказать своим пейзажем Раух? Трудно сказать, много и ничего. Есть картины, которые просто-напросто существуют, они заставляют людей грезить. Она еще раз посмотрела в задумчивые, отмеченные особой духовной глубиной глаза «Марии Комаровской» на авторском холсте выдающегося представителя живописи немецких романтиков Генриха Гольпайна. Он написал портрет Марии в 1854 году, в период своего пребывания на Украине. Глядя на этот, относительно не старый, но почему-то казавшийся ей старинным портрет, Альбина с восхищением отметила изысканно утонченную проработку деталей. Подобная тщательность характерна для работ немецкой школы. Ей невольно подумалось, чем же фотография отличается от портрета? Задумавшись, она всматривалась в озаренное внутренним светом лицо женщины, пленившую живописца сто лет назад. Талант художника зиждется на своей, неповторимой, глубоко личной интерпретации увиденного, умении передать то, что не замечают другие. Художнику незачем изображать все с фотографической точностью. Тем и замечательна живопись, что в основе ее волшебства заключено абстрактное начало, живая эмоциональная компонента. И если говорить обобщенно, то фотография, это мастерство анализа, портрет же — искусство синтеза. Из рулона выпало небольшое полотно, двадцать на тридцать сантиметров голландца Теодора Смитса «Натюрморт с клубникой», датированный 1657 годом. В полумраке комнаты на краю стола поблескивали налитые сладкой влагой ягоды клубники, насыпанные горкой в простую, незамысловато расписанную фаянсовую миску. А источающий сок, наполовину очищенный апельсин, до такой степени точно выписан, что при взгляде на него начинают бежать слюнки. Разбросанные по столу усатые креветки также удивительно хороши. Альбина восторгалась богатством красок и реалистичностью изображения, все предметы были написаны совершенно явственно, гармонично дополняя друг друга, создавая впечатление потрясающей правды. От нечего делать такой натюрморт не соберешь и не напишешь. В нем звучала простая и откровенная радость жизни, сама неистребимая жизнь на века запечатлелась на холсте. Через руки Альбины прошло несколько сотен натюрмортов средневековых художников, но с этим, она бы тоже никогда не рассталась. Ей нравилась картина «Развалины дворца Разумовского в Батурине» Лагорио, написанная в средине XIX века. Как близок был ей этот незатейливый, необыкновенно трогательный сюжет в своей безыскусственности линий. В нем художник блеснул мастерством владения светом и тенью. Светло-холодный отблеск заходящего солнца на треугольном фронтоне развалин замка с остатками обветшалой крыши, тайное волшебство камня, помнящего о былом, тонко переданная неотвратимость надвигающихся сумерек и вечная игра лучей заката в листве верхушек старых верб. Ненавязчивое напоминание о неумолимом течении времени, заключительный аккорд жизни, звучащий тихим дуновением покоя и светлой умиротворенности. Есть красота, перед которой останавливаешься на ходу, не в силах пройти мимо. А есть красота, которая постепенно, чем дольше, тем больше овладевает тобой, запоминаясь навсегда. Это полотно относилось как раз ко второму варианту. Оно пострадало больше остальных, отслоившиеся пласты краски обнажили большие серые проплешины на самых видных местах. Так продолжалось долго. Очередная, развернутая картина притягивала ее, а предыдущая, не отпускала. Наконец, свернув и упаковав картины, Альбина нашла коробку с меткой, где была икона Ильинской богоматери. В этой коробке в основном находились предметы церковной старины и православные святыни, беззащитные памятники поруганной веры. Было время, когда с риском для жизни их прятало духовенство, спасая от неминуемого уничтожения. Прежнее духовенство выродилось, теперь все шло на продажу. Она принесла из кухни источенный до узкой вогнутой полоски стали нож с деревянной ручкой, разрезала упаковочную ленту и открыла коробку. Для того, чтобы достать икону ей пришлось вынуть из коробки филигранной работы золотую дарохранительницу в форме небольшой церковки с куполами и погнутыми крестами; золотой наперсный крест, осыпанный мелкими бриллиантами и крупными рубинами, символизирующими кровь и пот Спасителя; серебряный с позолотой потир XVI века, увитый лозой с листьями и гроздьями винограда. Это было творение удивительной красы, средневековому мастеру удалось передать каждый прожилок на листьях вплоть до торсионной извитости лозы. Внутри потира были упакованы четыре редкостные золотые панагии, богато украшенные самоцветными каменьями и эмалью. В прочном пластмассовом контейнере, завернутые в вату, были сложены наиболее ценные произведения раннеславянских и византийских мастеров. Здесь была полностью целая, усыпанная жемчугами золотая диадема; два великолепных золотых проволочных браслета; ожерелье из литой бронзы с золочением и редкими ромбовидными подвесками; семь серебряных полусферических подвесок с ушками, орнаментованных зернью и сканью; и золотые колты древнерусского мастера XII века, изготовленные в технике перегородчатой цветной эмали. Каждый из этих предметов представлял собой верх изящества и совершенства. И это были не просто драгоценности, а сокровища человеческого разума. Одиннадцать золотых шейных гривен V века до нашей эры работы греческих ювелиров были с ее родины. Их выкопали из кургана возле села Архангельская Слобода Херсонской области «черные археологи», и продали Альбине, к сожалению, без соответствующего сертификата… Золото, из которого тысячелетия назад изготовили эти гривны, было низкой пробы, но все они были разные и каждая из них представляла художественную и историческую ценность. «Этих.… Ну, типа, ошейников и другой копанины было бы больше», ‒ рассказывал ей один из этих ценителей старины с откровенно бандитским обличьем. Но недоброжелательно настроенные туземцы посыпали раскоп и всю землю вокруг захоронения алюминиевой стружкой. «После таких дел, работать с металлоискателем стало невозможно, а вставать на лопату и рыть землю наудачу было не в кайф, мы и сбрились». В увесистом холщовом мешочке позвякивала почти полная коллекция старинных русских орденов. Среди них затесалось два ордена Ленина. Сделанный из платины портрет-медальон Ленина и золотой корпус ордена не представляли особой ценности, и Альбина не стала бы переводить на них дорогостоящее место в коробке, если бы их владельцы, орденоносцы, не продали их вместе с орденскими книжками и партийными билетами. Такие «блоки» были в цене, на них всегда находились денежные покупатели. Под мешком с орденами лежало рукописное Евангелие 1594 года. Воистину «перлом многоценным» ювелирного искусства XVI века являлся его серебряный позолоченный оклад, украшенный драгоценными и полудрагоценными камнями. Поле оклада имело оригинальное решение, оно было покрыто редко встречающимся прорезным орнаментом, состоящим из тонких изогнутых веток с листьями, цветами роз и гвоздик. По центру в овале помещался рельеф с изображением князей Владимира, Бориса и Глеба, первых и наиболее почитаемых отечественных святых. С высокой гармонией в художественном замысле объединились виртуозная «живопись в металле» с необыкновенно выразительной резьбой. В этой пышной и торжественной резьбе был запечатлен дух давно минувшей эпохи, это была история в ее подлинном материальном виде. Внизу стояла вместительная черно-лаковая китайская шкатулка, приблизительно конца XVII, инкрустированная перламутром и золотой проволокой. Она была как новая. Радужные переливы перламутра на одеждах танцовщиц и старого мандарина, оттененные черным и желтым, составляли контрастную мажорную гамму и создавали иллюзию ожившей картинки. Непонятно, как эта шкатулка смогла так сохраниться, как она устояла против разрушительной силы времени? В ней было плотно уложено около тысячи ценных марок. Альбина не могла отказать себе в том, чтобы еще раз не подержать в руках написанную темперой на доске и левкасе запорожскую икону XVIII века «Покрова богородицы». Ничто несравнимо с прикосновением, когда подержишь такую вещь в руках, ее не забудешь. Вызывал восхищение уже один оклад мастеров серебряного дела: чеканка и искусная гравировка по серебру, оригинальное сочетание черни с позолотой. На переднем плане усатые запорожцы, во главе товарищества стоит кошевой атаман Петр Калнышевский, они молят: «Молимося, покрой нас честным твоим покровом, избави ото всякого зла». И Ее ответ, выполненный той же древнеславянской вязью: «Избавлю и покрою люди моя». Изумляли лица запорожцев, каждое разное, выписанное с примечательным мастерством. Неизвестный иконописец изобразил их не фронтально, а в легком повороте вправо. Энергичной линией он уверенно вывел широкие славянские лица, крутые выпуклые лбы с лицевыми «движками», а мясистые, с широкими ноздрями носы и большие глаза усиливали впечатление крупности ликов. Удивительно выразителен был теплый взгляд их глаз и неплотно сжатые, говорящие губы. Поражала точность и экономичность письма, острота и плавность рисунка. В создании формы отсутствовали резкие переходы. Тем не менее, мазок отличался энергией и уверенностью. Большого мастера всегда можно узнать по смелости мазка, расставляя акценты, он умеет экономить внимание, направляя его на то, что действительно важно. И фронтально, над ними, с распростертыми руками фигура богородицы со слегка склоненной головой. В ее лице было что-то хорошо знакомое, часто встречаемое в народных характерах, милых и скромных, и вместе с тем, достойных и смелых. Безмятежность юной женщины и твердая вера в победу добра в полную силу звучали в сюжете. И багряная покрова с зеленым подбоем — цвета, олицетворяющие благородство и надежду, поддерживаемая ангелами распростерлась над казаками, защищая их сверху. И, наконец, она извлекла прославленную икону Ильинской богоматери из Ильинской церкви Чернигова, древнейшего из городов земли Русской. К этому времени она уже многое о ней знала. Это была одна из немногих чудотворных икон, автор которой был точно зафиксирован в исторических документах. Образ богородицы исполнил в 1658 году монах Ильинского монастыря иконописец Григорий Дубенский, приняв монашеский постриг, он был наречен именем Геннадий. Одухотворенный лик девы Марии с добротой и лаской взирал на Альбину. Мягкий овал лица, высокие, изящно подведенные брови и тот же спокойный нежный взгляд. В нем светилась чистая и всех объемлющая любовь, которая указана людям как прибежище во всех скорбях и невзгодах жизни. Весь ее облик дышал лучезарной женственной кротостью, оставляя незабываемое впечатление всесильности милосердия. Ее лицо отличалось от той, которая жила когда-то в Палестине, скорее это было воплощение ее духовного образа, который художник стремился сделать понятным и близким людям своей земли и своего времени. Поэтому он не писал женщину с темным лицом, продолговатым носом с горбинкой, маленькими глазами с ориентальным разрезом и маленьким ртом. Исходя из ее восточного происхождения, именно такой мать человека, который был живым Богом среди людей, требовала рисовать иконописная византийская традиция. На иконе была изображена ласковая и немного грустная красивая европейская женщина с большими глазами, переданными с необычайно трогательной эмоциональностью. Она держит на руках ребенка и одета не в царское убранство, а в простую, но красивую одежду. Должно быть, для украинца того времени это был образ идеальной женщины. Иконописец не мог не знать, что помещать изображение смертного там, где веками изображались лишь божества, считается великим кощунством. И все же, взявшись писать образ Пресвятой Богородицы, он переступил через статичность архаической схемы и изобразил ее в виде живой, узнаваемой женщины. У каждой иконы своя биография, она неотделима от судьбы своего народа. Первое по времени чудо, в виде знамения, икона Ильинской богоматери явила через четыре года после ее создания. После смерти Богдана Хмельницкого для Украины начался тяжелый период, который вошел в историю под названием «Руина». В разных регионах Украины одновременно правили три гетмана, каждый из которых клялся на библии защищать интересы народа, а на самом деле был ставленником либо польского короля, либо московского царя, либо крымского хана. Тогда, в апреле 1662 года, произошло невиданное чудо, свидетелями которого были все жители Чернигова: восемь дней из глаз Ильинской богоматери, как у живой («аки бы живой»), текли слезы. Она оплакивала украинский народ в ожидании предстоящих ему бед. В своей «Летописи» Самийло Величко об этом чудесном событии рассказывает так: «Плакала тогда Пресвятая Дева, жалея православных христиан-украинцев, которые через невзгоды, разорения и междоусобицы одни — уже смертоносным оружием убиты, другие — из отчизны, бедолаги, в плен уведены, третьи — будут в плен захвачены, а четвертые — должны в отчизне головы сложить под руководством неистовых, властолюбивых и к междоусобию склонных вождей своих». В том же 1662 году последовало нашествие татар на Чернигов. Они ворвались в Ильинский монастырь, уцелели лишь те, кто укрылся в пещере преподобного Антония Печерского, основателя монашества на Руси. Стоя перед иконой Ильинской богоматери, они как малые дети с сознанием своего бессилия молили Небесную Заступницу о помощи: «Пресвятая Богородице, помоги нам! Погибаем! Поспеши нам на помощь». Святой Димитрий (Туптало) писал об этом: «Сила то Пречистой Девы, защищающая иноков, сарацинам вход в пещеру возбранила». Богоматерь не допустила варваров прикоснуться к своему образу. «И поразилГосподь Бог паганов слепотою». После этого Черниговская Ильинская икона Божией Матери, так ее стали называть в народе, прославилась многими чудесами и дивными знамениями. Их описал в 1683 году в своей книге «Руно орошенное» святой Димитрий Ростовский, который закончил ее словами: «Конец книжки, но не чудесам Пресвятой Богородицы, ибо кто счесть их может?» Душа православного народа чувствовала особое участие Пречистой Девы в исторической судьбе их Родины. В 1696 году на средства гетмана Ивана Мазепы была сделана большая серебряная риза, которая покрывала не только саму, ставшую к тому времени всенародной святыней икону, но и ее киот. На ризе был чеканный герб Чернигова, а вокруг в живописных медальонах были изображены события, связанные с жизнью Богородицы. По свидетельствам современников, это был признанный шедевр ювелирного искусства. Во время коммунистического режима, в тридцатых годах прошлого столетия, когда стоимость серебра этой ризы стали считать больше ее художественной ценности, «слушали и постановили»: переплавить ризу на лом. С иконы содрали ризу, тогда же бесследно исчезла и сама икона. Судьба ее была неизвестна, среди коллекционеров ходили слухи, что все эти годы ее прятали верующие. Вначале Альбина хотела всего лишь в последний раз взглянуть на смутившую ее, а затем овладевшую ее мыслями икону. Теперь же она почти физически воспринимала загадочный поток положительной энергии, исходящий от иконы. У нее возникло непонятное и ничуть не корыстное желание сохранить ее, спрятать икону в тайнике или взять и унести ее на своей груди. Ведь похитители могут не знать о существовании иконы, зачем же отдавать эту неземную красоту в их грязные лапы? А что, если они о ней знают? Тогда это непредсказуемо может повлиять на освобождение Миши. И она положила икону обратно. Выставив все коробки посредине комнаты, и положив на них рулон с картинами, она заперла квартиру и бросила ключ в почтовый ящик. Выйдя из подъезда и поднявшись по ступеням на поверхность земли, она сразу заметила стоящий неподалеку микроавтобус. Когда она входила, его там не было. За рулем сидел и смотрел прямо на нее мужчина. Он был в черных каплеобразных очках и в надвинутой на лоб бейсболке. Не справившись с собой, Альбина шагнула в его сторону, он тут же завел мотор. Что я ему скажу? Задала она себе вопрос. Если он испугается и уедет, все может сорваться. И взяв себя в руки, она развернулась и пошла со двора.
* * *
Второй звонок раздался не скоро, после десяти часов ночи. — Госпожа Розенцвайг, — донесся тот самый низкий голос, он был глуховат и беден оттенками. — Завтра утром вы лично привезете триста тысяч долларов по указанному мною адресу, я сообщу его утром. Надеюсь, вам не надо напоминать, что об этом никто не должен знать. Не забывайте, за вами следят. Если вы выполните последнее наше условие, завтра же Шеин будет у вас. Вы все поняли? — Да, я сделаю все, как вы сказали, но мне надо поговорить с Михаилом. Я должна быть уверена, что он еще жив, — со спокойной твердостью сказала она. — Поговорить можно, — в трубке послышался шорох, шаги и радостный голос Миши. — Альбиночка, со мной все в порядке! Умоляю тебя, отдай… — его речь оборвалась, как будто ему зажали рот. — Вы слышали? Он в полном здравии. До завтра, — в трубке зазвучали частые гудки. Звонков больше не было. Вдруг ее сердце затрепетало и забилось и заболело в груди. «Перестань, глупое!» ‒ прикрикнула она. Оно испуганно притихло, но продолжало тихо ныть, как потерявшийся в лесу ребенок.
Глава 20
Альбина готовилась к встрече. До рассвета оставалось еще долгих три часа. Сколько часов прошло с момента звонка похитителей, она не заметила, они казались ей не зафиксированным в сознании прочерком во времени. Она ходила по пустыне комнат своей квартиры, ждала и не могла дождаться утра. Опущенные на окнах жалюзи из сверхпрочной стали, усугубляли гнетущее ощущение замурованного склепа. Неожиданно ей подумалось, что в груди у нее вместо сердца механические часы, и у них кончается завод. Сюрреалистические ассоциации, достойные Дали. Альбина очень не любила Сальвадора Дали, со всеми вытекающими отсюда последствиями… Она пыталась составить хотя бы примерный план своих действий, но вскоре пришла к выводу, что не располагает практически никакой исходной информацией и за эти считанные часы вряд ли что-либо прояснится. Страх опасности всегда страшнее самой опасности. Незачем переживать по поводу того, что невозможно изменить, напрягать мозг полезно тогда, когда это ведет к результату. Ни одна тщательно спланированная операция никогда не проходит точно по плану. Самые продуманные из подобных акций лишь на 50 % развиваются в соответствии с предварительным планом, остальные 50 % приходятся на непредвиденные обстоятельства, на тех, кто вмешивается в дело, специально или случайно. Предвидеть, чем обернется предстоящий обмен невозможно. Слепой случай вносит сумятицу во всё, он та гранитная скала, о которую разбиваются вдребезги ювелирно разработанные планы. Нет, не так! Все непредвиденные случайности необходимо предусмотреть, вплоть до непредсказуемых. Надо просчитать каждый шаг, выверить каждое движение. Мудрость сильнее рока, храбрым сопутствует удача! Завтра, верней, уже сегодня, может возникнуть много неожиданностей. Даже после детального обдумывания, многие из них невозможно предугадать. Придется действовать по обстоятельствам. Следовательно, надо быть готовой к любому развитию событий. Победителем выйдет тот, кто будет держать инициативу и кому улыбнется удача. Кому достанется эта улыбка, покажет завтра. Точнее, уже сегодня. Альбина достала из встроенного в стену сейфа тридцать пачек долларов, перетянутых желтыми резинками, по десять тысяч в каждой и сложила их для передачи похитителям. Она знала, что в случае обыска или грабежа сейф вскроют в первую очередь. Поэтому держала в нем небольшие суммы денег и подлинные, отвлекающие внимание документы, чтобы «помочь» интересующимся ею, сформировать на себя досье в выгодном для нее свете. Пересчитывать доллары не было нужды, к деньгам она относилась серьезно, пожалуй, более серьезно, чем к чему бы то ни было. Она всегда предпочитала работать с наличными, они не оставляют следов. Главная неудобность наличных денег в сомнительности их происхождения. Эх, деньги-деньги, всюду деньги, господа! А без денег жизнь плохая, а без денег, никуда… Раньше она думала, что погоня за наживой, временная необходимость. Не имея в наличии достаточных средств, невозможно начать независимую жизнь. Теперь ей стало ясно, что эта гонка овладела ею всецело, и она поняла, что нажива и есть ее жизнь ‒ погоня за призрачной целью. Многие, достигнув вожделенной цели, теряют смысл жизни, со всеми вытекающими последствиями. Но Альбина была уверена, что это происходит с теми, кто на самом деле сам не знает, чего хочет. Она же знала, чего желает, но хотела ли она этого на самом деле? Теперь она сомневалась в этом. Одно было, несомненно, потерянные годы не вернуть, то, что не случилось, уже не произойдет. Никогда. Остается лишь гадать, есть ли в нашей жизни хоть какой-то смысл? Она решила не привлекать к освобождению Миши людей Антоныча. Профессиональные солдаты, они умеют убивать. Им по плечу смертельно опасные операции, они не подведут, но могут наломать дров в тонком деле выкупа заложника. Передача денег — самый сложный этап. В ходе назначенной встречи можно попасть в лабиринт, наполненный неожиданностями, из многих возможных решений надо будет принять единственно верное, и от этой альтернативы будет зависеть жизнь Миши, или ее, а то и их двоих. Предстоит мгновенно и с максимальной осторожностью действовать, все поступки должны быть просчитаны до мелочей, даже интонации в голосе при переговорах могут сыграть роковую роль. Нет, это не их уровень. Их опасно брать с собой даже для прикрытия, лишние люди увеличивают вероятность неудачи. Если их обнаружат, Мишу просто убьют, этим и кончится их помощь. На карту поставлена жизнь Миши, кроме него у нее никого не осталось. Лишенная всех человеческих привязанностей, ради него она была готова на все. Если хочешь, чтобы дело было сделано правильно, сделай его сам. Эта азбучная истина здесь как раз кстати. Главную часть дела следует делать самой. В конце концов, это ей брошен challenge[31] и она подняла перчатку. Открыв откидную доску палисандрового секретера, среди небольших ящичков для бумаг и всякой мелочи она отомкнула дверцу крайнего справа вместительного шкафчика и вынула оттуда шкатулку из шемогодской прорезной бересты. Под вырезанным в седой бересте узором в виде растительного побега поблескивала выцветшая зеленая фольга. То был цвет поблекшей надежды, а шкатулка, — единственный сохранившийся подарок отчима ее матери. Бережно открыв шкатулку, она достала из нее старый фотоснимок, на нем была ее мать, отчим и она, маленькая девочка, посредине. Альбина вынула из шкатулки плоский обоюдоострый стилет с короткой, на три пальца, рукояткой в виде полусогнутой женской ноги в черном сетчатом чулке и закрепила его скотчем на тыльной стороне левого предплечья. Это не более чем мишура, но при случае может пригодиться. Она понимала, что надежда на оружие делает человека слабее, невооруженному не на что надеяться, кроме как на самого себя. Но лучше взять с собой приправу, чем не взять, а после жалеть. Главным ее оружием был ум, но идти на передачу выкупа безоружной, значит заведомо уменьшать свои шансы на успех. Альбина достала коробку с патронами, разрядила «Вальтер» и заменила патроны в обойме. Это было лишнее, но это успокоило расшатавшиеся нервы. Ей нравилось слушать щелчки пригнанных друг к другу деталей, легкость скольжения затвора, надежная тяжесть оружия. Нет, восемь, двойственное число, пусть будет счастливая семерка. Она снова извлекла обойму и выщелкнула один патрон, а везучий ‒ седьмой, дослала в ствол. Альбина не была суеверной, она считала: во что веришь, то и сбудется. Будешь верить в плохое, и даже если несчастье не должно случиться, оно непременно сбудется. А если могут приключиться несколько неприятностей, они произойдут в самой неблагоприятной последовательности. Если же не веришь, то никакие черные кошки или пустые ведра беду не накличут. Ничего мудреного, нельзя позволять черным мыслям фиксироваться в своем сознании, ибо сила воображения способна трансформировать их в реальность. Альбина понимала, что началась игра, в которой проигравший потеряет все, возможно и жизнь. Ей не было страшно по простой причине: в этой ситуации она не могла себе позволить страх. Она даже сама перед собой не могла подать виду, что умирать не хочется. Не надо бояться смерти, она не враг, успокаивала она себя. Ничего страшного, если выпадет умереть, смерть будет такой же, как и жизнь, ведь никто не становится другим в минуту смерти, а жизни она не боялась. Она была одна против всех, и ей нужна была хоть какая-то, хотя бы иллюзорная поддержка. Если бы она верила в бога, она бы помолилась, но она не верила, ни во что, и от этого гнетущее чувство внутренней пустоты томило ее. Она же убеждала себя в том, что многие верят в бога только для того, чтобы легче преодолевать одиночество. Вдвоем, с выдуманным богом, не так страшно. Но Альбина не боялась одиночества, одиночество было ее второе имя. Каждый по-своему борется с одиночеством. Одни, бегут от одиночества к другим людям, другие — спасаются от него, удаляясь от людей в пустыню, спрятавшись в «саду камней». И те, и другие не находят ничего, кроме его же, ‒ одиночества. Но есть и те, кто изначально обречен на одиночество, оно живет в них, и они знают, что от него не убежишь. Можно сбежать от кого угодно, только не от самого себя. Перебирая разные, довольно занятные предметы, хранящиеся в ее боевой шкатулке, Альбина, играя, подбросила на руке удобно сидящий в ладони комбинированный кастет. Это была фирменная немецкая штучка заводского изготовления, с ударной частью и вмонтированным в рукоятку, выбрасывающимся пружиной клинком. Она была неравнодушна к потаенным непредвиденным вещам. Ей нравилось выражение: «Ding an sich»[32], да она и сама носила целый мир в себе. Ей на глаза попался обычный спичечный коробок. В нем, укутанные ватой, лежали две ампулы без маркировки, в каждой из них мирно переливалось по одному миллилитру раствора цианистого калия. Когда-то по ее просьбе по своим каналам их достал для нее Склянский. Задумчиво повертев в руках эту очень опасную коробочку, Альбина подумала, что неспроста она ей подвернулась. Есть вещи, которые умеют в нужный момент попасть под руку. Ей приходилось слышать голос вещей. Некоторое время, поразмыслив над этой запечатанной тайной, она отбросила колебания, и положила коробок на его прежнее место, в шкатулку. Под утро, сковывающее Альбину напряжение, отпустило ее. Сидя в кресле, незаметно для себя, она задремала. Наступил миг, и окрыляющая легкость охватила ее. Ее тело стало невесомым, совершенно лишенным земной тяжести. И, ‒ она полетела! Вначале она ухнула куда-то вниз и тут же взлетела вверх, без каких либо усилий, легко, как в юности. Стоило ей слегка раскинуть руки, и она начинала парить пушинкой, летя, куда ей вздумается самой. Нет восторга выше полета. Дух захватывало от открывшегося ей небывалого простора. В лавандовой дымке внизу покоился город, ‒ то был Херсон! Виднелись крыши домов, деревья, знакомые линии дорог и углы перекрестков, а вдали от края до края простиралась широкая лента Днепра. Все до наивности просто с высоты неба. Неизведанная радость переполняла ее. Теперь все будет иначе: все удастся, вернется, сбудется. О, Боже, дай мне силы не разбиться!.. Оглядевшись вокруг, она увидела, что выше не было ничего, кроме лазури неба. Птицы летали внизу, под ней. Нежная нота неизбывно звучала в тиши, увлекая в сладостное забвение. А рядом, сменяя друг друга, по безбрежно голубому простору плыли облака. И наступило просветление, подобное тому, которое приходит, когда долго вглядываешься в небо и растворяешься в нем. У юных непорочных девушек иногда встречается способность к левитации, с годами она проходит. Как странно. Что самое странное, ‒ с годами у них пропадает не только умение, но и желание летать. Полет — венец свободы. Способность летать, хотя бы во сне, как нельзя лучше характеризует человека. Тот, кто летал, идет по жизни с поднятыми к небесам глазами. Но чтобы быть крылатой, надо носить синее небо в себе.Глава 21
Все когда-нибудь кончается. Кончилась и эта ночь, которой не было конца. И ночь, как она ни цеплялась за все, за что ей только ни удавалось зацепиться, все же отступила пред наступлением утра. И настало то долгожданное утро, назначенное самой судьбой. Наступившее утро было не похожее на другие, которые бывают каждый день. Это было кристально ясное утро и каждое последующее, за этим утром, суждено было увидеть не всем. Альбина никогда в жизни не испытывала такого подъема. Это волнительное, исполненное пьянящих переживаний чувство лишь изредка посещает избранных ранним утром накануне битвы. У нее было ощущение, будто вся ее прежняя жизнь была всего лишь прелюдией к предстоящему испытанию. Как вдохновляло и согревало ее то, что у нее есть ради кого рисковать своей жизнью. Около девяти часов утра раздался звонок, и тот же бесцветный, будто пыльный, глуховатый голос произнес: — Привезете то, что должны, в дачный кооператив «Отрада», адрес: Радостная, 22. Приедете на такси в десять ноль-ноль, и ни минутой позже. Машину отпустите. Отдадите долг и уйдете вместе с Михаилом, он вас ждет. Напоминаю, никто не должен об этом знать, — говоривший не дал ей и слова вставить, сразу же дав отбой. До назначенной встречи времени осталось мало, надо было спешить. Вперед, на встречу с Неизвестным! На светлом безоблачном небе медленно поднималось белое зимнее солнце. Веял легкий ветерок и утренний воздух был прозрачен и свеж. Выполнив требование похитителей, она взяла такси, и вовремя добралась до элитного дачного кооператива «Отрада». Это была ничем не примечательная застройка, все те же, примелькавшиеся уродливые многоэтажные хатки новых украинцев. Шорох шин тормозящей машины вернул ее к действительности. На высоком краснокирпичном заборе она прочла на табличке: «Радостная, 22». Какой-то остряк приписал снизу мелом: «Безрадостная». За забором возвышался двухэтажный особняк, похожий на трансформаторную будку, из того же красного тюремного кирпича. Стены его были прорезаны узкими окошками, эти щели напоминали на крепостные бойницы. Добряк хозяин, когда лепил свою мазанку, готовился отбивать визиты своих друзей, которые не отличаются от смертных врагов. Было тихо и все выглядело обыденно и спокойно, и во всем здесь чувствовался ужас.* * *
Миша бежал. Поскальзываясь на подтаявшем снегу и нелепо вскидывая ногами, превозмогая колющую боль в боку, задыхаясь, выбиваясь из сил. Но сил у него было немного, на перекрестке двух дорог ноги разом подкосились, и он с маху сел на бордюр у обочины, больно ударившись копчиком. По мокрому асфальту дороги к нему приближался черный монах на деревянной ноге. Шел он как-то неуверенно, циркульно занося вокруг себя свою деревяшку. Сделав еще несколько шагов, он остановился и постоял, прислушиваясь. Из складок рясы достал четки с грубо сработанным деревянным крестом и, подняв их за крест, замер. Четки начали медленно, а затем все быстрее вращаться. Миша сидел неподалеку, заворожено глядел и не мог отвести глаз от четок. Вначале они образовывали правильный круг, а потом эллипсоид, их вращение начало замедляться и они стали мерно раскачиваться из стороны в сторону. Вслед за тем, четки, как намагниченные, отклонились в сторону дачи и замерли. Остановились. — Да будет воля Твоя! — широко перекрестившись, хрипло произнес монах и направился, куда ему указывали четки.
______
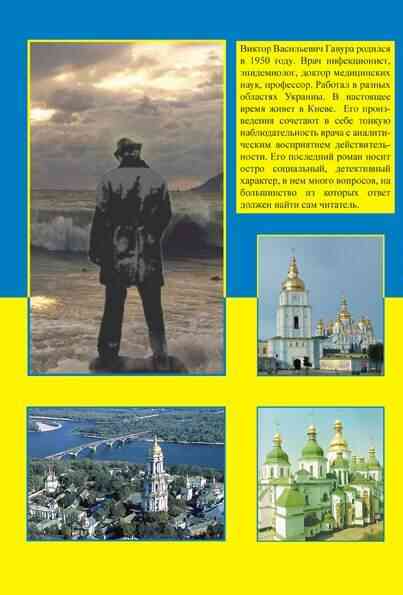 Гавура Виктор Васильевич
Home page:
http://www.gavura.narod.ru
Гавура Виктор Васильевич
Home page:
http://www.gavura.narod.ru
Последние комментарии
1 день 15 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 21 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 23 часов назад
2 дней 57 минут назад