Рубеж надежности [Анатолий Абрамович Аграновский] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Анатолий Аграновский
РУБЕЖ НАДЕЖНОСТИ
(статьи)
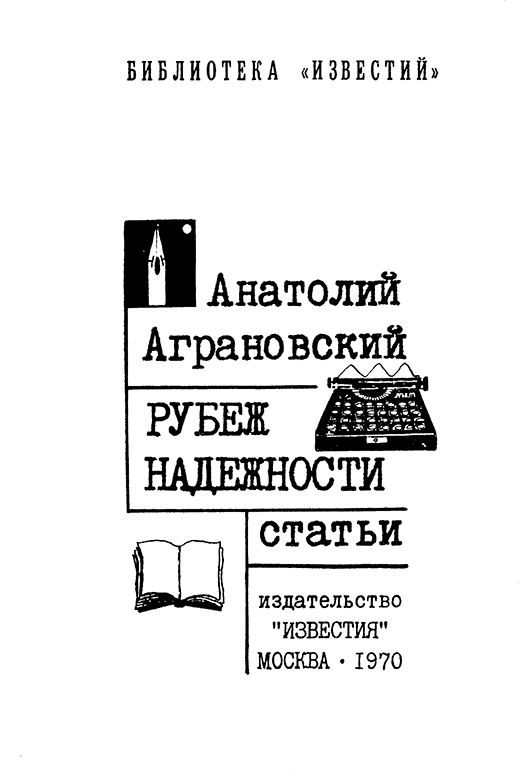
От автора
Здесь собраны статьи, которые печатались в «Известиях» на протяжении десяти лет — с 1960 по 1970 год. «Газета» сохранена в книге. Статьи писались на злобу дня. Автор ставил перед собой практические задачи. Он не придумывал сюжеты, не сочинял людские судьбы. Все, о чем прочитаете вы, было в действительности, имело, как говорится, место. Десять лет — большой срок. Стройки, начало которых наблюдал автор, благополучно завершены. Герои, в ту пору безвестные, получили награды, школьники стали учеными, молодые ученые вышли в профессора. И конфликты, гнавшие автора в поездки по стране, во многом преодолены. В свое время «Известия» сообщали об этом в коротких заметках о принятых мерах. Скажем, тонущий лес («Инициатива сбоку») разрешено было вывозить колхозам Кубани, Украины, Крыма, безлесных районов Средней Азии. Скажем, врачу-новатору («Открытие доктора Федорова») были созданы все условия для работы, а подготовка техников («Сержанты индустрии») ведется сейчас с бо́льшим размахом. Жизнь идет вперед, конфликты находят свое решение, возникают новые проблемы, вырастают новые герои — все правильно. Но борьба за деловитость — не кампания. Помнить о былых заслугах, как и о былых просчетах людей, — нужно. И по этой причине автор решается предложить вниманию читателей эти свидетельства о времени — три десятка газетных статей.

Баллада о деревне Иваньково
ГДЕ ОНА, деревня Иваньково? Четверть века назад скрылась под волнами Московского моря. Ушла на дно. Иваньковцев переселили в густой-прегустой бор. Тогда много писали о них, потом, как водится, забыли. А что они нынче? Я разыскал деревню. Пожалуй что, вовремя разыскал. Еще полгода, год — и следов не найдешь ее… Слушайте.
Сколько веков деревне — никто не знает. Известно лишь, что она исстари связана с Кимрами. Иваньковцы — кимряки, а значит, сапожники: еще суворовских гренадеров обували они. Деревня, говорят старики, стояла крутоберёго, у самой Волги. Избы жались одна к одной, стояли впритык. Почему? Мало было земли, да и какая земля — болота, песок. Вот и приходилось, по выражению Салтыкова-Щедрина, «сапогом промышлять».
Край Пошехонской старины. Самое что ни на есть Пошехонье! Задумывались ли вы над тем, где оно есть и что с ним сталось?.. Был здесь городок Корчева (Иваньково в Корчевском уезде). По Щедрину, это символ всей дикости российской: «Какое может осуществиться в Корчеве предприятие? Что в Корчеве родится? Морковь? — так и та потому только уродилась, что сеяли свеклу, а посеяли бы морковь — наверняка уродился бы хрен… Такая уж здесь сторона». А ведь лежит эта сторона между Москвой, Дмитровом, Угличем, Рыбинском. Вспомните: Иваньковская ГЭС, Угличская, Рыбинское водохранилище. Канал имени Москвы, атомная электростанция, синхрофазотрон. «Пошехонье»!
Что еще сказать о старом Иванькове? Все тут было, как в прочих местах. Князь Вяземский проиграл деревню в карты — избы, скотину, мужиков, баб, детей. После продавали их, дарили, лишали земли. И они жили, старились, умирали, время мерили от николы до покрова, и день был похож на день, и века не особо разнились. Как заметил некий праведник, в спящем, на дно ушедшем граде Китеже: «Время кончилось. Вечный миг настал».
Снова М. Е. Салтыков-Щедрин:
«С недоумением спрашиваешь себя: как могли жить люди, не имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний и перспектив, кроме мучительного бесправия, бесконечных терзаний поруганного и ниоткуда не защищенного существования? — и, к удивлению, отвечаешь жили, однако же!»
ВЕЧЕРОМ мы отправились с бабкой Маврой в путь-дорогу. Ей понадобилось проведать куму, кума жила на улице Курчатова. А сама бабка — на улице Вавилова. Для нее конец не близкий. Я попросился в попутчики. Дорогой мы о многом успели поговорить. — Я что ни живу, удивляюсь. Восемьдесят один год — все удивляюсь… Больницу новую видел? Внутри такая красота! Нет, я что поха́ю, а что и похвалю… Меня врачи проверяли для жизни. Сказали: «Ничего, живи». Нога вот, ревматизм, — где согреть? Зять сладил скамью у батареи. А все не русская печь… Пожила бы еще — год, два. За два-то годка!.. У Мавры Кузьминичны Семеновой семеро детей, двадцать два внука, девять правнуков. Маленькая, сухонькая, идет мелкими шажками, клонится к земле. А полна интереса к жизни, и память у нее отменная. Вот только говорить на ходу ей трудно, паузы прерывают мысль. — Нас когда первый раз переселяли, я не верила. Волгу!.. Волга разольется, так до самых Кимр. Пароход засвищет — под самыми окнами, славно… Шутошное дело — Волгу загородить! Не рук человеческих… Теперь всему верю. Позади Иванькова — шлюз. Где Федотова рига была — судоремонтный… Польцо тоже, за Глинским ручьем. Там Ленин стоит… Все, как есть, в памяти. Бабка слабо улыбается. Мы идем с ней по иваньковской земле. Асфальтом укрыта земля. — Как же, помню… Мы это место за глухость выбрали. Думали, здесь уж нас никто не тронет. Мой дом крайний, а там бор… Тихо… Выходят пятеро из лесу: «Бабушка, нет ли молока?» Я им и огурчиков подала… Считай, это в начале сентября либо под исход августа. Сели на лавку… «А знаешь, бабка, кто мы?» Нет, мол, не знаю. «На том месте, где твоя изба, город выстроим»… Они лес прохаживали, выбирали местность. Лучше нашей не сыскали… «Выстроим, значит, большущий город — Атомоград». — «Что ж, — говорю им, — очень даже возможно». А что удивляться, когда самое Волгу запрудили и деревня побывала на дне морском? Город так город. И вот через десять лет после первого переселения снова пришли в Иваньково строители, разбили колышками проспекты и скверы, каменные дома поставили, магазины, больницы, школы, лаборатории, каких не знал мир, и вышел город ученых-атомников. Город Дубна. — Со всеми языками живем, господи помилуй!.. У нас за стеной кореи живут. Ничего, справные. Ну, едят полегче, чем мы… Дочка ихняя с моей внучонкой уроки готовит. По-нашему чисто понимают… Мяса вот мало едят, у них рис — первое дело. Угощали меня, я — их… Сверху — поляки. У этих все по расписанию. Летом, значит, спорт, зимой спорт. И все свое рукоделие — из двух палок полка… Еще венгерец. Ничего, уважительный… Не ведала, какие они и есть, другие нации. Однако повидала: хорошие люди. Идет бабка, размышляет вслух. Сосны вытянулись вдоль тротуаров. Только и напоминают, что был здесь некогда бор. Сосны могучие, прямые, они выше улицы, стоят среди шума особняком. Липы — те в городах кажутся ручными, а сосны — они и тут дикие. Хорошо, что строители не тронули их. — Сережку тоже проведаем, — решает вдруг бабка Мавра. — Он мне родня. Мне полдеревни родня… Моего родного брата дочери сынок. Мельников Сергей, не знаешь его? Он эти… частицы гоняет.
О СУДЬБЕ иваньковцев знал и думал Ленин. «Особенно замечательный пример капиталистической мануфактуры представляет знаменитый сапожный промысел села Кимры, Корчевского уезда Тверской губ., и его окрестностей. Промысел этот исконный, существующий с 16-го века». Книгу «Развитие капитализма в России» Ленин писал три года. Начал в тюрьме, думал о ней по пути в ссылку, последнюю точку поставил в Шушенском 30 января 1899 года. Можно считать, что именно тогда, на заре нового века, стронулось с места дремучее иваньковское время, чтобы рвануть затем семимильными шагами. До чего же ясно видел Ленин всю жизнь кимряков! Знал, сколько у них «хозяев», «работников», «мальчиков». Знал, что они трудятся по 14―15 часов в сутки и что «сельские кустари бросают промысел во время сенокоса». Угадал сокровенные мечты многих из них: «…обольщают еще себя всяческими иллюзиями о возможности (посредством крайнего напряжения работы, посредством бережливости и изворотливости) превратиться в самостоятельного хозяина». И видел, точно видел, что капитализм неминуемо покалечит мужиков, и станут они слабогрудыми «кустарями» с непомерно развитыми руками и «односторонней горбатостью». Ленин привел в своей книге рассказ очевидца, жуткий рассказ: один такой кустарь, шесть лет проработав на одном месте, «простоял» босой левой ногой «углубление больше чем в полтолщины половой доски». В начале 1923 года житель деревни Иваньково Гурий Терентьев, потомственный сапожник, большевик с восемнадцатого года и участник гражданской войны, стоял в Кремле на посту № 27. — Слышу отчетливо шаги разводящего и остаюсь один на вверенном посту. Длинный коридор, не особо широкий, горит слабая лампочка. Стою с винтовкой. Сколько времени простоял, не знаю, только вижу: идут по коридору двое мужчин и женщина. Один из мужчин достает пропуск из нагрудного кармана. Я пропуск не смотрю. Вижу лицо Ленина, глаза близко-близко. Вождь всемирного пролетариата!.. Ленин улыбнулся: «Здравствуйте, товарищ». — «Здравствуйте, Владимир Ильич!» Тут он пропуск убрал. Между прочим, всегда показывал. Иные думают, их в лицо должны узнавать. Он одну признавал дисциплину для всех… Ну, пропустил идущих с ним вперед, сам вошел и дверь затворил. А я нажал кнопку: пусть комендатура знает, что Ильич вернулся в свою квартиру. Вот, собственно, и все. Единственная встреча Ленина с жителем деревни Иваньково. Но и тогда, в последний год своей жизни, думал Ильич о судьбе этой деревни, тысяч деревень, и мечтал о времени, когда «мы в состоянии будем пересесть, выражаясь фигурально, с одной лошади на другую, именно, с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой… на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии, электрификации, Волховстроя и т. д.». Не могу избавиться от одной мысли. Ленинское «и т. д.» — право, оно совсем не такое, как у всех у нас. Три эти буквы мы пишем бездумно, они — всего лишь незавершенный перечень. У Ленина — иное. Мне кажется сейчас, что за этим «и т. д.» у него и будущая Иваньковская ГЭС, и вся Большая Волга, и исследования атома, и космические полеты, и, быть может, что-то еще, о чем пока мы и не помышляем. Генерал-лейтенант Гурий Никитич Терентьев, которого я встретил в Дубне, в квартире его отца, бывшего колхозного сторожа, сказал мне еще: — Недавно шел мимо Мавзолея Ленина. Остановился и долго смотрел на часового. Хотелось сказать ему, что я тоже был часовым у Ленина. И нельзя ли мне, хоть на одну смену, снова встать на пост. Я, конечно, ничего не сказал. Но долго еще думал, у кого же спросить разрешение, чтобы меня, как прежде, включили в состав караула. На пост к Ленину.
РАССКАЖУ о самом переселении. О том, как Русь бревенчатая въезжала в каменные дома. Первыми получили квартиру Фетисовы, брат и сестра (родителей у них нет). Вся деревня перебывала у Фетисовых. Дотошно осматривали комнаты, кухню, ванную, прочие места. Спрашивали, что за «кабатура», какова квартплата, сколько за воду, за газ… Молодежи все нравилось. Старухи качали головами: «Как в камне жить? Ни сараюшки, ни птицы. Сверху шум, снизу шум, на улицу выйдешь — голо». Тогда Иваньково еще не мешало стройке. Деревня жила под боком у города, все 54 двора. Потом строители перешли в наступление. Терентьевых переселили. Широковых, Семеновых, Мельниковых, Графовых… Я побывал у многих из них. И в новых квартирах, и в старых домах. Не следует думать, что цивилизация явилась здесь в «дикие места». Я и в избах видел те же телевизоры, приемники, «ФЭДы», книжные полки. Нет, дело обстояло сложней: рушился самый уклад деревенской жизни, менялась первооснова быта. — Вы, мамаша, привыкли дрова на себе таскать, воду носить да брюкву есть с картошкой. А тут в тепле, в покое, колбасу кушаете — и все не по вас. — А тебе просто! В старом дому ровно стены с тобой говорили… Ну что мне за яблоньку сорок рублей! Нешто от нее одни яблоки? От нее тень. А черемуха-то! Что ни дом — своя драма. Какие тут вспыхивали споры, какие застарелые обиды! Какие странные были языковые напластования!.. Один из иваньковцев (он в институте заведует складом) выражался вполне научно: — Человек выходит из предела своей деятельности, так? Я об нем говорю, об Иване. Вот он геолог. Женился на моей сестре, когда рыли канал. И ее увез. Волго-Дон они произвели, так сказать, великую стройку, — верно я говорю, Иван Васильевич? Теперь, значит, репутация его кончилась: вышел на пенсию. И являются они в отчий дом, то есть ко мне: претензия на прописку. А какой это дом? Одна видимость. Его снесут не сегодня-завтра. Иван Васильевич идет на правоту, и я — на правоту. Ежели б дом, другое дело. А как в квартиру их брать? Вот и выходит у нас компромисс с властями. Он хотел сказать: конфликт. Еще один рассказ, я записал его со слов пожилой колхозницы: — Так меня обидели с квартирой, сказать не умею! У меня дом — лучше не было в деревне. Бревна — одно к одному. Свекор еще привез из Селижаровского леса. И меня с покойником мужем оставил на старине. На все Иваньково дом! Уж как я ходила за ним! У меня не обоями оклеено — стены налицо, каждое бревнышко обмыто. Что твой белый платок. И плачет. Скажет слово и плачет. — Дали нам с Шуриком, сыном, двухкомнатную. Удобства удобные, ничего не скажу. Так ведь и Фирсихе такую же дали, а разве ее дом сравнишь с моим? Заднего колидора у ней не было, пристройки не было — вся деревня подтвердит. Конечно, у нее колодец, так и у меня яблони, смородина, крыжовник… Шурик говорит: «Вы, мама, цепляетесь за собственность». А я ему: «Ты, милый, своего добра не наживал, тебе и не жаль. А у меня на все Иваньково дом!..» В семье Григория Дмитриевича Буланова, бывшего председателя иваньковского колхоза «Большевик», свой спор. Он уже обо всем договорился, ему и землю отрезали в соседнем селе, осталось только избу перевезти, а сын ни в какую: «Тятя, не поеду с вами! Я здесь девять лет учился, здесь работаю, а вы меня отрывать?» И дочь в слезы: в городе, вишь, культуры больше… Хозяйка слушала мужнин рассказ и сама вздыхала: «Господи, хоть бы годок еще на старом корню. Молодым что? А мы успеем еще, наплатимся за казенное жилье». Тут пришел с работы зять, веселый, шумный парень: «Скорей бы! Надоело в развалюхе. Ничего, весной обещали снести». А Сергей Мельников — тот самый, который «частицы гоняет», — сказал мне о своей матери, получившей двухкомнатную квартиру: — Мать трудилась весь свой век. Теперь сидит, делать ей нечего. Чем жить?.. Мы говорим: «Отдохни, мать». А она не приучена. Безработно ей, скучно. В последний мой приезд от деревни Иваньково осталось девять домов. Огородов, если не ошибаюсь, всего четыре. И три коровы. (К одной из них, по прозвищу «Доченька», хозяйка бегает с проспекта Мира, где она получила квартиру во втором этаже). Во всякую погоду подходил я к деревне, в памяти унес осенний денек. Висели низкие, серые облака, из них сеял тонкий, долгий дождь. Между каменными громадами жались черные, сиротливые, голые избы. «Сраму-то! — жаловались старухи. — Ровно бы на позор оставлены!» А на улице Курчатова стоял огромный каменный домина, который горожане в шутку называют «Домом колхозника»: в нем уместилось полдеревни. Во всех окнах горел свет: кто-то там готовил уроки, кто-то читал, кто-то слушал музыку… Многоэтажное Иваньково!
КАК-ТО РАЗ вечером Михаил Григорьевич Мещеряков, член-корреспондент Академии наук СССР, работал в Дубне, в своем кабинете. Вбежала дочка: «Папа! Там большая птица!» Во дворе у самого дома бился раненый глухарь. После охотники объяснили, что глухарь, когда его подранят, обязательно летит на то место, где токовал в первый раз… Прилетела птица в глухомань, а там уже город. Одной глухариной жизни не прошло! А рассказано это к тому, чтобы подчеркнуть: судьба деревни Иваньково — случай особый, редкостный. Истории было угодно дважды поставить ее на главных путях страны. Вначале Электрическая Россия пересекла деревню, затем — Россия Атомная. Не всюду увидишь такое. И все же я рискну поискать в судьбе иваньковцев черты, поучительные для всех. Деды были крестьяне и сапожники. До затопления даже паровоза не видел ни один из них. На первую стройку они могли прийти разве что землекопами или грабарями. Отцы, работавшие на Большой Волге и на выросших здесь заводах, были уже токарями, железнодорожниками, крановщиками. Сыновья, когда началось строительство синхрофазотрона, были электриками, механиками, монтажниками. Внуки занялись наукой… И хотя у каждого из них были, по-видимому, какие-то свои, сугубо личные планы, мечты, житейские расчеты, хотя никто не тянул их силком вчера — «в сапожники», сегодня — «в физики», тут действовал некий общий закон, которого они не хотели и не могли преступить. Как сказали бы в старину, судьба их была предопределена. Ту же иваньковскую «цепочку» от дедов к внукам мы можем протянуть совсем по-другому. В старом Иванькове была четырехклассная школа. Когда строилась ГЭС, ребята бегали уже в семилетку. В Дубне, само собой, оканчивают полную среднюю школу. А последние деревенские избы уступят место вузовским корпусам — филиалу Московского университета. — Значит, так… — сказали мне в отделе кадров института. — Местных жителей у нас очень много. Вот братья Семеновы, все четверо, — в экспериментальных мастерских лаборатории ядерных проблем. Братьев Мельниковых вы найдете в лаборатории высоких энергий. Записали? Графов Николай — там же, фотографирует частицы. Студент-заочник. Графова Ирина — там же. Теперь Широковы: Анатолий и Николай — в лаборатории ядерных реакций, Василий и Иван — в лаборатории ядерных проблем. Записали? Еще один Широков, Василий Иванович, — на синхрофазотроне. Широкова Зоя Ивановна — в лаборатории теоретической физики. Записали?..
1961 год.

Письма из Казанского университета
ПРИХОДЯТ студенты. Шумные, тихие, деловитые, рассеянные, робкие, самоуверенные — всякие. И вы пока не знаете их. Вам не угадать, что из кого выйдет. На первом курсе это единая масса.
И есть задача: всех их выучить, вывести в люди. (Ну, разумеется, кроме явного «брака» — неучей, лодырей, которые по недоразумению попали в вуз.) Это главная задача: подготовить тысячи специалистов.
Есть и вторая задача, тоже главная: выделить немногих из них, которые пойдут в науку. Найти эти таланты, уловить, воспитать… Как это делается?
Тут сразу необходимо уточнение: речь идет о людях, способных именно к этому роду деятельности. Потому что талантлив бывает и сталевар, и садовник, и столяр. А людей, лишенных всякого таланта, мало. Может быть, их нет вообще. Есть люди, не нашедшие себя. (Напомню: старорусское «талан» — это удача, доля, а слово «бесталанный» имеет и второй смысл — обездоленный.) Пошел человек в науку, стал бездумным исполнителем чужих затей, а в нем погиб, быть может, великий кулинар или кузнец, который блоху бы подковал… Я собираюсь говорить о поиске научных талантов.
Нет на свете бездарных народов. И зависит все от того, с каким размахом и старанием собирается урожай талантов, зреющих в народе. Широчайшее поле отбора — вот основа наших успехов.
Как же он осуществляется на практике, этот отбор? Всюду ли и всегда мы действуем безошибочно? Какова, так сказать, методика уловления талантов?
В КАЗАНСКОМ университете заметили странную закономерность: самые способные студенты-математики приходили из одной и той же школы. Приходили ежегодно, да не по одному, а по двое, по трое и оставались в аспирантуре, защищали диссертации. Я даже стал постепенно привыкать к тому, что повсюду, на всех кафедрах встречаю этих людей. Рассказывают мне об интересном алгебраисте Альберте Сульдине: он кандидат наук, доцент. «Местный?» — спрашиваю. «Да, окончил нашу вторую школу». Прихожу в вычислительный центр университета, его возглавляет доцент Раис Бухараев, — и он из этой школы. «Вы, случайно, не из второй?» — спрашиваю уже сам у доцента-физика Максута Зарипова. Он удивлен: «А вы откуда знаете?» Через день задаю тот же вопрос талантливому радиофизику Владимиру Сидорову, он улыбается в ответ: «Конечно, из второй!» Случай?.. Один французский математик сказал: у случая бывают капризы, но не привычки. По-видимому, удивительная «привычка» 2-й казанской школы имеет объяснение. Разумеется, учитель. Один умный учитель математики, и ничего больше. «Все мы вышли от Гусарской», — объяснили мне молодые доценты. Им повезло в жизни: их учила Галина Юлиановна Гусарская. Она «странно» учила детей. Откровенно разбивала класс на три категории: эти — слабые, математиками не станут, эти — способные, могут при старании дорасти до отличников, а эти — талантливые, с них спрос особый. И она не таила своих оценок от ребят. «Слабым» говорила, что их талант лежит, видимо, где-то в другой области, и они будут великими филологами или ботаниками. «Но математику вы у меня знать будете!» — добавляла она. И они, бедняги, парились над задачками и не вылезали из троек, но когда разгневанные родители забирали их из «этой ужасной» школы, вдруг оказывались отличниками. «Способным» она давала задачи посложней. А «таланты» вовсе не решали школьных задач, им она закатывала контрольные, над которыми впору было бы задуматься студентам. Весь класс был загружен до предела, все тянулись из последних сил. Потому что Гусарская была справедлива и спрашивала всех… по-разному: слабых — помягче, сильных — построже. От каждого по способностям — таков был принцип. И потому «таланты», которые запросто могли бы щелкать примеры из учебника, тоже изведали у нее пятибалльную систему во всей ее глубине. Десять математиков и физиков-теоретиков, вышедших от Гусарской, работают сейчас в Казанском университете. Десять умных, интересных ученых… Что ж, остановимся мысленно перед домиком старой учительницы на берегу Булака (она уже на пенсии), низко поклонимся ей, поблагодарим за святой ее труд. И спросим себя вслед за тем: а как же остальные казанские школы? (Их в этом городе около сотни.). Видно, они-то упустили за тот же срок по десять талантливых математиков. Разве не так? Школы ведь все одинаковы, и мальчишки в них приходили такие же озорные, смешливые, любящие футбол и не подозревающие о заложенном в них «божьем даре». Можно полагаться на мать-природу. Можно утешать себя знаменитой формулой: «Истинный талант сам пробьет себе дорогу». В школе у нас учатся все, самые способные приходят в вузы, остаются в науке, — происходит своего рода естественный отбор. Чего же еще? А можно, оказывается, и по-другому. Можно помочь природе искусственным отбором. И тут уж непременно возникают такие понятия, как «направленное воспитание» и «роль среды». Я присутствовал в университете на занятиях школьного математического кружка. Профессор Петров читал мальчишкам и девчонкам лекцию о теории относительности. Собралось около пятидесяти ребят. Побросали шубы на задних скамьях, достали тетрадки для записей, слушают. Слушают, как сказку. Смотрю на них и думаю: неужто все им понятно? Два академических часа продолжается лекция. Извинившись перед слушателями, профессор закуривает. Нет ли вопросов у товарищей? Чубатый товарищ тянет по-школьному руку: у него вопрос. Вот по теории выходит, что при скорости света длина тела равна нулю. Значит, тела нет. Куда же, в таком случае, девается материя, если достигнет скорости света? После Алексей Зиновьевич Петров признался мне, что он неточно рассчитал уровень аудитории. Слишком элементарно читал. А им, оказалось, формулы нужны. Экие заковыристые вопросы! Чтоб такое спрашивать, надо уже кое-что соображать. Это вопросы студентов третьего курса… Я начал было восторгаться способностями этих обыкновенных школьников, но профессор перебил меня: — Зачем же обыкновенных? Это отборные, лучшие. Лучшие математики из ста казанских школ. Отборные — суть в этом слове. Их отбирали — активно, умно, «с заранее обдуманным намерением». Когда здесь приметили 2-ю школу, заведующий кафедрой алгебры профессор Морозов просто-напросто отправился к Гусарской (кстати сказать, она сама у него училась). И стал частым гостем в школе, и сидел на экзаменах, там еще приглядываясь к своим будущим студентам. Не и это не все. Университет признал свою позицию пассивной. Он целиком зависел от школ, от школьных учителей, а Гусарская, как-никак, была скорее исключением, чем правилом. Надо было перестроить работу. Не ждать, пока желающие явятся в университет (одного желания заняться наукой мало), а идти навстречу талантам. Профессора университета решили создать у себя своеобразный фонд одаренных физиков и математиков, или, как они говорили, «задел». И года два назад отправили в школы Казани, во все школы, своих доцентов, аспирантов, студентов-дипломников. В результате были отобраны по одному, по двое ребят из каждой школы. Их-то, этих отобранных, отборных, я и видел на лекции. А иных не видел — они переросли школьный кружок. Аспирант Новоселов открыл в одной из школ редкостный талант. Талант звали Димой, он учился в седьмом классе и мечтал стать чемпионом по боксу. Кроме того, ему нравилась математика. Аспирант взял над талантом шефство. К девятому классу мальчик Дима закончил изучение римановой геометрии и тензорного анализа. Это «проходят» студенты пятого курса. Иными словами, девятиклассник освоил курс высшей математики в объеме университета. Впрочем, как мне сказали, секцию бокса он тоже посещал исправно.
НЕСКОЛЬКО недоуменных вопросов. Почему именно математики и физики столь усердно занялись поисками талантов? Видимо, неважно у них обстоят дела… Нет, представьте. Дела идут хорошо. Вот справка отдела кадров, которая весьма точно рисует жизнь двух факультетов — физико-математического и биологического. Средний возраст профессора у физиков — 51 год, у биологов — 62 года; доцента (соответственно) — 41 и 53 года; ассистента — 32 и 42 года. Физики на десять лет моложе. Биологам остается одно лишь слабое утешение: они, как заметил один из физиков, «почему-то дольше живут». Мало способной молодежи и у химиков. Дают им сейчас шесть аспирантских мест (надо развивать большую химию), а они в растерянности: некого брать. Так мне и сказал академик Борис Александрович Арбузов: «Выбирать не из кого». Плохо растет молодежь и на географическом факультете, и на историко-филологическом… Казалось бы, они-то должны из кожи лезть, выискивая способных ребят. Но нет этого. Почему? Говорят о преимущественном развитии физики и математики, о том, что в своем стремительном движении они обошли другие науки, что таков уж наш век… Все это верно. Биологи, географы, филологи не запустили еще своего «спутника». Но тем больше у них оснований задуматься о своем будущем. Говорят, что физика и математика притягивают в наш век молодежь. Видимо, и это верно. Изменился самый облик математика. Сегодня это не оторванный от жизни чудак, не хилый книжник. Увлечение боксом мальчика Димы весьма характерно. Наиболее активные, способные, смелые ребята сами тянутся сегодня в стан «физиков» подобно тому, как мечтали некогда о географических открытиях, как шли два десятка лет назад в авиацию, а потом в чистую инженерию… Но какой вывод из этого должны сделать «лирики»? С тем большим рвением, упорством, страстью должны они выискивать и тянуть в свой стан талантливых людей. Говорят о раннем проявлении математических способностей. Мне и в Казани не забыли сообщить об Эваристе Галуа, который погиб на дуэли в 21 год, но успел навеки прославить свое имя. Однако, позволю себе заметить, и Лермонтов погиб молодым, и Добролюбов не дожил до седин. И если не ходить далеко за примерами, здесь же, в Казанском университете был избран профессором химии 23-летний Бутлеров… Но пусть так, пусть математический талант раскрывается легче и раньше. Тем больше, повторю я, оснований у представителей других наук браться за поиски своих талантов. Когда я смотрел на школьников, слушавших лекцию о теории Альберта Эйнштейна, одна мысль не выходила у меня из головы: неужели же эти отвлеченнейшие понятия проще для детского ума, чем география, зоология или, скажем, литература? Нет, тут что-то не так.
Скажи мне, кто твой учитель
ГОВОРЯТ, лучший способ научить человека плавать — бросить его в реку. Побарахтается и поплывет. Некоторые опасаются: а вдруг утонет? Надо все-таки сперва научить, потом бросать. Тут есть резон, но уж во всяком случае никто еще не стал пловцом с помощью лекций о саженках и баттерфляе. Отсюда первый мой тезис: чтобы втянуть студента в науку, надо, как минимум, его в науку втягивать. Жизнь сложна, примеров разного рода множество, я возьму два из них. Они находятся как бы на противоположных полюсах, и потому все остальные уместятся меж ними. Первый пример — история проблемной радиоастрономической лаборатории университета. Костылеву нужны были помощники. Просто он затеял сложные исследования и понял, что в одиночку ничего не добьется. Весной 1954 года Костылев выписал со склада старый военный радиолокатор, перевез его к себе в обсерваторию, смонтировал, отладил и начал наблюдения. Надо было следить, не отрываясь, за экраном, снимать показания хронометра, вести записи — у него не хватало рук. Тогда Костылев позвал двух своих дочек, школьниц. Когда на экране появлялся сигнал, он кричал: «Метеор!» Девочки записывали время. Он диктовал им расстояние: «Сто тысяч метров… Сто двадцать тысяч…» И снова кричал: «Метеор!» Было лето, стояла жара, у девочек начались каникулы, и им, понятно, надоели эти бдения. Они убежали, и Костылеву пришлось искать других помощников. Он взял студентов. Так это началось. Первыми серьезными исследователями стали выпускники университета Юрий Пупышев, астроном, и Владимир Сидоров, радиофизик (он учился у Гусарской). Костылев приметил их еще на третьем курсе. Втроем они взялись проектировать первую метеорную станцию «КГУ-М1». Я многое мог бы рассказать о ней, но это, как говорится, выходит за рамки данного исследования. Скажу лишь, что станция позволяла сосчитать метеоры, выяснить значение «метеорной опасности» и т. д. Когда станция заработала, когда заскрипели в стеклянных клетках самописцы и запищали в наушниках сгорающие метеоры, Костылев вывел динамик на свой рабочий стол. И слушал голоса падающих звезд, — ему это не мешало работать. По утрам говорил помощникам, щуря добрые, карие, широко расставленные глаза: — Такой был случай… Один метеор жа-а-алобно пискнул… Первый раз такая интонация! Но я иду дальше, минуя десятки забавных подробностей, — иду дальше, к главному, самому интересному. При мне в Казани заканчивался монтаж новой комплексной метеорной станции «КГУ-М2». Основа станции — десять уникальных радиоэлектронных блоков. Это — десять студенческих работ. Год за годом брал Костылев студентов: ему — помощь, им — ученье. В лаборатории защищено уже 32 дипломных и 46 курсовых работ. Дальнейшее просто: лучшие из студенческих проектов шли в дело, лучшие из студентов становились учеными. Таков конец истории. Маленький домик, связанный с миром, со Вселенной путаницей проводов и антенн, жил своей жизнью. Работали научные сотрудники, инженеры, лаборанты, аспиранты, техники — давно уже прошло время, когда Костылев искал помощников. Но студентов здесь все равно было много. И я вдруг заметил, что мне трудно отличить этих ребят от «полноправных» сотрудников. Может, дело было в том, что все здесь ходили в одинаковых синих халатах, может, и в том, что по возрасту научные руководители недалеко ушли от своих подопечных. Но потом я понял: все — от начальника лаборатории до второкурсника, делающего свой первый простейший расчет, — были искателями, все думали.И ВОТ я вижу другой склад дипломов — пыльный шкаф, в котором навалом сложены пыльные папки. Господи, сколько их! Мне говорят, что тут собраны дипломные работы за многие годы. Собраны и лежат. — Зачем вы пишете диплом? — спрашиваю у студентки. — Как зачем? Чтобы получить диплом. Какая великолепная ясность! — Мы будем преподавателями литературы, — поясняет другая девушка. — Мы вовсе не собираемся подавать в аспирантуру. И я в растерянности. А обязательно ли студенту заниматься наукой? Этот вопрос, который мне и в голову не приходило задавать физикам, тут вдруг перестает казаться нелепым. Может, и в самом деле не обязательно. Но потом я вспоминаю, что и Костылев оставляет в аспирантуре далеко не всех, от силы десятую часть студентов. Однако путь исканий, пройденный в лаборатории, всем им на пользу. Не зря говорят, что из дипломников Костылева выходят отличные инженеры. А кто сказал, что учитель не должен творчески мыслить? Университет ведет своего воспитанника двумя путями. Один — элементарное, старое, как мир, усвоение знаний. Слушай лекции, читай учебники, зубри формулы, даты (иногда и это необходимо), сдавай экзамены. Потому что, будь ты даже безмерно талантлив, без знания фактов, добытых предшественниками, ты ни на шаг не продвинешься вперед. Факты — воздух науки. Но одного воздуха для полета мало. Нужны еще крылья. Ставь опыты, читай первоисточники, пиши курсовую работу, делай доклад на семинаре, учись спорить, защищать свое мнение, — совсем не случайное слово: «защита» диплома. Без этого, будь ты даже образцом памятливости и прилежания, останешься зубрилой-мучеником до конца своих дней. Так и шагают студенты к высотам знаний по двум стежкам двумя ногами. А на одной ноге далеко не ускачешь… Приняв эту рабочую гипотезу, я попробую, как принято в науке, подтвердить ее данными наблюдений. Факт первый: в прошлом году один студент-филолог списал дипломную работу. Просто сдул от точки до точки с работы, писанной лет пять назад. Нечестность — не лучшее качество, особенно для будущего учителя. Но меня интересует другое. У физиков диплом пятилетней давности просто устарел бы, а тут, выходит, и проблематика та же, и материал, и истолкование его, и методология… «Да, конечно, — соглашаются филологи, — но вы не учитываете специфики нашей науки». Возразить мне нечего, и потому я перехожу ко второму факту. На кафедре литературы происходит распределение дипломных работ. Каждый преподаватель пишет список тем, которые он желает и может вести. Студенты разбирают темы. Выясняется, что к профессору, читающему курс русской литературы XIX века, записались всего два студента, к доценту, занятому творчеством Ромена Роллана, — один, а к специалисту по современной советской литературе — восемь человек… Пока, до этого момента, все идет, как у физиков: острые проблемы и у них притягивают большее число студентов. Но слушайте, что происходит дальше. Ввиду явной неравномерности «почасовой нагрузки» ученые-филологи перераспределяют студентов. Независимо от их интересов, независимо от занятий самих учителей. Разве так делается наука? У физиков… «Полно вам! — говорят мне, — Опять вы о физиках. У нас другая специфика». Факт третий. В кабинете истории я нахожу брошюру «О курсовых работах». Отсюда казанские историки должны черпать темы для студенческих исследований. Вот, скажем, работы первого курса: тема № 3 — «Владимир Мономах по „Повести временных лет“»; тема № 29 — «Полтавская битва», тема № 34 — «Жалованные грамоты Екатерины II дворянству и городам» и т. д. Эти нетленные проблемы жуются и пережевываются бесчисленными поколениями студентов. Правильно ли это? Мне возражают: а где взять новые темы? Это ведь история, наука о прошлом. Конечно, они будут изучать Полтаву, и Екатерину, и Мономаха… Специфика! Чувствуя всю неполноту своего образования, я продолжаю читать брошюру: «Так как в науке не принято приписывать себе достижения других, все положения работы должны подтверждаться ссылками на источники и литературу». Заметьте: все положения. Ученым-рекомендателям и в голову не приходит, что студент может сказать нечто оригинальное, свое, ссылками не подтвержденное. «…Всегда следует помнить, что цитатами не пишут. Весь описательный материал подлежит авторской творческой переработке (не искажающей сути дела) и самостоятельному изложению. Прямое заимствование чужого текста (плагиат) не допускается». Вот он, оказывается, единственный грех студента, который списал диплом. Он допустил «прямое» заимствование. А надо бы не прямое. Надо это делать элегантно. Не из одной работы списывать, а из нескольких, не просто сдувать, а «творчески». И последняя рекомендация: «…В порядке исключения (!) студенты могут избрать тему курсовой работы, не указанную в прилагаемом списке, предварительно согласовав ее с кафедрой». Все. Теперь я готов к разговору о «специфике». Можно ли в десятый, в сотый раз поручать студенту-историку исследование о киевском князе, о египетских фараонах, о наидревнейших неандертальцах? Конечно, можно. Так же, как студенту-словеснику полезно в тысячу первый раз исследовать язык Пушкина в «Станционном смотрителе». Но только при одном условии: пусть это действительно будет исследование. Наивное, незрелое, маленькое, совсем микроскопическое, но обязательно свое. Ибо не вырастет ученый из юноши, который не только не открывает нового (это не всем дано), но даже цели такой перед собою не ставит. Что из этого получается, я могу показать на примере (это уж будет факт четвертый). Недавно Казанский университет проводил Всесоюзный конкурс на лучшую студенческую научную работу по истории. Первую премию присудили одному белорусскому студенту, были отмечены исследования, присланные из других республик и городов. В их числе не было ни одной работы казанских студентов… Ну скажите: при чем тут «специфика»? Она, видимо, есть, но сказывается в другом. Физикам повезло: им позарез нужны помощники. Вот и складываются у профессора со студентами естественные, древние, мудрые взаимоотношения: он — мастер, они — подмастерья. А гуманитариям Казани помощники не нужны. Понимаете? Не нужны. Ученые у них работают сами по себе, студенты сами по себе. Наука оторвана от обучения. Потому-то оригинальное исследование и может появиться у них лишь «в порядке исключения». Но специфика тут все-таки ни при чем. Позволю себе высказать «еретическую» мысль: помощники нужны каждому настоящему ученому, независимо от того, в какой области науки он трудится.
«КТО ВАШ учитель?» — я многим в Казани задавал этот вопрос. И, странное дело, студенты-физики почти всегда отвечали точно: «Доцент Костылев», или: «Профессор Норден», или: «Профессор Тумашев». А студенты-гуманитарии чаще всего давали уклончивый ответ: «Я, знаете ли, учусь на истфилфаке», или: «Я оканчиваю Казанский университет…» Объективности ради замечу, что у казанских гуманитариев далеко не все плохо, как не все лучезарно и у казанских физиков. Есть на «истфилфаке» и дельные ученые, студенты у них роются в архивах, ездят в экспедиции, ведут картотеку — словом, познают технологию дела (а она, разумеется, есть, ибо это наука, точная наука, а не болтовня). Но все это, увы, исключения. Я смотрю перспективный научный план кафедры литературы. Разные ученые, разные исследования, но срок выполнения работ почти у всех один — пять лет. Очевидно потому, что дальше некуда. «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как нибудь», — почти все доценты по нескольку раз меняли темы своих диссертаций. Среди них нет, как сказали мне, ни одного «перспективного», то есть такого, от которого в ближайшие годы можно ждать докторской… В чем же дело? У меня нет намерения прорабатывать их. Они не жалеют себя, они очень старательны, они по-своему трудолюбивы. Но судьбы этих людей наводят на грустные раздумья. Беда-то вся в том, что их неверно вели в науку. Вели так же, как они сами… ведут теперь студентов. Я закончу письмо утверждением, столь же мало оригинальным, сколь и тезис, с которого я начал: ученый, желающий втянуть студентов в науку, должен, как минимум, сам заниматься наукой.
Древу — расти
ВСЕ ТАЛАНТЫ да таланты. Но что же делать людям, не наделенным способностью к науке? Пусть не идут в науку. Право, тут нет ничего обидного. Если у юноши плохое зрение, его не возьмут в авиацию. Если нет голоса у девушки, она не пойдет проситься в солистки Большого театра. Конечно, эти случаи попроще. С обнаружением научных способностей дело обстоит сложней. Но, честное слово, и тут не так уж трудно распознать талант. Во всяком случае, отсутствие такового определяется в вузе с достаточной степенью точности. Один казанский профессор, крупный ученый, третий год не берет аспирантов. «Не было талантливых», — говорит он. Я думаю, профессор прав. Нельзя тянуть в науку бесталанных людей. Это плохо для науки, плохо и для них самих. Ведь сколько бы ни бился такой человек, рано или поздно выяснится, что ученый из него не вышел. То есть, оно бы еще ничего, если не вышел. Вышел! Студенты его слушают, коллеги с ним раскланиваются, соседи по лестничной клетке его уважают. В доценты вышел, как же не ученый? Ох, как непросто все это! Хочу, чтобы меня верно поняли: не о ловкачах речь, не о жуликах и проходимцах — с ними все ясно, да и писано о них немало. А этот действительно беспорочен. Трудолюбив, старателен, даже неглуп. Но трудолюбие его — без озарений, прилежание — без смелости, упорство — без высокой цели, а что до ума, то тут, как говорил Ф. М. Достоевский, «ум есть, но без своих идей». Как судить такого человека? Я встречал в Казанском университете разных ученых. Есть там талантливые теоретики, есть и талантливые экспериментаторы, есть блистательные педагоги, которые интересно, творчески ведут преподавание, есть лаборанты, главный подвиг которых — кропотливая точность (это тоже своего рода талант), есть, наконец, замечательные умельцы-мастера, в руках которых оборудование лабораторий. Все вместе они и составляют коллектив. Но есть там и такие ученые, которые не отмечены ни одним из перечисленных талантов. Польза, приносимая ими, даже если есть она, стократ перекрывается вредом, который есть непременно. Они вредны прежде всего тем, что занимают место, которое могли бы занять способные люди. Они особенно вредны в роли наставников молодежи, потому что с превеликим тщанием плодят себе подобных. И уж воистину страшна самодовольная посредственность, когда займет в науке хоть какой-то пост. Рядом с талантом ей делать нечего, талант ей страшен. И, узрев в толпе студентов мальчишку, который думает, ищет, мечтает, она, посредственность, все силы положит на то, чтобы предерзкого остановить.КАКмне начать разговор о биологах Казани?.. Я в растерянности. Судя по всему, дела у них идут превосходно. Кафедры, все до единой, возглавлены профессорами, заполнены и все вакансии доцентов, ассистентов, лаборантов, препараторов — полное кадровое благополучие. Но… средний возраст профессора здесь — 62 года, а смены, в сущности, нет. С этого, видно, и надо начинать. Откуда вообще берутся профессора? Из числа молодых, энергичных доцентов. А те откуда? Из числа еще более молодых и энергичных ассистентов, аспирантов, младших научных сотрудников. Но что прикажете делать, если здесь в «младших» ходят люди весьма почтенные? Если иным ассистентам уже за пятьдесят? Если есть доценты, отметившие свое шестидесятилетие? И если «среднее звено» биологов почти в полном составе подошло к пенсионному возрасту. Это грустный разговор и, быть может, несколько… излишне откровенный, но, я надеюсь, читатель простит мне «грубость», когда прочтет письмо до конца. Потому что, если нам нужна эта наука, если мы хотим по-настоящему развивать биологию, тут нужен прямой разговор. Места-то на факультете заняты! Вот, скажем, лет пять назад окончил университет Владимир Бойко, способный человек. Его не взяли на кафедру зоологии беспозвоночных — не было «единиц». И он ушел и опубликовал за это время восемнадцать научных работ — больше, чем напечатал их за тридцать лет один из самых уважаемых доцентов той же кафедры. Нужны ли еще примеры? Думаю, никто не возьмется утверждать, что среди сотен студентов, выпущенных университетом, не нашлось десятка талантливых биологов. Но их не искали, они не приживались здесь. А те, кто прижился, каковы они? Не так давно профбюро факультета проверяло деятельность ассистентов (тоже, увы, не сильно молодых). И выяснилось, что почти все они либо вовсе не имеют печатных работ, либо, в лучшем случае, числят за собой одну-две небольшие статейки. Ясное дело, на таком «фоне» доцент, который может выложить дюжину статей, чувствует себя почти академиком. И когда на ассистентское место «посягнул» молодой кандидат наук Евгений Любарский, доценты восстали с редкостным единодушием. Сказать-то против него им было нечего, и потому на конкурсной комиссии все открыто и честно голосовали «за». Но вслед за тем перешли в другую комнату, стали ученым советом и там тайным голосованием завалили его. Что ж, я думаю, престарелые доценты по-своему правы: им не следует пускать в свою среду молодежь. Был у них опыт, взяли одного — хлебнули, как говорится, горя. Главное, казался поначалу таким приличным молодым человеком. Тоже кандидат, биофизик — Игорь Тарчевский. Думали, будет тихонько сидеть в своей лаборатории. А он что затеял? Организовал научный кружок, потянул к себе чуть ли не всех студентов, до конкурса дело дошло. Завел какие-то комплексные работы, начал отчеты печатать в журналах, да еще за подписями студентов. Потом критиковать взялся солидных людей. Мол, и тематика у научных сотрудников мелка, и методика устарела, и техника исследований на уровне XVII века. Для него вообще нет ничего святого. Берет, к примеру, старый, проверенный метод изучения миграций комаров. Надо, как известно, отловить комаров, побольше отловить, несколько тысяч, окрасить их «метиленкой», выпустить, а после снова ловить. Так он, этот юнец, заявил, что-де стыдно в наш век заниматься этакими пустяками. Просто, говорит, в водоем, где выводятся личинки, надо вылить радиоактивный фосфор. Потом комары разлетятся, а вы будете ходить со счетчиком Гейгера и определять, куда они полетели. «…Ты стараешься не забыть того, чему тебя учили, а там — хвать! — оказывается, что все это вздор, и тебе говорят, что путные люди этакими пустяками больше не занимаются и что ты, мол, отсталый колпак. Что делать! Видно, молодежь точно умнее нас». Это монолог Павла Петровича Кирсанова, которого тяжко обидел Базаров. Отцы и дети — вечная проблема… Что и говорить, обидно увидеть дерзкого юнца, который только явился сюда, а уж обошел тебя, и мыслит смелее, и делает больше. Но дело тут вовсе не в том, что «отцы» старше «детей». Я познакомился в Казани с профессором Ливановым, который работает на этом факультете шестьдесят лет. («Один у меня был перерыв, — рассказывал он. — В 1913 году. Был тогда — вы, верно, помните, — министр Кассо. И я, в знак протеста против политики Кассо, подал в отставку»). Так вот дай, как говорится, бог «среднему звену» работать в науке с тою же душевной отвагой, с какой трудится Николай Александрович Ливанов. Нет, дело тут не в возрасте, не в одном возрасте.
— ПРИХОДЯТ ко мне биологи, — рассказывает ректор Михаил Тихонович Нужин, — просят: «Дайте оборудование». Дайте, дайте! А я говорю им: «Дайте мысль. Под мысль дам лабораторию». Что? И вам жаловались на меня?.. Вот географы наши тоже шумели, что ректорат их не поддерживает. Ладно, говорю, приходите. С месяц они думали, составляли сметы. Наконец, приходят, просят всего-навсего восемнадцать тысяч. Шкафы хотят купить, дальше этого не зашли в своих мечтаниях. Ну, я их выгнал. Не знают, что просить! Вот пришла ко мне наш микробиолог Беляева со своими замыслами. Вижу: идеи стоящие, проблема гигантская — злокачественные опухоли. Просит на лабораторию двести тысяч. Посидели мы с ней — довели до полумиллиона. А в темноту я деньги валить не буду, пусть и не просят. Настоящий ученый, ректор видит все беды биолого-почвенного факультета. И лаборатории оснащает постепенно новыми приборами. Но не зря говорят здесь, что главный прибор в научной работе — голова ученого. Можно установить за неделю сложный аппарат, можно и лабораторию оборудовать, — людей не вырастишь за такой срок. Мешают обычаи, мешает пресловутая «академическая вежливость», мешают сами престарелые доценты и ассистенты — их большинство, они и делают погоду. Странной жизнью живет биолого-почвенный факультет. Здесь проводятся в положенные сроки конкурсы на замещение всех должностей, но, по признанию декана, посторонние ученые в конкурсах не участвуют: «Знают, что у нас свои есть люди, и не подают. За все годы не было еще такого случая…». Здесь не бывает семинаров, которые вошли в обычай на всех других факультетах. Будто спорить биологам не о чем, будто все вопросы в этой науке решены раз и навсегда. Год назад задумали провести научную конференцию, посвященную 100-летию книги Дарвина «Происхождение видов». Посланы были приглашения в другие города, предлагалось «не позднее 15 октября» прислать тезисы докладов, и пришли тезисы — из Москвы, Киева, Ижевска, Калинина. Но тут вдруг спохватились казанские биологи. — Видите ли… — объяснил мне один из устроителей конференции. — Мы пришли к выводу, что у себя не можем проводить работу во всесоюзном масштабе. Ибо у нас исследования по дарвинизму специально не ведутся. Другие города представили доклады, а наших — нет. Понимаете? Мы бы плохо выглядели. Побоялись показать свою отсталость. И отложили конференцию на февраль, потом на апрель, столетний юбилей миновал, перед учеными пришлось извиняться… Такова среда, в которой должны произрастать юные биологические дарования. Чего же удивляться, что плохо они растут в Казани?[1] Год назад будто и проклюнулось три таланта. Университет окончили трое парней, по общему признанию — самые способные из всего выпуска. Чуть ли не с первого курса они работали в научных кружках. Комсомольцы, целинники, общественники. Двое из них и дипломы получили с отличием. Их-то… и не взяли в аспирантуру. Не вдаваясь в существо научной дискуссии, которую затеяли эти ребята, скажу о том, что поразило меня: их ругали как раз за то, за что хвалят студентов-физиков. Оказывается, они слишком много читали «посторонней» научной литературы, советской и зарубежной. Оказывается, они более всего интересовались вопросами сложными, спорными, наукой не решенными. И последний тяжкий грех: по всем вопросам они старались выработать свое суждение. Словом, как сказала главная их гонительница, ассистент без степени: — Люди они вообще-то были способные. Но какие-то нескромные. Много думали о себе. Спорят все, шумят… Из таких, знаете, которые много на себя берут. Ученые-физики, позволю я себе заметить, как раз и ценят студентов, которые «много на себя берут». Что же касается ученых-биологов, то они, разумеется, победили строптивых юнцов. Спросил недавно у студентов профессор Марков: «Кто читал что-либо, кроме учебников?» — одна робкая рука поднялась.
* * *
В деканате я видел «древо» казанских биологических школ. На доске, обтянутой зеленым репсом, нарисована вся генеалогия факультета. Подойдешь, глянешь — и все тебе ясно. Внизу, в центре, — тонко улыбающийся Карл Федорович Фукс. О нем писал С. Т. Аксаков, в университете он с 1805 года ведал «кабинетом естественной истории и редкостей». Из этого кабинета и вырастают могучие ветви казанских школ — зоологов, почвоведов, физиологов. Здесь портреты А. О. Ковалевского, А. Я. Гордягина, А. Ф. Самойлова… Но вот «древо» дорастает до наших дней, и тут уж я ничего не могу понять. Кто у кого учился, кто кого учил? Отбор, который проводила сама история, выделяя выдающихся, славных, кончился. Говорят, дошло дело до жалоб в местком: «Почему такую-то наклеили, а меня нет? Чем я хуже?» Доцентов много, места для «веточек» нет, посему они теснятся толпой, расталкивают друг друга локтями. А выше — доска кончается, так что вроде бы и расти дальше науке некуда. С настоящими деревьями это тоже случается. Но тогда приходит умный садовник и срезает бесплодные ветви. Дерево растет после этого лучше.1960 год.

Крушение карьеры
В НАЧАЛЕ я расскажу вам о плохом председателе райисполкома. Потом — о хорошем директоре совхоза.
Председателя «бросали» из одного района в другой, а он все не справлялся, не справлялся, и районы у него были отстающие, колхозы срывали сев, совхозы уборку, и его критиковали, критиковали и, наконец, сняли.
Между тем директор, о котором пойдет у нас речь, с самого начала был на хорошем счету. И его постоянно хвалили на совещаниях и в печати. Его хвалили и ставили в пример другим директорам, потому что и впрямь он был руководитель опытный и знающий.
Тут самое время будет сообщить вам, что разговор-то идет об одном и том же человеке. Он был вполне плохим — он стал вполне хорошим. И произошло это с ним в том возрасте, когда люди меняются трудно… Я не верю в мгновенные «перевоспитания» взрослых дядей. Потому и причину чудодейственного превращения буду искать отнюдь не в области психологии.
…Кучерова сняли поздней осенью, после уборочной. В разгар работ это не делается, разве уж очень громкое дело. А его сняли тихо. Даже и не сняли — освободили. И он на сорок шестом году своей жизни вдруг оказался свободен.
Кучеров вставал по привычке в семь утра. Надо было куда-то спешить. Жена топила печь, старалась не шуметь. Дети ходили притихшие. Это его злило. Если шумели, он тоже злился. Угрюмо и молча ел, уходил из дому. А спешить было некуда.
Все еще шел дождь, и небо висело такое серое, набухшее, влажное, что казалось, ткни рукой в любое место его, и хлынут потоки воды, как с брезента намокшей палатки. Кучеров шел по улице и снова думал о том, что, не будь дождя, сдали бы хлеб и он, как прежде, сидел бы в своем кабинете.
Встречные все узнавали его, многие с ним здоровались. Он глаз не прятал и ловил взгляды порой сочувственные, порой ехидные, чаще равнодушные. «Был ты, нет тебя, — читалось в них, — нам все едино…» Опять он заходил в райисполком, а после всякий раз ругал себя за это. И не в том дело, что были там обиженные, которым он когда-то чего-то не дал, или завистники, которые его провал считали возмещением за собственные беды. И даже не в том, что за «освобождение» его голосовали все единогласно. Просто он был здесь не нужен, вот и все.
Кучеров шел в библиотеку, полдня рылся в книгах — это помогало. Но даже «Фрегат „Паллада“» Гончарова возвращал его все к тем же мыслям: так бывает, когда человек долго думает «в одну точку». Оказывается, сто лет назад в Японии губернаторы головой отвечали за все происходящее в их провинциях — за тайфуны, землетрясения, дожди. Кучеров усмехался, откладывая книгу.
Вдруг говорил жене (она заведовала библиотекой): «Знаешь, Настя, я думал, страшней будет. Думал, так будет страшно! А вот живем…» Она соглашалась: конечно, проживем как-нибудь. У нее заработная плата, да ему положены отпускные, два года не отдыхал, — на первое время хватит. «Ну что мы жили? — говорил он. — Бился, ночей не спал, а толку? Думал я когда о себе?.. Выгнали!» Она утешала: плохого за ним нет, преступлений не совершал, других разве так снимали? «Обидно мне, Настя! Ну какая корысть в высоком посту? Крутишься, носишься, волнуешься… И трудно устоять наверху, и нет пути назад, кроме падения». Она кивала головой: конечно, он не хозяин был времени своему, детей и тех видел редко. «Хватит, Настя, будем жить для себя. Найду работу полегче, вот звали же меня на спиртозавод, и оклад прежний…» А на душе у него было подло. Впоследствии он так и сказал мне в откровенной беседе:
— Подло было на душе у меня. Вроде бы «отомщу» кому-то, а кому?
Три месяца прожил Кучеров в старом райцентре. Человека оставили наедине с самим собой: он наново решал свою жизнь. Иногда шел по шоссе к колхозу «Красная звезда», долго стоял на поле. И вдруг ловил себя на такой мысли: с чего тут начинать, если пошлют председателем?.. Нет-нет, ни за что! Раз обжегся на сельском хозяйстве, так поди оно к черту.
Вдоль шоссе стояли старые, дуплистые ракиты. Почему-то они росли не прямо, а вкось. Будто качнулись в стороны от шумной дороги, совсем бы убежали в чистое поле, да нельзя — корни держат. А расти надо. Вот и полезли ракиты не вверх, а вбок.
ПЕРЕДО МНОЙ «Личное дело» тов. Кучерова Антона Григорьевича. Вот он и сам на фотографии — худой, скуластый, усатый, в полувоенном кителе. Это давний снимок. А вот и самый последний: лицо раздобрело, седая прядь в волосах, усы сбриты, вместо кителя пиджак и галстук. Между двумя фотографиями в казенной папке спрессована жизнь человека. Из крестьян, русский, образование среднетехническое, воевал, был ранен, женат, четверо детей. С девяти лет пионер, с шестнадцати — комсомолец, с двадцати шести — член партии. Не состоял, не привлекался… И есть в этой папке документы, говорящие о его деятельности. Полагаю за лучшее — просто-напросто показать их вам. Хочу, чтоб вы заглянули в «Личное дело», поняли, как это все выглядит.
«…Тов. Кучерову, председателю Касплянского районного Совета депутатов трудящихся, указать на неудовлетворительное руководство весенним севом». «За безответственное отношение к лесозаготовкам, за непринятие мер к усилению лесозаготовок тов. Кучерову А. Г. объявить строгий выговор». «Признать работу исполкома районного Совета и его председателя тов. Кучерова неудовлетворительной. Постоянные комиссии районного и сельских Советов не работают. Контроль за исполнением своих решений не организован. Работа с жалобами трудящихся и личный прием граждан поставлены плохо». «Слушали: заявление тов. Кучерова о том, что он просит снять с него строгий выговор, так как план лесозаготовок в 1948 году районом выполнен. Постановили: строгий выговор с тов. Кучерова А. Г. снять». «Предупредить А. Г. Кучерова, что, если он в ближайшие дни не примет решительных мер к выполнению плана лесозаготовок за 1949 год, он будет привлечен к ответственности». «…Учитывая также, что он имеет большой опыт руководящей работы, командировать Кучерова А. Г. в двухгодичную партийную школу». «В связи с выбытием председателя Семлевского райисполкома тов. Федорова С. X. на учебу в двухгодичную партийную школу рекомендовать председателем Семлевского райисполкома тов. Кучерова А. Г.» «…Екимовический район (председатель райисполкома тов. Кучеров) занял по поставкам льноволокна 35-е место. По надою молока — 36-е место. По сдаче свинины — 38-е место, последнее в Смоленской области».В «личных делах» нет, как видите, ничего личного. Мы не найдем в этой папке «данных» о щепетильной честности Кучерова, о любви его к детям, о том, что всегда он был скромен в быту. Когда случались очереди в магазине, жена Кучерова стояла вместе с другими женщинами. Иной раз так хотелось «достать» какое-нибудь пальто или платье для дочки, и в раймаге предлагали: отложим, мол, самое остродефицитное… — Что вы! — объяснила она мне. — Разве Антон позволит? Из дому бы выгнал. Если о характере его говорить, одно выйдет плохое: тяжел, резок, вспыльчив. Я, бывало, плакала из-за него… Но уж когда сняли Антона, мне трудно не было. Ни разу ни от кого не слышала дурного слова. В Смоленске мне рассказали об одном деятеле областного масштаба. Когда его сняли с поста, он полгода прятался в своей квартире. Сам усадил себя под домашний арест. В театр не ходил, в трамвае не ездил — стыдился своего «рядового» обличия. Сидел как сыч, собственной супруге робел посмотреть в глаза. А Кучеров глаз от людей не прятал. И все же он не справлялся с работой, от этого не уйдешь… Говорят, районы выпадали Кучерову «тяжелые» и «гиблые». Это могло, конечно, ускорить развязку, но над совхозом «Лонница», куда поехал он (сам, по своей воле), висело такое же мокрое небо, совхоз считался самым что ни на есть гиблым, а нынче стал одним из лучших на Смоленщине. Каковы же причины крушения Кучерова и столь быстрого его взлета?
В «ЛОННИЦЕ» я беседовал с совхозным кузнецом. Мне сказали о нем: «Твардовский — высокой морали человек». Мы сидели в горнице, а за занавеской, на кухне, жена кузнеца ощипывала какую-то птицу: он охотник. Разговор она слышала и время от времени вставляла реплики. В избе вся стена в книгах, на столе журналы, толстые и тонкие. «Константин Трифонович, брат вас к чтению пристрастил?» Он улыбнулся: «Зачем же! К попу за книжками я бегал». Родной брат кузнеца — Александр Твардовский, поэт. — Вы спрашиваете о Кучерове. Ничего не скажу, хорош. У него замыслы есть, фантазия, а без фантазии человек — не совсем человек. Мужик резкий, прямой — так можете и записать. До него был директор — безнаказанно как-то ушел. Дом построил себе из казенных досок… («Свиньи у него были лучшие в совхозе!» — вставила жена кузнеца). Ну, сдал он дела, дом продал за большие тысячи — только и оставил след по себе. А у Кучерова нет того, чтобы цапануть общественное. Что еще? Своего ума человек. Другие директора сидели ждали, что сверху прикажут. Когда все клюнут, тут и они клюнут. (Жена из-за занавески: «Таким только и жизнь. А тебе все надо лезть!» Он ей: «Меня с моего поста разжаловать невозможно!») Так вот Кучеров, он сам все любит начинать. Я вам, конечно, канву даю, а уже факты вы уточните. О недостатках. Когда пришел к нам, культ в нем еще крепко сидел. Рубил сплеча, все хотел сам решать. Уперливость в нем была, а той струнки, чтобы прислушаться к народу, нету. Сам да сам. Теперь-то он пообтерся, легче стал с людьми… Я вам так скажу: народ у нас повсеместно талантливый. Если не верить в народ, нечего и огород городить. Итак, «сам да сам». В первый же месяц директорства вышел у Кучерова спор с одним бригадиром. Стояла зима, надо было вывезти удобрения, с месяц они ковырялись, а дело не шло. Кучеров сам приехал в отделение совхоза «Кочаны». (Кстати, в Кочанах этих росла Вера Мухина, известный скульптор; как не повторить тут слова кузнеца Твардовского о народе «повсеместно талантливом».) Бригадир Мухин выслушал директорский разнос с хорошо выработанным терпением. На лице его было написано: «Давай-давай, говори. Твое дело — говорить, мое — слушать. После ты руки за спину и уехал, а мне делать». Вслух он сказал: — Оно конечно. Рассказать, как тачают сапоги, легче, чем тачать сапоги. Кучеров рассвирепел: — Меняемся! Ты будешь директор, я — бригадир. Ты ходи руки за спину, я буду дело делать. За двое суток вывезу! И ведь сделал. Точно все рассчитал, составил график, заранее прикинул, какой выйдет заработок, людям это объявил, и они впервые согласились работать ночью. К исходу вторых суток удобрения были вывезены. Отсюда и начался в совхозе его авторитет. Но мы ошибемся, если решим, что Кучеров только здесь усвоил метод руководства личным примером. Очевидцы говорили мне, что, будучи на районных постах, он точно так же «менялся» с председателями колхозов. Человек болел за дело, горяч был, себя не жалел, — именно поэтому все ему хотелось сделать самому. Он и в «Лоннице» с утра до ночи мотался на лошаденке, стараясь всюду поспеть. До того дошло, что он и хором взялся руководить сам, и народной дружиной; она стала, кстати, одной из лучших в области. Такое обилие дел отнюдь не облегчало его жизнь, но, как ни парадоксально, так ему было легче. Впрочем, что тут удивительного? Быть единственной фигурой среди пешек легче, нежели воспитать рядом с собой сильных людей. …Три дня я ходил за Кучеровым по пятам, смотрел, как он работает, каков с народом. Хмуровато-низкий голос, медлительная походка, скупость в словах и жестах. Но слушал он всех, я ни разу не видел, чтобы он кого-нибудь перебил. Выслушает до точки, потом подумает, потом только скажет… Пожалуй, и сейчас не все у Кучерова «кругло», но совхозный масштаб обозрим для него, и потому укорачиваются его недостатки, полнее выявляются достоинства. Здесь он может сутки, и двое, и трое сидеть в какой-нибудь дальней бригаде, и от этого частного не страдает общее. Здесь он научился учиться у людей, доверять им, и в «Лоннице» выросли бригадиры, звеньевые, птичницы, имена которых известны всей области. Я мог бы долго рассказывать о подъеме хозяйства, но сегодня нас занимает другое: как подымался человек. Потому я ограничусь кратким обзором газет, центральных и местных. Пусть приложатся эти материалы к тем, которые поведали нам о бедах Кучерова (приведу одни заголовки). «Новаторский почин совхоза „Лонница“»… «Новый успех коллектива „Лонницы“»… «Равняйтесь по передовым: в „Лоннице“ закончили копку картофеля»… «Мяса будет в достатке»… «Коммунист сказал: сделаю!»… «Энтузиасты о своем опыте»… Новаторский коллектив, говорят о совхозе. И может сложиться впечатление, что был-де Кучеров раньше консерватор, а тут вдруг стал новатор. Между тем я точно знаю, что еще в Екимовичах он ставил опыты на своем огороде, пробовал разные культуры, разные сроки и нормы высева. Человек мало в чем изменился — вот к чему я клоню. Все объясняется проще: каждому для взлета нужна подходящая стартовая площадка. Кучеров нашел ее, нашел свое место в жизни, и смотрите: перед нами совсем другой человек! Очевидно, сами районные посты, которые в силу «номенклатурного положения» вручались нашему герою, были не по нем.
ЧТО ЖЕ ЭТО такое — номенклатура? Я думал, новое слово. Оказалось, старинное. Оно приведено еще у Даля. И есть у Даля русский его синоним — именословие. Номенклатура (в значении, занимающем нас) — это перечень лиц, которые находятся на руководящих постах или, если не находятся, способны эти посты занимать. Понятное дело, командные кадры надо готовить, их необходимо знать, их ни в коем случае нельзя терять. Потому что всякий пост требует от человека навыков, знаний, волевых качеств, таланта, наконец. (Истинный организаторский талант так же редок, как большое музыкальное дарование или, скажем, математическое.) Может быть, порядка ради стоит и перечень составить — «именословный» список. Только любой список, какова бы ни была его длина, — конечен. А значит, ограничен, замкнут. И человек, попав однажды в номенклатурный круг, очень редко выпадал из него. Как сказал мне тот же кузнец Твардовский: «Крутят его, крутят. С одного сита на другое, помельче, и опять крутят. Нет ему места — придумают, ставки нет — изыщут. Разве что попадет под заскок». История Кучерова в общем окончилась благополучно. А ведь бывает и по-другому. Иной деятель на все пойдет, чтобы не выпасть из тележки. Ума не достанет, он хитростью возьмет, приписками, зажимом критики, болтовней, суетней. Случаи бывают разные: один с самого начала попал на пост по чистому (или не вполне чистому) недоразумению, другой когда-то работал дельно, да после зазнался и стал пустозвоном, а третий честно тянет, как и два десятка лет назад, но жизнь ушла вперед, и значит, все равно он отстал. Случаи разные — подход к ним один. Хозяйство шло подчас вниз — люди все равно вверх. Им не надо было доказывать свое право на большие дела — за них работал список. Приведу один пример, наиболее явный. Секретарь Кардымовского райкома КПСС И. Сухов вполне убедительно доказал, что он зазнавшийся самодур. В 1956 году он заставил рабочих и служащих, не имевших скота, сдавать мясо государству, просто покупать в магазине — и сдавать. В 1958 году упразднил занятия в школах района, долго держал учеников на полях и, главное, запретил сообщать о беззаконии в область. В районе за короткий срок сменилось 32 председателя колхоза. В конце концов сняли Сухова. Но даже после этого его назначили заведовать облсобесом. Сработал список! К сожалению, есть еще, встречаются руководители, которые действуют так, словно они Робинзоны Крузо. Вы помните, с кадрами у Робинзона было туговато: он сам, Робинзон, затем Попугай, затем Коза и, наконец, Пятница. Других на острове не было. И, уволив Пятницу, пришлось бы назначить на его место Попугая, а выйди Попугай на пенсию, его могла бы заменить только Коза… Но мы-то живем не на необитаемом острове! Дело идет, должно идти к тому, чтобы истории, подобные описанной мною, стали не редкостным исключением, а нормой нашей жизни. И это обязательно будет, и люди, прочитав такую статью, скажут: «Какое же это крушение карьеры? Наоборот, человек нашел свое настоящее место. Так это же хорошо, отлично!»
* * *
Вечером перед отъездом из «Лонницы» я сидел у Антона Григорьевича. Все уже было сказано между нами, и было чуточку грустно, и, может быть, сами разговоры наши заставили его лишний раз задуматься над прожитым и пережитым. — Каждый человек, где бы он ни жил, должен оставить след на земле. А не просто поел капусты — и на печку. Так мне, понимаешь, обидно: двадцать лет просадил впустую!.. Вот стих есть у Твардовского… Сейчас. Он порылся по карманам, достал потертую вырезку из «Правды», очки надел и прочел со вкусом:1961 год.
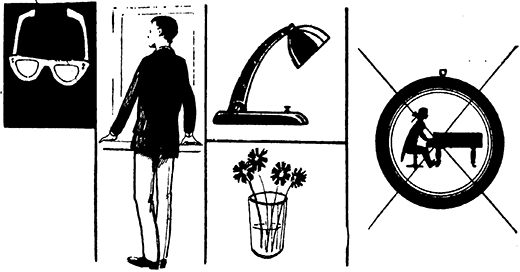
Однолюб
МОИ ГЕРОЙ не любит музыки. Он не увлекается живописью, редко ходит в кино. Он чужд страсти коллекционера и далек от спорта. У него нет приемника и уж, конечно, нет телевизора. «Ничего лишнего» — так мог бы он очертить линию своей жизни.
— Для научной работы нужны четыре стены, — сказал он однажды.
— А природа, Богдан Вячеславович?
— Да. И еще приток свежего воздуха.
Он не терпит долгих разговоров. Боюсь, что и недолгие ему не по душе. И он не скрывает этого, не умеет скрывать или не хочет. Так что назвать его приветливым было бы большим художественным преувеличением. Когда я на второй день знакомства просил его быть со мной без церемоний (если, мол, некогда, гоните меня без стеснения), он сказал:
— Да. Много времени уходит на это. На все на это.
К исходу второй недели я вдруг узнал, совершенно случайно, что все это время он числился в отпуске. И никуда не уехал, каждый день являлся в свою лабораторию, следил за ходом экспериментов… Не скрою, я обескуражен: как писать о нем?
— Дело-то не отпустишь в отпуск, — буркнул он.
— Но зачем его брать, если не нужен?
— Отпуск у нас длинный, — объяснил он. — Ну, много его скопилось за два года. Пришлось лишний стравить.
По-видимому, к разряду «лишнего» он относит все, что за пределами дела. Даже служебные командировки, даже научные конференции — их по возможности он избегает. А если тема сообщения интересна ему, норовит поймать докладчика где-нибудь в коридоре: «Каков, так сказать, результат?» И, ухватив суть, идею в двух словах, отрывисто поблагодарит и уйдет к себе — в себя.
Перед самым моим отъездом из Сибири я встретил его в гостях, в уютном семейном доме. Он пришел последним, старался быть незаметным, но был замечен, и все ему обрадовались. «Садитесь, Богдан Вячеславович». «Хочешь выпить, Богдан?» «К чему вопросы? Обязан выпить!» «За здоровье дам!» А он все молчал, покашливал, глазами помаргивал, и руки его, такие умные в деле, были тут враждебны ему, и он все покачивал руками, затрудняясь приспособить их. Как-то с размаху выпил, издали поднеся стопку ко рту, поправил очки на остром носу и окончательно стушевался, спрятался за односложными ответами. Я понял, что он застенчив. Со всеми застенчив — с незнакомыми и друзьями, с подчиненными и начальством. Застенчив до грубости.
И еще я понял, что он до удивления мало занят собой, впечатлением, какое произведет на окружающих, мыслями типа «какой я талантливый» или «какой я скромный». А ему есть чем похвастать, работы его эффектны, и, когда он испытывает свои новые приборы и установки, собирается много народу, приходят большие ученые. Но всегда наш изобретатель отходит на второй план, и его не отличишь в толпе лаборантов и рабочих.
ИТАК, «ничего лишнего». Мир человека аскетичен и строг. Значит, беден?.. Упрямая прямизна этой жизни все больше занимала меня. Что ж, прямая линия — она, конечно, «бедней» зигзага или кривой. Но именно прямая есть наикротчайшее расстояние между двумя точками. Видно, у каждого бывали в жизни моменты, когда какая-то важная цель спрямляла линию жизни. И человек, увлеченный главным, терял хотя бы на время интерес к побочному. Богдан Войцеховский сумел всю свою жизнь выстроить по прямой. Заметьте, я не утверждаю, что это наилучший путь и что у всех должно быть так. Я не обещаю, кстати, что мой герой окажется «типичным представителем»; возможно, он окажется совсем не типичным. У него было так. Семи лет пристрастился читать журнал «Наука и техника», восьми — затеял строить вертолет, девяти — приспособил к нему бензиновый мотор. «С тех пор прилично знаю двигатели внутреннего сгорания», — говорит он без улыбки. С самого начала этот человек — однолюб. К слову сказать, он и женат на женщине, с которой знаком со школы. Войцеховский воевал, семь лет пробыл в армии, но даже на фронте ухитрялся читать, находил учебники в разбитых городах, возился с радиосхемами (он был связистом), продумывал ночами сложный физический эксперимент, о котором узнал впоследствии, что он уже выполнен и описан в науке. Говорят, когда студентом он победил в соревнованиях по гребле (первый и последний его спортивный успех), весь институт был убежден, что «Богдан изобрел какое-то хитрое приспособление». Войцеховский был на своем курсе самым «старым» студентом, но едва ли не первым из сверстников стал настоящим ученым. Сейчас он доктор наук, заведует отделом быстропротекающих процессов Института гидродинамики Сибирского отделения Академии наук СССР.[2]
БОЮСЬ все же, что вы ответите: бедна. Да, конечно, жизнь моего героя заполнена, насыщена. Да, у него не бывает пустых часов и бесцельных дней, он не скучает, не ведает ленивого «куда-бы-себя-деть». Все это так. Но то, что человек постоянно занят, еще не значит, что он интересно живет. Ведь он, кроме «своей физики», ничего не видит. В кино не ходит, на стадионе не бывает, музыку даже слушать не желает. Экая узость! — скажете вы… Что ж, отвечу я, Бетховен тоже был узкий специалист. Это не просто шутка. Вот доля правды, заключенная в ней: мы исстари привыкли прощать «узость» людям искусства. Мы почитаем их преданность делу и в тех случаях, очень нередких, когда ничем, кроме этого своего прямого дела, они не заняты. Но мы еще не научились уважать «узость» людей науки. И они, как и в средние века, кажутся нам чудаками, оторванными от жизни. Между тем и наука нынче не та, и место в жизни человечества она занимает иное. А главное, и в том и в другом случае это вовсе не узость. Есть другое, более подходящее слово — одержимость. Лишите такого Войцеховского возможности работать — воевать с очевидностями, ставить опыты, копаться замасленными руками в деталях машин, вручать свои открытия обществу, — и выйдет неудачник, которому никакие развлечения не скрасят жизни. Когда я узнаю о человеке, который годами собирал оловянных солдатиков, — у меня к нему теплое чувство. Это очень хорошо, что вместо того, чтобы пить горькую или стяжать, он предался благородной страсти коллекционера. Но вслед за тем приходит другая мысль: а чем он занимался в свободное от собирания оловянных солдатиков время?.. Когда я читаю, что в группе альпинистов были академик И. Тамм, фрезеровщик А. Андреев, конструктор Б. Шляпцев — это вызывает глубокое уважение. Потому что горы штурмовали академик, фрезеровщик, конструктор. Все же человек интересен для нас прежде всего в главном деле своей жизни. …Может быть, сейчас в Золотой долине уже вечер. Богдан Вячеславович пришел домой. И играет с детьми, их у него четверо. А может, вышел из дома, слушает свою излюбленную таежную тишину, в которой, как сказал он мне, «думается легко»… Кто узнает, какие симфонии звучат в этой голове, когда приходит мысль, когда он нащупает ее и поймет, чтонашел. Какие картины проносятся перед его взором, когда он видит будущее гидропушки — в темной шахте, в желтых песках, в белизне северных льдов, — он ведь непременно видит все это! Мир его глубок. И от того — богат. Вникните в эту глубину — от первой гипотезы до осуществления в металле, от сложнейших экспериментальных установок до простых машин. Год назад Войцеховский построил «снегоход» — странную машину, которая ползала по окрестным оврагам, теперь он занялся какой-то особенной «пневмосеялкой» и даже посадил для пробы на участке зерно, — вот его способ отвлечения, его отдых. И хотя я все же не решусь назвать моего героя «гармонически развитой личностью», в том смысле, в каком мы привыкли понимать эти слова, главная, определяющая черта его — одержимость, — даже одна она проектирует его в будущее.
1962 год.

Уманские встречи
Клеймо
ЧУВСТВО соревнования, ревностное стремление не отстать, быть первым свойственно людям. Кто выше прыгнет? Кто быстрей пробежит? Кто дальше бросит?.. Вспомните: с этим мы являемся на свет. Потом мы взрослеем и свои чувства осознаем. В мире капитализма желание не отстать, как известно, вырастает в конкуренцию. У нас рождается стремление помочь отставшему, чтобы всем вместе двигаться вперед. Это и есть социалистическое соревнование. Какую же прорву усилий надо затратить, чтобы это чувство — врожденное, осознанное, ставшее проявлением идейных стимулов к труду — в людях… приглушить! Вот мысли, которые занимали меня, когда я был на Уманском машиностроительном заводе. Поначалу я собирался писать всего лишь о плохой, «без огонька» работе организаторов соревнования. Ну вроде бы они изо всех сил должны его «вводить» и «внедрять», а вот не внедряют, не вводят. Потом, прожив в Умани неделю и вторую, я по-иному стал смотреть на вещи. Нет, упругое слово внедрять предполагает некое сопротивление. Внедряют то, чего в натуре нет. А соревнование есть, оно в природе советского человека. И если плохо ведется оно, то это значит, что ему мешают нормально развиваться. Таков мой вывод, я намерен подтвердить его материалом своих наблюдений. Начать придется с одной неприятной истории. О ней говорилось в письме группы рабочих, которое и привело меня в город Умань.ФАКТЫ подтвердились. Так оно все и было в механическом цехе: один рабочий украл у другого клеймо. Один браковщик — у другого. И пошел «подписывать» свои детали чужим клеймом. Случись отныне брак, и его вычтут за счет другой смены — смены Ярополова.
«…Последствия малоприятны, — говорилось в письме рабочих. — Особенно если учесть, что смена мастера Ярополова борется за звание смены коммунистического труда».Выглядело это примерно так. Возвращают со сборки два шнека. Мастер вызывает «виновника» — токаря Ю. Черновола: «Опять у тебя брак! Исправь». Тот на дыбы: он свой почерк знает, свои детали из тысячи выберет, это не его обточка. А мастер ему: «Видишь клеймо? А шнеки в нашей смене ты один точил. Ясно?» Им даже в голову не приходило сомневаться. Когда уже поймали браковщика с поличным, так и то начальник ОТК отказывался верить: «Да вы что?! Подите проспитесь! Такого сроду у нас не было». И впрямь не было. Ан вышло. Прежде чем продолжать рассказ, замечу, что вовсе не считаю проступок одного человека позором для коллектива. Все зависит от того, как коллектив отнесется к проступку. Возмутится, вынесет сор из избы — будет чист. Ну, а спрячет, загонит болезнь внутрь — что ж, тогда и разговор другой. В Умани коллектив возмутился. Тотчас же после того, как все открылось, смена провела собрание. Постановили: браковщика от работы отстранить, просить директора, чтобы перевел его в подсобники. Протокол вел, между прочим, сварщик И. Грищенко, секретарь партбюро цеха: он вполне был согласен с рабочими. Но прошла неделя, и дело было спущено на тормозах. Директор ограничился выговором. По партийной линии браковщику указали, и только. На партбюро не зачитывали решения смены, сам Грищенко вдруг переменился и говорит людям, что-де все правильно, и он не понимает, чего им еще, собственно, нужно.
«Ленин учил, что если преступление совершил коммунист, то взыскать с него нужно вдвойне. А у нас именно потому, что он в партии, ему простили „ошибку“. Справедливо ли это?» — так заканчивалось письмо в редакцию.Все оно легко поддавалось проверке, и я в первый же день убедился, что рабочие в своем возмущении правы. На второй день я встретился с похитителем.
ПЕРЕДО МНОЙ был плотный, тяжело двигавшийся мужчина. Не торопясь, он провел меня в конторку, предложил табурет, сам сел и сдернул картуз, открыв круглую бритую голову. На вид ему было лет сорок пять. Темное лицо его хранило следы многих забот и выражало не то чтобы испуг («Ну вот, — сказал он садясь, — уже и Москва занялась мною»), а скорей покорное ожидание бед, которых он не ждал для себя, но к которым привык. Глаз он, впрочем, не прятал. — Что тут скажешь… Уж раз, как говорится, разоблачили… Стыдобина. У него поизносилось клеймо, «четверка». И он попросил контрольного мастера приготовить замену. Тот обещал. Действительно, на другой день в шкафчике, где хранится инструмент, он нашел новое клеймо. Глянул: «пятерка». «Ай-яй-яй, — подумал, — неувязка. Эдак любой рабочий, если, конечно, он нечестный, может воспользоваться… Я вот, к примеру, не возьму, — подумал еще, — а другой-то схватит!» И положил чужое клеймо в карман. «Спрячу, — подумал. — Пусть-ка поищут». Но прошел день-другой — не ищут. «Прямо базар какой-то, а не цех. Надо их наказать за разгильдяйство». Ну и решил «пятеркой постучать». А после (рисовался ему такой разговор) подойдет он к сменщику и скажет, будто невзначай: «Как полагаешь, Леня, каким клеймом бью?» «Как это каким? — скажет тот. — „Четверкой“». «А ну-ка глянь». Сменщик ахнет: «Мое! Где взял?» «А чего вы ложите клейма где попало!» Ну тут они, конечно, посмеются, и он отдаст «пятерку» и скажет: «С тебя, Леня, магарыч». Удивительно все нелепо и потому похоже на правду. Выдумать он мог бы что-нибудь и половчей. Но больно уж далеко зашла его шутка. Ведь он недели две орудовал этим клеймом и вошел во вкус, и бог знает, сколько бы еще ехал на чужом горбу, если б рабочие сами не схватили его за руку: — Каким клеймом бьешь? — Вот… — растерялся он. — Смотрю, лежит на полке. — «Пятерка»? — Я собирался отдать. Как раз, думаю… — Эх, ты! Главное, был бы пустой мальчишка, так нет — солидный товарищ, капитан в отставке, отец семейства… Пренеприятная история. Вечером я был в его доме, познакомился с супругой и сыном (старшие двое выросли, отделились, живут далеко), смотрел семейный альбом, вопросы задавал, и постепенно образ похитителя, нарисованный в моем воображении, стушевался. Я представлял себе прожженного дельца, на котором клейма негде ставить, в меру расчетливого, в меру лукавого, сытого, наглого. Я увидел неудачника. Ему не везло в жизни. Был в авиации, хорошо летал, войну окончил в 1945 году в Корее. И служба шла вроде неплохо. Так он по-глупому повздорил со своим полковником, и тот невзлюбил его: «Ну ты у меня попомнишь!» Очень долго добивался перевода в другую часть, и опять будто все удалось, его послали на Украину, и он долго ехал туда, а явился по начальству и увидел… своего полковника: того тоже перевели, и в тот же город. Ну, дослужил кое-как, и был обойден в чинах, и комнату получил в сырой развалюхе (так в ней и живет), и уволен был в отставку, когда меньше всего ждал этого и желал. Тридцать пять лет стукнуло ему, а уже пенсионер, и надо все начинать сызнова. Окончил курсы шоферов, а устроиться почему-то не смог. В институт пошел, и его приняли, но снова посыпалась какая-то ерунда: однокашник один помешал. Чем? А выпивал, и пришлось составить компанию. После он просит: помоги, друг, по начерталке — как откажешь? А свое запустил, а учиться в такие годы тяжко, и здоровье ни к черту. В общем, «психанул» перед самой сессией и бросил. Пошел на «Мегомметр», новый завод, начал землекопом, вышел в сменные мастера, и опять не заладилось. Почему? Так, из-за чепухи… Я съездил на этот завод, мне сказали там, что работник он был толковый, человек незлобивый, но вдруг поскандалил спьяна, хотя пил редко, и заявление об уходе написал из амбиции, думал, его удерживать будут, а директор тут же и подписал, потому что у директора своя амбиция. Пришлось начинать все на другом заводе, и работал неплохо, и снова полнейшая несуразность — клеймо. Вы скажете, пожалуй, что причины всех этих «зигзагов» коренятся в нем самом, что невезение свое он делает сам, и потому нечего ему на зеркало пенять. И я, понятно, соглашусь с вами, но добавлю, что это и есть классический тип неудачника. Он сам себе злейший враг, человек без стержня, с добрыми порой намерениями, но без упорства, без воли. Факты все остались, какие были. А что-то переменилось. И я уже не мог судить этого человека с той же строгостью, с какой осудил бы расчетливого хапугу. Я подумал, что директор завода был прав, когда, издавая приказ, не о проступке думал, а о человеке со всей его путаной судьбой. Потому и фамилию браковщика я счел за лучшее скрыть… Но если прав директор, то рабочие неправы. Выходит, напрасно они возмущались, зря писали в редакцию? Нет, все-таки не зря.
КТО ОНИ, эти люди, которых возмутила кража клейма, которые открыто говорили об этом на собраниях, не боясь вынести сор из избы? Постепенно я узнавал их. Узнал, что токарь Павел Импулев бегал по этому заводу еще мальцом, и отец его работал здесь, остался в войну, погиб в партизанах, и сын заступил на его место. Откровенно говоря, однажды он чуть было не ушел отсюда на другой завод (там, был слух, платили лучше) и даже взял трудовую книжку в отделе кадров, а после вышел в проходную, понял, что никогда ему не прийти назад, и так ему стало тошно, что он все-таки вернулся в свой цех. Видимо, завод для него не просто источник заработка, а нечто неизмеримо большее. А Михаил Иванович Кравчук сам партизанил, трижды бежал из плена, был в Бухенвальде, ослеп после войны, и жена бросила его с двумя малышами, он сам вырастил их, и выздоровел, вернулся токарем на завод. И еще мне известно, что однажды, застав сменщика за нехорошим делом (тот «забивал» переточенное отверстие, чтоб не заметили брака), Кравчук сказал ему: «Кому свинью подкладываешь? Брось!» Знаком мне и этот пожилой, немногословный, скромный человек — электрослесарь Крылов. Он остановил меня дня три назад: «Вы писатель?.. Пойдемте». И повел меня за руку в конец цеха, где огромный продольно-строгальный станок обрабатывал «вон ту загогулину», совсем небольшую деталь. «А берет, между прочим, сорок киловатт!» Сам Крылов на окладе, личной корысти нет у него, а вот привел «писателя» и следил ревниво за блокнотом: все ли я запишу об экономии электроэнергии. Зачем ему это? Я узнал людей и понял: небезразличие стало их сутью, они уже не могут иначе, и та история, которую мы разбираем сейчас, свидетельствует о личной заинтересованности рабочих в общем деле. К сожалению, не только об этом, но прежде всего — об этом. Директор завода Виталий Борисович Афанасьев тоже прожил хорошую жизнь. Он опытный инженер, послан был на село и сдал без слова квартиру в Киеве, был секретарем райкома, получил орден за успехи в сельском хозяйстве, но мечтал вернуться в промышленность и через восемь лет добился — пришел на уманский завод. Он многое знает и помнит свой долг. Вот и не понять мне, почему, проявив терпимость и некую даже душевную тонкость по отношению к одному человеку, он не нашел в себе простого такта в отношении ко всем остальным. Хотя знает силу коллектива и говорил мне: «Я на него смотрю двумя глазами, он на меня — в полторы тысячи глаз». Да, рабочие на том сменном собрании поторопились. Они решали сгоряча, не зная всех обстоятельств дела, не выслушав «обвиняемого» — его не вызвали даже. Директор так решать не имел права. Он поначалу тоже возмутился, потом остыл. Конечно, браковщик виноват… Хотя корысти тут особой не было, была глупость. Бил «пятеркой» на глазах у всего завода — его не могли не поймать… Ну, надо проверить, много ли пропустил брака, — это важно. Выждали неделю — нет, на сборке брак не вылез. Тот случай со шнеками так и остался единственным… Притом и работник неплохой, до этого все о нем хорошо отзывались. Виновен, слов нет, но заслуживает снисхождения. Так примерно мог думать директор. И, я надеюсь, вы согласитесь с ним, тем более что выговор браковщику все же дали, премии лишили, и, главное, долго еще ему будет стыдно людям в глаза смотреть. Я понимаю и секретаря партбюро, потому что он тоже (надеюсь, что это так) прошел весь путь раздумий — от гнева до милосердия. Но от рабочих-то эта цепочка скрыта! Они видели начало и сразу — конец. Середина выпала. И потому их возмущение можно понять. Почему же так вышло? Я вижу только одно объяснение. Механический цех, прежде отстававший, как раз к этому времени пошел в гору, обеспечил приличный задел, и решено было вручить ему переходящее знамя. Смена была передовая, цех стал передовой, весь завод боролся за высокое звание… Вот по этой-то «деликатной» причине и пожелали некоторые товарищи не то чтобы замять историю, но, как говорится, не особо ее раздувать. Интереснее всего, что коллектив тоже исходил из этой предпосылки: раз он хочет быть передовым, значит, надо ему очиститься от скверны. И потому вся история эта не позорит рабочих, а свидетельствует об их настоящей политической зрелости. Чего им было бояться? Что кто-то скажет: вот-де борются за звание, хотят работать и жить по-коммунистически, а смотрите — хе-хе! — жулик. Ну и что? Они накажут жулика и пойдут дальше. Даже тяжкое преступление одного человека не есть клеймо на весь завод. Но вот что для такого коллектива решительно противопоказано — равнодушие. А Павел Импулев сказал мне после истории с браковщиком: — Что мне, больше всех надо? Я и помолчу. Мне не интересно по цеху плескаться. До сих пор многие на заводе убеждены, что браковщика помиловали «за партбилет». А ведь это в общем-то не так. И чтобы люди поняли, что это не так, всего-то и нужно было поговорить с рабочими. Право, они прекрасно бы все поняли. На деле их мнением просто-напросто пренебрегли. И тем подорвали в них, пусть даже в самой малой степени, чувство хозяина. А человек, который не сознает себя хозяином, не может по-настоящему бороться за увеличение общественных богатств. Без этого соревнование никак не выйдет.
Обида
НЕСКОЛЬКО лет назад имя токаря Бориса Смирнова гремело на Черкасщине, и люди привыкли видеть на газетных снимках простое и мужественное лицо бригадира первой в области комсомольско-молодежной бригады коммунистического труда… Так обычно начинаются очерки о «бывшем новаторе» — тема не новая. Дальше привычной рукой набрасывается портрет Бориса: серые глаза, светлые волосы, слегка вздернутый нос, волевой подбородок, и все это… (да, чуть не забыл, еще белозубая улыбка) — и все это делает его по внешности типичным передовым рабочим наших дней: «такие лица мы часто видим на плакатах». Следует краткое (или пространное) жизнеописание героя. С юных лет Борис увлекся техникой, он токарь-универсал, но и теперь работает над собой, совершенствуя свое мастерство. Вот первые обязательства бригады Бориса Смирнова, вот цифры перевыполнения, вот совместные походы в кино и на стадион, вот ребята поступают в вечернюю школу рабочей молодежи, вот, наконец, коллективный портрет бригады: семнадцать парней улыбаются со снимка, который принят на хранение в фонды Уманского музея. И все это пишется ради того, чтобы поставить в конце риторический вопрос: почему же ныне не слыхать о бригаде Бориса Смирнова? Куда он, так сказать, делся? Где он в настоящее время? В самом деле, где теперь Борис? А все там же — на Уманском машиностроительном заводе. Работает в том же цехе, на том же токарном станке, и рабочие его уважают по-прежнему. Вечернюю школу тоже не бросил, перешел в десятый класс, в футбол играет, он центр защиты в заводской команде, а что до производственных успехов, то при всех неизбежных подъемах и спадах, какие и раньше бывали у бригады, цифры перевыполнения с тех громких времен не уменьшились. И последнее, что, по-моему, важно: Борис, как прежде, любит свое дело. — Мы когда выпускали машины на экспорт, валы дали мне. А тут как раз школьники у нас на практике. И один из них пристал: «Дайте хоть что-нибудь на том валу сделать». Станок я ему, понятно, отладил, но точил он сам. После ходили с ним на станцию. «Ну, Женька, твой вал укатил в Болгарию!» У него глаза были! Все правильно. Никакой он не бывший новатор. Да и чем мы, собственно, недовольны? Было время — гремело имя Бориса Смирнова, теперь гремят другие имена. Так и должно быть, потому что трудовая слава — не пожизненная рента. Потому что движение ударников — оно и есть движение. Движение, а не стояние! Помню, на одной великой стройке шла борьба за право участвовать в перекрытии реки. Люди ревностно следили друг за другом, это было настоящее состязание, живое, азартное. Когда подсчитали кубы и тонны, выяснилось, что первое место занял никому не ведомый молодежный экипаж, ему и выпало право «первого ковша». Но собрались товарищи, весьма умудренные, и решили, что это будет несолидно. Дело в том, что имелся на стройке экскаваторщик увенчанный, так сказать, наперед утвержденный. Ему-то и вручили вымпел, его снимала кинохроника, и я видел, как выдохлось соревнование, лишенное смысла. Эго было, как я теперь понимаю, типичнейшее порождение культа личности, ибо он, культ, предпочитал устойчивость, «порядок», чтоб в каждом деле были утверждены лучшие, а из них изо всех — наизнатнейшие, самые главные: в кожевенном деле — один, в театральном — один, в биологии — тоже один… Между тем какая вообще может быть «устойчивость» в социалистическом соревновании, где весь смысл в движении, в постоянных переменах? Сами посудите, что это значит, если десять лет кряду одно и то же имя не сходит с газетных страниц? Это значило бы, что за десять лет никто не опередил увенчанного, не сделал больше, лучше. Но это было бы ужасно! Может, самой этой проблемы «бывшего новатора» нет и мы волнуемся зря. Если человек зазнался, заелся, спился, привык сидеть в президиуме и отвык работать — тогда да, тогда надо задуматься над его судьбой и поговорить о том, что мы же сами испортили человека. А если он трудится честно — все правильно. Так я и рассудил логично и здраво и разложил все по полочкам, а после остановился и подумал: отчего все же не оставляет меня чувство обиды за Бориса Смирнова?В ВОСКРЕСЕНЬЕ мы отправились в Софиевку, знаменитый уманский парк. Борис показывал мне достопримечательности, а впереди белым шариком катилась Таня, его четырехлетняя дочь. — Не пойму, как тут Потоцкий жил один. Хотя, конечно, граф: воспитание такое. С детства небось привык, чтобы все ему одному. Если еще кто попользуется, то уж ему не интересно. А я даже в кино один не люблю, надо мне кого-то локтем толкнуть: смотри, что делается!.. Между прочим, этот граф был порядочная шкура. Видите, валун в озере? Говорят, пятьсот крепостных тянули его да все под ним и утонули. Тут маленькая Таня крикнула: — Папа! Один уже вылез! И впрямь из-за камня вышел какой-то дотошный экскурсант. Борис улыбнулся. Мне понравилось, что он не стал скучно разъяснять дочкину ошибку. Пусть верит, пока верится, что в мире нет ничего невозможного. Мы дальше пошли, он сказал, что раньше они бывали в парке всей бригадой, купались, мяч брали с собой, а теперь это кончилось. Почему кончилось? Умань не Москва, сказал он, Софиевку с трех раз можно выучить наизусть. Тут был резон, но я чувствовал, что не в этом дело, не только в этом. — Недавно я глянул на старую фотографию бригады, — сказал Борис, — сам удивился: из семнадцати человек осталось нас трое. Румелиди, Толя Потемкин и я. Остальные все разбрелись: кто сам ушел, кого уволили. Он бы все понял и принял, если бы естественным был отход бригады на второй план. Скажем, кто-то обошел их, вырвался на первое место, вот и пишут теперь о других — на то соревнование. Но тогда и Борис со своими друзьями мог поднажать, и снова они взяли бы верх, во всяком случае могли бы бороться за первое место. А тут ничего похожего не произошло. Бригада пала, рассыпалась, вышла из игры по каким-то таинственным, канцелярским причинам, для Бориса неведомым. — Я понимаю, состав может меняться. Вот и в армии от гвардейского полка останется горстка, и возьмут новобранцев, и будут они гвардейцы. Так ведь не сразу будут, их проверят в бою. Мы тоже вначале принимали ребят непросто. Подай заявление, и два месяца испытательный срок: как ты работаешь, чем дышишь? Теперь заявление в отдел кадров, две фотокарточки — и готово: он уже «гвардеец». Если откровенно, коммунистической бригада осталась только на бумаге. Не думайте, что Борис не пытался расшевелить своих «новобранцев». Кое-что ему даже удалось сделать — и эти ребята воюют за план, за качество, за чистоту, но того, прежнего, нет. Почему? Я и раньше задумывался над тем, что сталось с тружениками, некогда прославившими себя. Это хорошо, что на смену им явились новые герои, но вот Ботвинник дважды после своих поражений отвоевывал первенство. Болельщики извелись от срывов «Спартака», но вновь эта «бригада» вырывалась вперед, хотя век футболиста короче, чем век токаря. Почему же почти не бывает так, чтобы знатный ударник «отыгрался» на новом этапе соревнования? У меня нет материалов для сколько-нибудь широких обобщений, но в данном случае я, кажется, понял причину: слишком малое зависит от Бориса Смирнова, слишком многое — от внешних обстоятельств. Состязания-то он продолжает, да болельщики ушли с трибун. Бригада? Помилуй бог, уже не интересно. Появились участки коммунистического труда, смены, цехи, предприятия, вот уж города воюют за звание — подумаешь, бригада!.. Странным образом на уманском заводе движение вперед поняли только как количественный рост и погнались за «широтой», начисто забыв о «глубине». В этой большой игре Борис оказался вдруг пешкой, его выдвинули поначалу, а вышли бригады из моды — задвинули. Вот корень невысказанной обиды человека: он не сам стал «бывшим», его «бывшим» сделали. И сделали, что обидней всего, в пору замечательной зрелости, когда и опыт пришел, и знания, и организаторский навык, когда все по-настоящему только еще начиналось, когда движение, поднявшее его на своем гребне, далеко еще не было исчерпано. Да и может ли быть исчерпано подлинное соревнование? Никогда в истории труд не был в таком почете. Никогда и нигде не отмечались так широко люди труда. Став знатными, они не отрываются у нас от своего класса — и этого не знала история. Народом поднятые, они остаются в гуще народа. Их очень много в стране — героев, работающих в том же цехе, в том же колхозе. Это характернейшая фигура нашего времени. Вот почему проблема «бывшего новатора», или, скажем точнее, проблема «прославленного рядового труженика» чрезвычайно важна. Не надо, да и не выйдет это, беспрестанно повторять одни и те же имена. Но и сбрасывать людей со счета, искусственно делать их бывшими — негоже. Очень это нерасчетливо, неумно, обидно.
Бесполезное — вредно
ЛЮДИ проходят мимо фанерного призыва: «Рабочий! Слушай времени зов — семичасовое задание за шесть часов!» Внизу цифры перевыполнения по участкам и цехам. Десятки людей идут на смену, хоть бы один остановился, прочел, да что я — хоть бы глянул кто на этот щит… Цеховое собрание утверждает «передовиков за истекший месяц». Зачитывается длинный список, все молчат, на лицах скука. Ни одобрений, ни возражений. Неужто рабочим и впрямь безразлично, быть или не быть на Красной доске?.. Висит доска на одном из участков. Кто отмечен? А все, потому что участок весь передовой. Но снимков тут полтора десятка, а рабочих вдвое больше. Верно, отвечают мне: остальные не уместились. По какому принципу шел отбор? Обыкновенно: как повесили доску два года назад, так и висит… Чего и чего не придет в голову, глядя на это! Я беседовал с уманскими организаторами соревнования, со многими. Одни над этим просто не задумывались, другие заняты были пыльными щитами и казенными списками по привычке, третьи хуже — думая, что так надо, что иначе и быть не может. Вот их логика, сформулируем ее, хотя прозвучит она непривычно для нашего уха: «Наглядная агитация может быть чуть лучше, может быть чуть хуже — все равно не она решает. Всякая кампания рано или поздно отшумит и заглохнет, а дальше что? Дальше то, что остается всегда, — будни, сменные задания, выработка, зарплата…». Из этого рассуждения, такого по внешности житейски взвешенного, должно следовать, что рабочему всего-то и нужно сделать свою норму и получить свои деньги. А сверх того, выходит, ничего рабочему человеку «не треба». И как только мы доведем рассуждение до логического конца, тотчас же и вылезет вся неправота его.ПОЗВОЛЬТЕ представить вам Константина Во́йну — он лучший токарь уманского завода. Весь завод знает, что он лучший токарь. Артист, академик в своем деле. Во́йна всерьез убеждал меня, что токарное дело самое главное: без токарей земля и дня не проживет. — Почему, Константин Иванович? — А все круглое. Учился он своему ремеслу долго и трудно. Так сейчас никто, пожалуй, не учится. Это было в оккупированной Умани, в годы войны, «под немцем»; ему было тогда тринадцать лет. И он пошел на рембазу в ученики, потому что работавших не угоняли в Германию. Токарем был угрюмый дед, он молча стоял у станка, ничего не объяснял, и Костя слышал от него только два слова: «подай!» и «прибери». За все время старик ни разу не подпустил его к станку, ручку не дал подержать, и он учился «из-под руки», вприглядку, и все мечтал, как сам закрепит резец, и побежит веселая стружка… В 1944 году, когда освободили Умань, Константин первым пришел на разбитый завод, расчищал завалы, вытаскивал из-под обломков уцелевший станок, отладил его и — сбылось наконец! — пустил… Он сказал директору, что токарное дело знает. На вопрос о разряде ответил: «Пятый». Так ему и записали, потому что документов не было. И вот он пустил станок, подал вперед резец, и все вышло, как мечталось. — Токарное дело, оно, я вам скажу, бесконечное. Предела нет, чтобы сказать: работай только так, и никак иначе. Каждый день — новое. А если только за деньгой тянешься, тогда, конечно, скучно. Тогда уж лучше в грузчики: поднял — бросил. Между прочим, деньги ему нужны, и даже очень: Во́йна — застройщик, он строит дом для своей семьи. От начала до конца своими руками. Когда фундамент закладывал, взял в библиотеке книги по фундаментам. После с каждой получки покупал тысячу штук кирпича, и прочел новую книжку, и вывел стены. Крышу крыл тоже «согласно литературе», потому что и в этом ремесле есть свои секреты. Недавно печь сложил, тоже сам: «Даст две тысячи калорий, если, конечно, книжка не врет». У человека талант, ему интересно докопаться, понять — если хотите, это для него главное удовольствие в жизни. — Конечно, каждому свое, — говорил он мне. — Другой конструктором хочет быть, другой — шофером. Тоже хорошее дело: ездит человек по земле, природу смотрит, а откажет мотор, можно и покопаться в нем. Но это не по мне: мотор-то всегда один и тот же. Я бы не пошел… Другой придет, скажет, шумно в цехе, треск, грохот. А мне и шум хорош, и запах по нраву. Больше месяца Во́йна возился с новым сверлом. Цех выпускал тогда кольца для подшипников. Из бронзы. А труб не было, и приходилось сверлить болванки. Диаметр их — сто миллиметров, а отверстие — девяносто. Почти вся бронза уходила в стружку. Во́йна и задумался: как бы «выбрать» сердцевину, сохранив ее? Пробовал взять резцом — не вышло: резец гнулся, ломался. Пришлось снова засесть за учебники, сделать расчеты, провести опыты. И добился: дал цеху «трубчатое сверло», из которого вместо стружки выходила болванка, только поменьше. Весь завод бегал смотреть новинку. С того дня и прозвали Во́йну академиком. Почему он взялся за эту работу? Ну, он получил за нее премию — это сыграло, конечно, роль. Деньги, как уже сказано, были ему кстати. Но сверх того — и в этом сила соревнования — им двигали любовь к труду, и желание славы, и стремление сберечь деньги (уже не «свои — кровные», а «казенные»), и забота о товарищах, которым он хотел облегчить труд. А сказал он так: — Мерзко было смотреть, как бронза уходит в стружку. Во́йна вообще тих, молчалив, безропотен. Он, бывает, горит на «заковыристых» заказах, но никогда не просит «калымных». Один только известен случай, когда Во́йна вспылил. Ему дали сверлить дырки в болванках, и это было слишком просто для него. Ну все равно, как Святославу Рихтеру играть «Чижик-пыжик» одним пальцем. И он пошел к мастеру, к начальнику цеха, к директору и добился: болванки передали ученикам, а ему нашли трудное дело. С той поры самые сложные задания — его: придет чертеж какого-то хитрого винта с 24-заходной резьбой — поручат ему. И он полдня будет возиться, и все расчеты сделает, но винт выточит и сияющий пойдет домой… Я точно знаю: его греет это сознание, что он лихо сработал, лучше всех, что он занимает сейчас первое место по умелости, по мастерству. А Егор Румелиди — скоростник. Высокий, изящный, усики над губой, горяч неимоверно. Этому самолюбие не позволит отстать. Там, где другие сделают десять труб КРС, Егор выточит пятнадцать. Его хватка известна цеху, но вот пришел из армии Юра Богоявленский, и хоть недавний токарь, а опытным наступает на пятки. Такой ладный парень в берете и кирзовых сапогах. Очень, говорят, способный. Теперь уж Егору трудно бывает удержать первенство, и цех с интересом следит за этим единоборством. А Миша Горишный — самый сильный работник. «Миша-полуавтомат» — называют его. Он торцует втулки, норма — две тысячи, а он ежедневно дает две тысячи шестьсот. И это давно уже не простое «кто выше прыгнет». Тут действуют другие стимулы, более глубокие, более возвышенные. Люди ревниво следят за успехами товарищей, ни один не хочет отстать, каждому охота заработать побольше, но я десятки раз видел, как оставляли свои станки, чтобы помочь отстающему, те же Во́йна, Румелиди, Горишный, Борис Смирнов, Выходит, соревнование есть у них, и вовсе оно не приглушено. Живое, азартное, яростное порой, оно не утихает ни на один день, оно несет в себе черты подлинно коммунистического отношения к труду… И ничего общего не имеет с той стыло-фанерной формалистикой, о которой мы ведем речь.
ТАК И ТЕКУТ эти два потока, словно две параллельные линии, которым пересечься не дано. Один бурный, постоянно обновляемый, собранный из сотен ручейков — поток живого творчества масс. Другой декоративный, дутый — плод творчества канцеляристов. Обиднее всего, что пустота маячит на виду, а живое дело — под спудом. И трещина меж ними углубляется. Попали или нет Во́йна, Горишный, Румелиди в список передовиков? Право, в данном случае, на данном заводе это не играет роли. В списке оказался однажды пьяница, который втихомолку приписывал себе лишние, не выточенные им детали. Конечно, это до поры было скрыто, и никто не знал, что его «проценты» липа. Но о том, что он плохой токарь, ленивый, пьющий, неумелый, — об этом-то знали люди. Все та же ложно понятая забота о «широте» сработала здесь: раз наш завод числится в передовых, значит, сейчас, немедленно все должны выйти в передовики. Видимо, в будущем они мечтают выстроить огромную красную доску, всех поголовно поместить на ней и «закрыть» соревнование. Невдомек людям, что даже при самом бурном общем подъеме одни будут «передовее» других. Вот и норовят затолкать в списки побольше народу, теряют, как сказал мне токарь Логинов, идеал в подходе к человеку, и люди обезличены, звания обесценены, обязательства опошлены, и рабочие предпочитают состязаться в мастерстве по собственному прямому счету. Иногда эти живые струи выбиваются на поверхность, иногда нет, но то, казенное, всегда на этом заводе отстает, потому что строится «солидно», капитально, а в цехах каждый день перемены. На доске, если уж кого отметят, то всерьез и надолго, портрета уже не снимут — это скандал, крайняя мера. А в жизни сегодня ты обошел всех, завтра кто-то другой сработал лучше, чем ты… Можно сказать, что фанера отражает жизнь уманского завода, так же как сломанные часы время: все же два раза в сутки они его показывают правильно. Чего же мы удивляемся, что и смотрят люди на эти доски и щиты не чаще, чем на разбитые часы? Я слукавлю, если ограничу тему воротами завода. В те дни, когда он принимал обязательство в соревновании, коллектив тщательно взвесил свои силы. И записал: «Поднять в этом году культуру производства до такого уровня, чтобы можно было начать борьбу за звание предприятия коммунистического труда». После этого директор и парторг были вызваны в горком партии, их «поправили», и вышел из типографии другой текст: завод сам обязался завоевать звание «в текущем году» и призвал к тому же другие заводы. Но он не был готов, он и сейчас не готов! А ведь рассуждали небось, навязывая заводу обязательство, что-де «пользы не будет, так и вреда не принесет». Надо прямо сказать, что популярная эта формула лишена всякого смысла. Видимость деятельности стократ хуже, чем простая «честная» бездеятельность. Не будь на уманском заводе всей этой фанерно-бумажной завесы, недостатки в организации соревнования были заметны бы издалека. А так есть видимость благополучия. И это нравственно растлевает людей, или, по определению одного старого кузнеца, распоганивает. Нет, бесполезное — вредно! Был у меня под конец долгий, откровенный разговор с директором. Человек умный, он и сам понимал, что жить так, как они раньше жили, теперь нельзя. — Трудно, — говорил он. — По-старому невозможно, по-новому не умеем еще. Прежние движения были в чем-то посложней, а в чем-то и проще. Надо было учить людей осваивать технику, ломать нормы, и все это были конкретные дела: внедри новый метод проходки, изучи новую скорость, новый прием резания. А теперь? Нужно, говоря попросту, чтобы люди работали по совести. Будто и учить этому не надо, и стахановские школы ни к чему, а поверни-ка всех поголовно на эти рельсы… Многовато еще общих фраз. Разбить бы их на тысячу конкретных дел, жизнь-то из них составлена. А как? Не знаю пока. И я не знаю. Очевидно, сами уманские рабочие должны искать новые пути, как ищут их постоянно коллективы сотен передовых заводов. Я знаю только, что нужно эти два потока соединить, чтобы щиты не застили живого дела, а помогали ему. Знаю, что единообразие сверху, против которого возражал еще В. И. Ленин, в этом деле противопоказано начисто. Старые формы соревнования отживают и будут отживать. Это естественно — жизнь идет вперед. Было время, славились «сквозные бригады», «общественный буксир» был у всех на устах и гремел «встречный», теперь забыты самые эти слова. Но суть осталась, люди уже не могут жить только работой и зарплатой, не хотят жить без смысла, им нужно, как мы сами видели, одобрение товарищей, уважение народа — идея соревнования овладела ими прочно. А это, что ни говорите, главное.
1963 год.

Сержанты индустрии
ИСЧЕЗАЮТ техники.
То есть они еще есть пока что, они живут, работают, но самое бытие их в некотором роде эфемерно, мнимо.
На Люберецком заводе, куда я выехал расследовать это странное происшествие, числятся по штатам семь тысяч рабочих, более шестисот инженеров и… шестьдесят три техника.
Армия без сержантов. Солдаты есть, и офицеры есть, сержантов почти нету. Их должности исчезли, выпали из штатных перечней. Категория тружеников, могучая и славная, утратила свое былое значение.
Не подумайте, что автор искал «особо трудный» случай. Люберецкий завод сельскохозяйственных машин имени Ухтомского выбран не потому, что очень плох или очень хорош, а потому, что обычен. Вот что говорит статистика. В черной металлургии на одну инженерную должность приходится у нас 0,4 техника, в нефтедобывающей промышленности — 0,3, в нефтеперерабатывающей — 0,2. На «Трехгорке» в подчинении у инженера находится одна пятая техника, на Чистопольском часовом заводе — одна тринадцатая, а на Московском мясокомбинате — семь сотых техника. Тут уж запахло мистикой: не сержанты индустрии, а сплошные дроби!
Если так пойдет дело и дальше, то должности техников обречены у нас на полное исчезновение.
Может, это и правильно?
В годы первых пятилеток в толпе безграмотных сезонников техник был необходимейшей фигурой. Теперь рабочий образован, все чаще у него у самого за плечами средняя школа, он знает математику, читает чертежи. С другой стороны, нет прежнего голода на инженеров — мы готовим их больше, чем все другие страны. Выросли заводы: те же люберецкие цехи три десятка лет назад были опутаны ремнями трансмиссий, теперь здесь автоматические линии. Возможно, на таком заводе техник и впрямь не нужен?
Вопрос не простой. Надо, по-видимому, проследить изменения в характере труда, изучить тенденции развития, заглянуть в будущее. Должна ли вообще в условиях бурного технического прогресса остаться старая трехступенчатая система образования: инженер — техник — рабочий?
— Чего же вы хотите? — сказали мне сегодня. — Происходит стирание граней между физическим и умственным трудом. Техник стоит аккурат на грани. Техник стирается.
ВАЛЕНТИН Фатеев — один из тех, кто «стирается». Он техник — по образованию, по опыту, по кругу обязанностей. Держится уверенно, у него задиристая манера говорить, веселый нрав. Ему подчинены сто пятнадцать рабочих. В полседьмого Фатеев на заводе. Идет в диспетчерскую, получает задание на смену, проверяет оснастку, смотрит чертежи. Лавиной валит на него смена, он расставляет людей: вначале формовщиков, потом подсобников, потом, когда пойдут конвейеры, заливщиков. К этому времени готов металл. Фатеев смотрит анализы и приказывает начинать. Если что не заладится, он поможет рабочим. Если пойдет брак, он отыщет причину. Если причина сложна, вызовет технологов. — Всего не знаю, конечно! — улыбается Фатеев. — Так, по-моему, и инженер «всего» не знает. Я хожу за ним. Мне надо понять, достает ли его знаний на этом посту. Он хорош с рабочими. Если кто неумел — научит, если ленив — взыщет. Говорит мне, что привык к этому в армии, где был сержантом-танкистом: «Приходят новобранцы, есть толковые, есть бестолковые, а в армии как? — всех выучи!» Он прилично знает технику, порученную ему, знает свойства металла, знает гидравлику в той мере, чтобы разбираться в литниковых системах. Инженерных вопросов ему не приходится решать: есть на то инженеры в КБ, в отделе главного технолога. А его, Фатеева, дело — обеспечить производство. Ему дают технику, дают людей, дают определенный фонд зарплаты, и он обязан так поставить дело, чтобы у всех была работа, у всех был заработок и чтобы была программа, план. Фатеев именно это и делает, и хорошо делает. Зачем ему «стираться»? «Ладно, — скажете вы. — Техник в данном конкретном случае справляется с делом. Но инженер-то лучше справится». «Почему?» — спрошу я. «Как почему?! Да ведь он больше знает!» После такого довода я сразу подниму руки кверху: «Уговорили. Согласен. И давайте пригласим на формовочный участок академика: он знает еще больше». Я иду в конструкторское бюро завода. Это уже не цех с налаженным производством, здесь собрались творцы новых машин. Наверное, среди них технику и вовсе нечего делать. Нет, представьте. Вот как строится работа в группе, с которой знакомят меня. Ведущий инженер-конструктор разрабатывает конструкцию, дает общий расчет. Потом он раздает машину по узлам своим сотрудникам. Они умело вычерчивают узел в общем виде, потом увязывают размеры по комплектам, по деталям. Когда будут готовы все чертежи, ведущий проверит их и подпишет. В состоянии ли мы сегодня отменить эту часть работы? Разумеется, нет. Любой конструктор объяснит вам, что «чистое творчество» занимает у него куда меньше времени, чем все эти необходимейшие деталировки. Их не сбросишь со счета, их надо делать, и быстрее всего, сноровистей, чище их делают техники. Вот и опять не пойму я, почему им надо исчезнуть. Можно составить клинику из одних профессоров. (Это не просто фантастическое допущение: в науке «среднее звено» выпадает еще стремительнее, чем в индустрии.) Ах, как будет расчудесно: сплошные медики высочайшего класса! Но, во-первых, еще не известно, лучше ли они справятся с обязанностями медсестер. Во-вторых, просто глупо вручать шприцы и банки людям, которые обучены операциям на сердце. А в-третьих, лишенные помощников, ученые сами начинают готовить опыты, тратят на это львиную долю своего рабочего времени и, между прочим, получают за возню с приборами вчетверо больше, чем получал бы лаборант. Моя задача — подчеркнуть роль «сержантов» в народном хозяйстве страны. Это люди большого опыта и солидных знаний. Они получили специальное образование: специально в течение четырех лет изучали дело, которому служат. И они служат ему преданно и честно. «Стираться» технику совершенно незачем. Да он и не стирается.
ОСТАВИМ до поры теоретические раздумья. Обратимся к суровой прозе жизни: только тридцать восемь процентов инженерных должностей занято в РСФСР людьми с высшим образованием. Почти две трети инженеров в стране — вовсе не инженеры. Кто же они? Исчезнувшие техники. Отчасти и практики — категория также уважаемая и весьма полезная, но в основном именно техники. На Люберецком заводе я насчитал их более четырехсот. Они были техниками и остались техниками, только называться стали почему-то инженерами. И знакомый нам Фатеев занимает инженерную должность, и техники КБ числятся по штату инженерами-конструкторами, и… я чувствую, что основательно-таки запутал читателей. Остановимся. Начнем все сызнова. Восемь тысяч мастеров в Московской области — техники, половина начальников цехов — техники, большая часть заводских технологов, механиков, конструкторов — техники. И эдак-то по всей стране! В Советском Союзе работает сейчас больше шести миллионов людей со средним специальным образованием. Нет мистики — есть путаница. Нет дробей — есть полноценные специалисты. Их роль не стерлась — стерлось их наименование. Они исчезли всего лишь в штатных расписаниях. Причина? Увы, до обидного простая… Заливщик Иван Кулаков окончил вечерний техникум. А «расти»отказался, предпочел вернуться на свое рабочее место. В изящной литературе принято в таких случаях умиляться. Я бы тоже умилился, да повод не тот. Ему предложили место техника, но, узнав, какой там оклад, Кулаков возмутился: «Да вы что?! Я на заливке получал вдвое больше. Вдвое!» Вот и вся причина. Стирание граней, как видите, ни при чем. Автоматика и кибернетика тоже ни при чем. «При чем» совсем иные факторы — оборотистость плановиков, упрямство финансистов, пробойная сила директоров. В соединении они и приводят к тому, что эти низкооплачиваемые «единицы» из года в год везде и всюду с железной последовательностью выпадают из штатов. Но техники нужны заводам? Необходимы. Как же быть? Хочешь не хочешь, а «оформляй» их инженерами. Отныне для того, чтобы заниматься своим прямым делом, которому их учили в течение четырех лет, чтобы выполнять исконные обязанности техников (и получать, добавлю я, вполне заслуженную зарплату), они вынуждены именоваться инженерами. К слову сказать, и для Ивана Кулакова нашелся в конце концов инженерный оклад. Вот и «исчез» техник. Помню, еще прежде, на Ленинградском металлическом заводе, я столкнулся со всей этой хитрой механикой. Там в инженерах ходили не только техники, но и делопроизводители, нормировщики, диспетчеры, секретарши, агенты по снабжению. В одном только отделе внешней кооперации двадцать таких агентов числились инженерами и старшими инженерами. Меньше всего я хочу обидеть их: работники все были дельные, выручали завод. Но зачем этот обман? Кому он нужен?.. Мне показали выводы бригады Госплана, изучавшей на заводе кадровый состав: «Преувеличенный удельный вес инженерных должностей вызывается не действительной потребностью в инженерных знаниях, а необходимостью обеспечить минимум заработной платы для лиц, выполняющих ответственную работу…» Мне сказали, что такие бригады выехали и на другие заводы, что исследования ведутся не первый год, что будут сделаны все необходимые выводы. И я не стал об этом писать. Раз уж изучением вопроса занялся сам Госплан, полагал я, литератору делать нечего. Притом и очковтирательства тут не было. Во всяком случае, те, кто «втирал», и те, кому «втирали», одинаково были в курсе дела. Не скрою наконец, что и сама тема не показалась мне в ту пору важной. Ну не все ли равно, как назвать человека — инженером, техником, служащим, клерком? «Хоть горшком назови…»
НАЗНАЧИЛИ кота ловить мышей. А по штатному расписанию провели тигром. Кот мышей ловит. Справляется. Но им недовольны: не тянет на тигра!.. К сожалению, это не просто притча. Это притча во языцех. Она в зубах навязла у заводских кадровиков. — Висим в облаках, — сказал мне Валентин Фатеев. — Придет завтра товарищ из МВТУ или из Института стали, и будь здоров. И с приветом! Его — на мое место, а меня — бригадиром. Образование-то не соответствует. Слова обретают подчас самостоятельное, гипнотическое значение. Казалось бы, пустяк, закорюка в списках, глядь, а она уже командует судьбами людей! И мы не властны над закорюкой. Назвавши человека груздем, мы силком норовим загнать его в кузов: вынь да положь инженерный диплом! А его нет, диплома, откуда ему взяться? И техник ощущает собственную неполноценность. Самые блага, честно заработанные им, он получает словно бы незаконно, крадучись. Разговор тут не об одной зарплате, а о всей, так сказать, сумме общественного признания труда. Право, неуютная выходит жизнь, когда годами называешься не тем, что ты есть! В цехе ковкого чугуна я познакомился с Александром Николаевичем Шмариновым. По образованию — техник, по штатному расписанию проведен старшим инженером-технологом. Несколько лет он пребывал в этой роли и хорошо справлялся с делом, но в силу вышеназванного «несоответствия» числился исполняющим обязанности. Пришел из МВТУ молодой инженер Сенин, и наш «и. о.» уступил ему место. Сенин, человек энергичный, поработал около двух лет и ушел в совнархоз. Снова позвали Шмаринова, и был он «и. о.». Пришел выпускник Одесского политехнического Палубков, и опять Шмаринова сняли. Новый инженер тоже был парень дельный и по прошествии полутора лет из цеха ушел. Кого позвали? Правильно: Шмаринова. При мне он уже не был «и. о.», ему надоела вся эта колготня, он сам поступил на заочный, добрался до третьего курса. — А кончите, что станете делать? — Конечно, уйду! — ответил Шмаринов. Знаем ли мы толком, где нужен инженер, а где техник? Умеем ли строить кадровую политику, исходя не из «тарифно-сметных», а из деловых соображений? Да и как, скажите, изучать потребность нашей индустрии в сержантах, если до сих пор нет даже методики изучения (где они — выводы Госплана?). Между тем заводы начинают верстать планы по кадрам на будущее. Штатных единиц для техников мало, зато в полном соответствии с «закорюками» везде требуются инженеры. Эти дутые заявки собираются, обобщаются, и вот Татария просит выделить ей две тысячи инженеров и только семьсот техников, Московская область (соответственно) — пять тысяч и две, и так повсюду; требования сходятся в Госпланах республик, их учитывают, и вот уже в Узбекистане техников готовят чуть ли не вдвое меньше, чем инженеров, в Грузии — еще того меньше… Вы понимаете? Речь идет уже не о мнимых величинах, а о настоящих «живых» специалистах — о нашем будущем. Техники-то, как видите, и в самом деле начинают исчезать.
1963 год.

Растрата образования
ХОЧУ доспорить этот спор.
Все оказалось не так просто, как я думал. После того, как «Известия» опубликовали статью о сержантах индустрии, посыпались читательские письма. Были и звонки в редакцию.
И вот я сижу в кабинете у человека, который с моими выводами решительно не согласен. Это один из членов коллегии Министерства высшего и среднего специального образования СССР.
— Было бы куда полезнее, — говорит он, — если бы вы призвали людей учиться. Надо создать зуд к учебе у техников. Создать такое общественное мнение, что каждый техник должен получить высшее образование.
— Почему же непременно каждый?
— Надо думать о будущем, — так он ответил. — Если сегодня (это вы верно подметили) техник еще справляется с задачами, то завтра он неминуемо отстанет. Уже появились машины, на которые и инженера не стыдно ставить. Расти должны все. Темпы нашего развития…
В общем вы, наверное, уже представляете, что именно он говорил. Я пробовал возражать. Дождавшись паузы, сказал, что эта «схема роста» мне хорошо известна. Конечно, каждому, кто пожелает учиться, надо предоставить для этого все возможности. Но если рабочий хочет остаться рабочим, если техник хочет быть просто хорошим техником, это тоже прекрасно.
— Вы неправы, — сказал член коллегии. — Человеку нужен стимул. Мы даже намеревались, был такой проект, подключить жен. Не понимаете? Ну, тем товарищам, у которых образование не соответствует должности, снизить зарплату, скажем, процентов на десять.
Вот такой был разговор.
Значит, сперва мы исконные должности техников объявляем инженерными, а после требуем, чтобы техники, все поголовно, и впрямь стали инженерами. Да еще хотим подключить жен: пусть пилят неученых мужей. Стройная концепция!
В кабинете все выглядело просто: есть у тебя право на образование — используй это право. А я помнил нелегкий труд техников, понимал, каково им, семейным людям, после целого рабочего дня долбить по ночам интегралы. Я знал, что такая учеба — подвиг, который не каждому под силу. А главное, рискну я добавить, далеко не каждому это и нужно.
Нельзя техника считать недоучившимся инженером — вот главное. Так же как инженера не следует считать недоучившимся кандидатом наук, а профессора — бедолагой, который не сумел выйти в академики. Все мы чему-то недоучились в жизни. Ошибка думать, что любой юнец с вузовским дипломом, «шутя и играя», заменит техника в цехе, что плохой инженер автоматически станет хорошим техником. Это все равно что сказать певцу: «Не можешь петь басом, пой тенором!» Плохой журналист — это плохой журналист, а вовсе не хороший метранпаж.
О будущем — особо. Я предвижу такое возражение: автор уткнулся носом в сегодняшний день и дальше своего носа не видит, а надо бы автору учесть грядущие перевороты в технике… Что ж, мне памятна, к примеру, революция в самолетостроении. На истребителе МИГ-9, одном из наших реактивных первенцев, «простым» механиком работал Владимир Васильевич Пименов, дипломированный инженер, опытнейший конструктор. На такую машину и впрямь не стыдно было поставить инженера. А дальше? Дальше испытания самолета кончились, реактивная авиация стала бытом, Пименов вернулся в свое КБ, а механиками на новых машинах работают, как и прежде, механики. Полагаю, что, когда рейсы Земля — Марс войдут в обычай, заправлять горючим межпланетные корабли и делать предполетный осмотр будут не Главные конструкторы и даже не просто конструкторы, а все те же опытные, преданные делу техники.
Возможно, тут я и ошибаюсь, но, как бы там ни решился в будущем этот спор, формула «чем больше инженеров, тем лучше», — плоховатое обоснование для перспективных планов. Готовить специалистов для будущего «вообще», так сказать впрок, накладно. Накладно и бессмысленно. Металл от времени ржавеет, станки — морально устаревают. Образование — это такой инструмент, который от бездействия тупится.
ЭТИ ЗАМЕТКИ не относятся к числу газетных выступлений, за которыми должны следовать немедленные отклики: «Меры приняты». Задача тут иная: дать материал для раздумий и споров. Мы рассмотрим теперь случай, когда отделу кадров удалось добиться желанного «соответствия»: на должность техника, обманно названную инженерной, и в самом деле поставлен инженер. Он держит в цехе, в своем рабочем столе, вузовские учебники. Чтобы не забыть того, чему научился в институте. Должен заметить, что Эрнст Полисар сам попросился на завод, и именно на этот Люберецкий имени Ухтомского, и именно в литейный цех: здесь работал прежде его отец. И вот за два года ему ни разу не пришлось взять в руки логарифмическую линейку. — Хороший я инженер или плохой, никто не знает. И я не знаю. Наверное, никакой. Наш мастер дядя Саша, Александр Трофимович Кузнецов, считается моим подчиненным. А на деле любой вопрос, который мне надо решать, он решит не хуже меня. Да что я говорю, лучше! Он уже сорок лет на заводе. Вот если кому из рабочих задачку надо решить (у нас многие учатся на вечернем), идут ко мне. А если опок не хватает — к дяде Саше. Вначале Полисар старался быть инженером. В цехе работал Юрий Невзоров, тоже выпускник вуза, вместе они затеяли исследования процессов отжига, увлеклись, ставили опыты, бегали в лабораторию. Результатом был выговор в приказе, и посрамленный Невзоров ушел с завода — в научно-исследовательский институт. Тут можно бы создать красочную новеллу о новаторах и консерваторах, но сейчас Эрнст и сам понимает, что выговор был правильный: мастер участка Невзоров и технолог Полисар не имели права в рабочее время заниматься посторонними делами. Они забросили свои прямые обязанности, и пошел брак… Конечно, новеллу можно «повернуть» и в другую сторону: упрекнуть новаторов в том, что недостало им упорства. Они должны были по ночам оставаться в цехе, и продолжать, и победить. Однако спросим себя: почему, какого черта, инженерией инженеры должны заниматься по ночам? С той поры Полисар честно занимается своим «прямым» делом: составляет приемо-сдаточные накладные, устраняет мелкие неполадки, бегает в соседние цехи, «выбивает» у смежников опоки, штыри, шплинты. Добрый дядя Саша учит его: «Ты, слышь, Эрик, ты поспокойней. Если со скандалом, он тебе скажет: план! Я его двадцать лет знаю. Ты к нему по-доброму: мол, выручь. И получатся у вас взаимные отношения». — Недавно встретил ребят со своего курса, — сказал мне Полисар. — Будто и шли вровень, и соображал я не хуже, диплом получил с отличием. И вот идет у них разговор — о последних конференциях, новинках, точках зрения светил: «Ты в Таганроге когда был? До пуска или после?» А я стою лопух лопухом! И вижу: говорить со мной они могут только о футболе. Он славный парень, комсомолец, он сполна отработает на заводе положенные три года. И уйдет в первый же день, как окончится срок. Уйдет в поисках настоящего дела. Уже на его памяти только из литейного цеха ушли пять инженеров. А может, и не уйдет Полисар — привыкнет, втянется. Многие привыкают… Что же дальше? Дальше — бытие определяет сознание. Инженер, который пишет бумаги, становится делопроизводителем. Инженер, который бегает за опоками и шплинтами, становится снабженцем. Но это ведь дорого, просто-напросто дорого для государства — шесть лет готовить делопроизводителя или агента по снабжению. Происходит самая страшная из растрат — растрата образования. Когда человек, которого учило общество, занят не своим делом — это бесхозяйственность. Когда знания, полученные им, не «работают» — это омертвленный капитал, прямой убыток государству. Куда более страшный, чем станки, ржавеющие под снегом.
ВСЕ СМЕШАЛОСЬ в отделах кадров. Вот еще картинка с натуры, в своем роде символичная. На одном из участков равноправно трудятся три мастера: дипломированный инженер Лапицкий сдает смену технику Мартынову, а тот — Стародубову, практику, такому же, как дядя Саша. Так и идет смена, и подите разберитесь, техник ли тут дорос до инженера или инженер выполняет обязанности техника. Все трое именуются «ИТР», и это незаконнорожденное канцелярское словоизобретение (не говорим же мы: «врачебно-сестринские работники» или «сержантско-офицерский состав») надежно скрывает истинное положение дел. — Вот у меня два технолога, — сказал мне начальник 20-го цеха. — Образование у одной высшее, у другой — среднее, а для меня они равны. Ну, одна поактивней, другая потише. В характере разница, а так одинаковы. И ведь прав — одинаковы! В последние годы я все чаще встречаю на заводах и в учреждениях секретарей с высшим образованием. Рядом — такие же секретари с десятилеткой. Которые лучше? Одни «поактивнее», другие «потише», одни бойко печатают на машинке, другие — еле-еле, стенографии не знают ни те, ни другие: их ведь не учили специально этой работе. Да вы посадите торговать билетами метро академика и члена-корреспондента: который справится лучше?.. Но как только должности, лукаво названные в 20-м цехе «инженерными», действительно потребуют решения инженерных проблем, скажем, знания высшей математики, разница проявится в первый же день. В том-то и беда, что при нынешней путанице с кадрами высшая математика этим инженерам никогда не понадобится. Само дело, порученное людям, вместо того чтобы тянуть их вперед, изо всех сил осаживает назад. Вот к чему приводит на деле архипрогрессивное стремление «вообще» к высшему образованию. Вот почему приходится выступать против обывательских (другого слова не подберу) представлений о кибернетическом веке как о царстве кнопок, которыми командуют «исключительно инженеры». Нет, кибернетика — наука более умная. Она требует научной организации труда. Попросту говоря, грамотной расстановки сил, когда каждый человек соответствует своим обязанностям и четко их выполняет. Надо легализовать положение техника. Назвать его тем, что он есть, — техником. И в этом качестве уважать и ценить. И инженера назвать инженером, и использовать как инженера, покончив с «уценкой» этого звания. Разумеется, гордиев узел, который завязывался десятки лет, разрубать следует с умом и тактом. Люди с дипломами техников, которые давно уже руководят отделами, группами, большими цехами и справляются с делом, останутся на этих постах и впредь. Правил нет без исключения. Но должно быть правило, а его пока нет.
* * *
Образование стало всенародным в нашей стране. Впервые в истории оно доступно всем, от этого… как бы потеряло цену. Когда на всю Россию-матушку было двадцать три тысячи врачей, никому не приходило в голову поручать им мытье колб и писание бумаг. А теперь у нас врачей полмиллиона. И инженеров больше полутора миллиона — богато живем. Зачем же «крохоборничать»? Бумаги писать — пусть пишут, по телефонам звонить — пусть звонят, на машинке стучать — давай!.. Но ведь и электроэнергии в царской России было всего два миллиарда киловатт-часов, а теперь свыше пятисот миллиардов! Однако экономим, зря лампочек не зажигаем. И уголь бережем, и чугун, и нефть. Так пора уже нам научиться экономить знания, способности, таланты людей. Экономить — значит, исчерпывать до дна.1963 год.
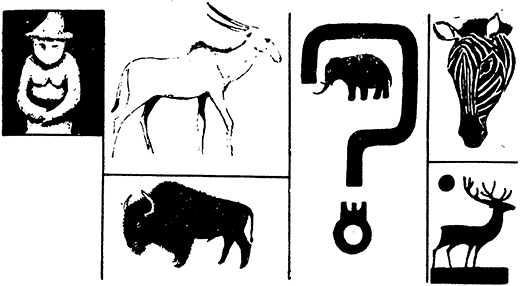
Аскания-Нова
РЕДАКЦИОННОГО задания на сей раз не было. Все началось проще.
Сын пришел из школы с победной вестью: он достиг роста взрослого пигмея. Как-то там они это вычислили. Ну само собой, человеку такого роста нельзя уже просто отдыхать в пионерлагере или в деревне Брыньково. Пора отправляться в настоящее путешествие.
Мне бы замять разговор, перевести на другое, но по неосторожности своей я ударился в воспоминания. И сын узнал, что, когда мне было столько же лет, сколько ему, отец брал меня с собой в одну командировку. В некий сказочный край. Антилопы, бизоны, страусы, лани бродят там на воле. Где? Не в Африке и не в Америке, а на юге Украины, в степи под Херсоном. Аскания-Нова — так называется сказочный край. Слово было сказано.
После этого сыну оставалось всего лишь по-умному взяться за дело. Он был памятлив, у меня подошло время отпуска — так мы попали с ним в Асканию-Нова. В некотором роде это было путешествие в страну детства.
…Антилопы не убегали от нас, а бежали навстречу. Это было как во сне, как в детской легкой мечте. Синее небо, желтеющая до горизонта степь, и вольные звери в степи. Впереди всех летели канны, стройные и мускулистые; еще издали были видны их грозные рога.
Мы сидели в бричке на пахучем сене, и как-то нам расхотелось в тот момент сходить на землю. Заранее еще нас предупреждали, что лучше этого не делать: дикие — они и есть дикие, конвенции с ними не заключишь, для пешего они бывают опасны. А всадника не тронут. Вот только одного мы не успели спросить: считают ли они «всадниками» тех, которые не верхом, а на телеге?
Пока мы решали этот теоретический вопрос, канны подбежали к бричке, окружили со всех сторон, задышали нам в спины. На лбу их курчавились темные завитки волос, белые полосы тянулись по желтовато-серому сильному телу, рога при ближайшем рассмотрении оказались прямыми, черными, острыми, как штыки. Можно было поверить, что иной раз эти антилопы, самые крупные в мире, выдерживают единоборство со львом. А глаза были прекрасные и добрые.
Тем временем Василий Дмитриевич Иванченко занялся делом. Он смолоду работает в Аскании, знает все повадки животных и, пожалуй, лучше всех умеет ладить с ними, а по должности именуется скучно — бригадир секции копытных. В общем, он взял мешок с молотым ячменем и пошел раздавать его своим подопечным. Звери потянулись за ним: они хорошо знают свой час.
Тут были не одни антилопы. Паслись благородные олени — европейские, бухарские, пятнистые, вапити, северные. И еще асканийские маралы — новая форма, выведенная в этих местах. Паслись изящные лани с рогами-лопатками. Был здесь африканский скот ватусси, аравийские зебу, индийские бантенги, монгольские куланы, кафрские буйволы, наши древние зубры. Откуда-то появился еще гуанако, лохматый зверь из Южной Америки, очень деятельный и очень бестолковый. Глаза у гуанако печальные и пристальные, будто надо ему что-то сказать по секрету, да вот беда, забыл… Нельзя сказать, что звери были вполне свободны. Эта степь, где пасутся они с мая до октября, была в сущности большим загоном. Но когда изгородью обнесены сто десять гектаров, то они остаются степью. Тут места хватало для всех.
Особняком держались голубые гну. Лошадь не лошадь, быки не быки, жутковатые такие звери с плоскими мордами, кривыми рогами и злющими черными глазками. Их в Аскании тоже пытались одомашнить, выпаивали с рук, и они привыкали к человеку. Итог был неожиданный: привыкнув, гну переставали бояться и, случалось, нападали на людей. Тогда до поры их оставили в покое, и они строптиво хранят свою независимость, изредка ревут с угрозой: не суйтесь, мол, покуда целы.
Еще дальше паслись бизоны. Большое хмуро-молчаливое стадо. Эти вовсе вышли из доверия, с ними был всадник, именуемый по штатному расписанию пастухом. Скучные мы люди, право! «Пастух», «смотритель животных» — это все о тех, кто умеет загнать бизона, свалить буйвола, поймать арканом дикую зебру. Да и вообще где еще в мире пасут бизонов и антилоп? Но вот, поди ж ты, романтика ковбоев и мустангов каждому памятна с детства, а тут — «бригадир секции копытных».
Приезжал в Асканию д-р Гржимек, директор зоопарка из Франкфурта, известный исследователь Африки.
— Льва я снимал с десяти шагов, — сказал он, — это уже тривиально. Но канну снять не мог. Только с большого расстояния, только телевиком. Послушайте, антилопы это у вас или не антилопы?
Канны здесь не только ластятся к человеку. Кажется, впервые асканийцам удалось создать — я бы сам не поверил, если б не увидел, — дойное стадо антилоп.
ГОВОРЯТ, в войну был такой случай. Наши артиллеристы, лишившись коней в бою, запрягли зебру. И она исправно тянула тяжелое орудие, заменив коренника и двух пристяжных. Так выяснилось, что зебры не только хороши собой, но еще и выносливы. А надо сказать, зебр в Аскании немало. Второй эксперимент окончился, впрочем, менее удачно. Приехали кинематографисты снимать эпизоды для «Доктора Айболита». И захотелось им, чтоб добрый доктор прокатился на зебре. Роль его на этот случай вызвался сыграть Николай Васильевич Лобанов, научный сотрудник, большой любитель животных. Его загримировали, нарядили в белый халат, а очки у него были свои. И он сел на зебру и даже проехал несколько шагов. Но оказалось, что зебры этого не любят, и Николай Васильевич полетел на землю. Посмотришь на козерога — смирнее зверя нет. Стоит часами на деревянном помосте, заменяющем ему горы, стоит, как изваяние. Но однажды лечили козерога, и ветеринару понадобилось взять кровь на анализ. А козерог этого не знал. И вырвался, вскочил на ноги, выставил свои умопомрачительные рога. Тут и случился асканийский рекорд: ветеринар, хоть был в «тяжелом весе», вмиг перескочил трехметровый забор. А козерог улыбнулся и снова полез на свою верхотуру. Так что характер — штука серьезная. Антилопу-гну десятки лет приручали здесь, а вот не подобрела. Зебры сколько ни живут с людьми, а все дичей дикой лошади Пржевальского. К африканским черным страусам тоже лучше не подходить… И все-таки, и все же не ошиблись ли наши пращуры, когда отбирали себе помощников в животном мире? Тот же страус: мяса от него — центнер, да полсотни яиц, да каждое яйцо на два кило. Чем плохая была бы несушка? И с зеброй стоило повозиться древним людям: три лошадиные силы — это как-никак мощность! Наконец, подбирая кандидатуру на пост будущей (через много тысячелетий) коровы, могли бы они подумать и об антилопах каннах: жирность молока у них такая, что корове и не снилась. Вот рассказ Екатерины Степановны Черноиваненко: — Венера родилась у нас в войну. Мать ее погибла при бомбежке. Ну, я выпаивала ее молоком зебу. Выросла совсем ручная. Шалунья. Кто ей не по нраву — сейчас на рога его. Я, конечно, скажу: «Ты что, Венерка?» Повернется и пойдет. Подошел ей срок, отелилась, а канченок пал. Жаль мне ее, решила хоть сколько отдоить. Она, конечно, волновалась, а я с сахарком: «Ты что, Венерка?» И ничего, привыкла. За лактацию давала до семисот литров, и жирность — двенадцать процентов. А у Ванды, второй ее дочки, до девятнадцати доходило. Теперь-то у нас доярок много. Не следует, однако, думать, что, раздаивая канн, асканийцы вознамерились исправить историческую несправедливость. Древние, в общем-то, не ошиблись. И если, к примеру, сегодня нам приходится одомашнивать маралов (ради целебных пантов) или платиновых лис (ради манто), то это, так сказать, детали, упущенные предками. В основном же кандидатуры будущих коров, овец, свиней, лошадей отобраны ими удивительно точно. Делать из антилопы корову, а из страуса курицу никто сейчас не собирается. Как только мы согласимся с этим, как только займем эту трезвую позицию, тотчас же возникнет вопрос, сформулированный однажды Аркадием Райкиным в такой форме: «Зачем слон советскому человеку?»
СЛОНОВ в Херсонской области, и в частности на территории Чаплинского производственного управления, пока, слава богу, не разводят. Но антиантилопьи настроения там уже дают о себе знать. Сам директор института сказал мне, что антилопы (и прочие дикие) в тягость научно-опытному хозяйству. — Мы подсчитали: если б у нас не было зоопарка, то мы бы со ста гектаров сдавали вместо шестидесяти трех центнеров свинины семьдесят пять. А это для нас имеет большое значение. Начинается печальный рассказ. Аскания-Нова известна всему миру не только своими работами по одомашниванию диких животных. Тут с давних пор создаются новые замечательные породы домашнего скота — овец, свиней, коров. Тут имеется богатейший музей, есть ботанический парк, где испытаны сотни пород деревьев и кустарников, есть искусственные пруды с редкими птицами; тут есть, наконец, большой участок заповедной степи. Последний островок целинных степей на юге страны. Тех самых, по которым скакал со своими побратимами Тарас Бульба, о которых Гоголь воскликнул: «Черт вас возьми, степи, как вы хороши!» С них мы и начнем. Было их, нетронутых, двадцать пять тысяч гектаров. На карте страны — точка, в масштабе республики — малость, даже в Херсонской области — меньше полутора процентов пахотной земли. Но десять лет назад Аскания-Нова из Всесоюзного научно-исследовательского института гибридизации и акклиматизации животных была преобразована в Украинский институт животноводства степных районов. Командовать здесь, определять планы, цифры поголовья и прочее взялось Чаплинское производственное управление. А для него это площадь! Короче, распахали сперва девять тысяч гектаров. Потом еще шесть тысяч. Потом начали помаленьку пасти овец на заповедной земле, потом стали косить тысячелетние ковыли, и это было весьма удобно, потому что плана-то на эту площадь институту не давали. Сейчас «абсолютно заповедной степью» числят всего полторы тысячи гектаров. Последние… Необратимость — вот что пугает здесь более всего. Скосить было недолго, решили — сделали. Да и сена-то собрали мало, никого оно не выручило. А ведь того, что было, уже не восстановишь. Никогда. Никакими силами. Аскания-Нова — первый зоопарк мира, куда были завезены дикие лошади Пржевальского. Известно, что они исчезают с лица земли, оставшиеся особи — во всем мире наперечет. В годы войны асканийский табун весь был уничтожен фашистами, но одного жеребца удалось потом в Германии найти; я читал его родословную. Предки Орлика были вывезены из Бийска за рубеж еще в начале века, мать его, Рома, явилась на свет в Вашингтоне, отец, Невиль, — в Уайпснеде, они встретились в Геллабруне; от этого династического брака родился Орлик. В 1948 году его вернули на родину, еще три года спустя из Монголии к нему доставили чистокровную Орлицу-III, и только тогда вновь стало возможно у нас в стране разведение диких лошадей. Опять-таки, если не сохранить их, то потом уже не восстановишь. Никогда. Никакими силами. Что-то понадобилось ученым, они обратились в Министерство сельского хозяйства УССР, и вот какую резолюцию начертал один из заместителей министра: «Кiнь Пржевальского не має нiякого народно-господарьского значения, ось чому його розведення не визивається потребою». Зачем дикая лошадь советскому человеку? Вы можете подумать, что, отказавшись от диких, здесь с удесятеренной силой взялись за домашних. Увы, и этого я не могу сказать. В ту далекую уже пору, когда в Аскании-Нова работал замечательный наш ученый — академик Михаил Федорович Иванов, и антилопы тут были в фаворе, и создавались знаменитые отечественные породы скота. Тучные не поедали тощих, и тощие тучным не были помехой. А сейчас даже коллекционное стадо овец, собранное самолично Ивановым в Англии, Германии, Америке, по всей нашей стране, — даже оно «мешает». Академик Леонид Кондратьевич Гребень жаловался, что трудно стало прокормить это стадо. Все лучшие земли отданы товарному поголовью. — Мне с моими овцами и податься некуда. Представьте, никому они вдруг стали не нужны! А что нужно? Свинина нужна, говядина, шерсть, молоко, зерно — это все и производит нынешняя Аскания, как самый обычный совхоз. Даже племенное животноводство отошло на второй план. Гонят туши на мясокомбинат, и все тут. Отнесемся с полным уважением к труду асканийских чабанов, стригалей, свинарок, шоферов, трактористов. Они героически трудились и собрали богатейший урожай, и план кругом перевыполнили. Но они же вправе спросить: если это простой совхоз, каких тысячи, так не накладно ли ему содержать десятки ученых? А если все-таки институт, каких в мире нет, так почему научные исследования стали вдруг помехой? Сидят сейчас асканийские зоологи, привычно отбивают атаки, клянчат деньги на ремонт обветшалых антилопников и страусятников. И слышат в ответ: ближе к жизни, товарищи!
ДА, ПУТЕШЕСТВИЕ в страну детства кончилось. Я окончательно убедился в этом, когда узнал о письме Крымского общества охотников. До них докатился слух (характерный слух), что-де в Аскании намечен «массовый отстрел диких животных Азии и Африки». И вот заволновались товарищи охотники и просят сообщить сроки отстрела, чтобы и они могли принять участие. Тут уж мне стало, как говорится, не до смеха. С утра я приходил в контору, садился за стол, листал протоколы, выписывал цифры, так сказать, вооружался материалом до зубов. В Аскании-Нова ежегодно бывает до 50 тысяч экскурсантов — надо это запомнить. Директор Будапештского зоопарка Ч. Ангхи сказал: «К вам мы стремимся, как турки в Мекку», — тоже может пригодиться. После войны институт передал другим нашим зоопаркам около полутора тысяч ценных животных, за которых в противном случае пришлось бы платить валютой, — солидный экономический эффект. На Украине и в Молдавии трудами асканийцев заложено десять очагов вольной акклиматизации оленей, фазанов, ланей. Сотни животных выпущены в охотничьих угодьях; на остров Бирючий, например, отправили восемнадцать маралов, а теперь их там несколько сотен… Все это я аккуратно заносил в свой блокнот, а научные сотрудники зоопарка подкидывали мне все новые «пользы». Молоко канн оказалось целебным, год уже весь удой отправляется в областную больницу, и есть данные, что это молоко залечивает язву желудка. Разве это не важно? Что же касается зебр… Но тут я разозлился, и оторвался от бумаг, и сказал себе, что и впрямь пора вернуться к жизни. Ближе к жизни, товарищи! Асканийские энтузиасты, затюканные хозяйственниками, сами заговорили их языком. Им говорят, что дикая лошадь не имеет народнохозяйственного значения. А они доказывают: нет, имеет. Да разве в этом дело? Разве только в этом? А если зебру так и не удастся запрячь в бричку, убить ее за это, что ли? А если, не дай бог, молоко канны не окажется целебным, что же, и ее тоже того… отстрелять? Последний на земле тур был убит в лесах под Варшавой в 1623 году. Зубры водились на Украине еще в середине XVI века, но затем были истреблены. Были близки к полному уничтожению тарпаны, многие виды антилоп, конец приходил лосям, бизонам — хищническое истребление живой природы сопровождало капитализм во всех уголках земного шара. Так кто же, если не мы, сохранит сегодня все, что существует? Мы просто обязаны вручить нашим детям, детям наших детей мир не голым, не обструганным, а живым, во всем его красочном многообразии.[3] Для чего? Как-то приезжал в Асканию-Нова один трезвый товарищ, по профессии зоотехник. Тоже все спрашивал, для чего. Вот овца — от нее шерсть и опять же шашлык. Или корова — каждый скажет, нужна. Или, к примеру, свинья, тут уж и говорить нечего. А эта вся «экзотика» — пустое. Барская затея, зряшная трата денег. Так он «доводил» зоологов, и они, понятно, «закипали». И вдруг прервался спор: из лесу выскочил на опушку олень. Закинув сухую свою точеную голову, расставив тонкие ноги, раздув трепетные ноздри, он уставился на спорщиков карими глазами, закатное солнце золотило неописуемые его рога. И вдруг исчез, словно и не было его. — Хорош! — вздохнул трезвый товарищ. — М-да… Так о чем это мы?
1964 год.

Разговор с фининспектором о прозе
ОН СИДИТ в своем служебном кабинете и смотрит на меня с тщательно скрываемой неприязнью. Скрипят двери, входят люди, он говорит с ними, просматривает бумаги и снова поднимает на меня занятые глаза. Он сказал, что цифр показать мне не сможет и что вообще для разговора с представителем прессы ему требуется разрешение вышестоящего начальства.
— Но мне цифры не нужны, — сказал я.
— Что же вам нужно?
— Хочу понять принципы вашей работы.
— Никаких принципов у меня нет! — сказал он.
Тут была длинная пауза.
— Чем же вы руководствуетесь в работе?
— Инструкциями…
У меня тьма вопросов к занятому человеку, но он поднимается, давая понять, что разговор окончен, и я ухожу. А вопросы остаются. Они возникли в Уфе, на заводе синтетического спирта, во время моих недавних встреч с химиками. Завод этот торжественно был пущен в 1956 году, но только в 1959 году начал по-настоящему работать. Около трех лет хромал гигант, почти не давая отдачи. Как это вышло? Почему?.. Вначале я пробовал подойти к уфимским делам с позиций высокой морали. Потом решил взглянуть на них с точки зрения суровой прозы жизни.
В Уфе я умилялся сверхмолодостью коллектива: средний возраст — всего 24 года. А теперь задумался: что тут, в сущности, хорошего? Что хорошего в таком решении проблемы химических отцов и детей, когда «дети» вынуждены сами, почти без присмотра «отцов», осваивать сложнейшие производства?
При мне на заводе подбирались кадры на новый объект (цех фенол-ацетона). Я видел, как это выглядит в жизни. Молодежь шла охотно. «Пускать здорово! — сказал мне аппаратчик Асхат Баязитов. — Все новое, приборы новые, процесс новый. Ну, потеряю рублей тридцать в месяц, зато интересно!» Можно понять ребят: они учатся на пуске, быстрее растут, легче выходят на командные посты. Да и то надо принять во внимание, что им, холостякам, проще обойтись сокращенной зарплатой. Иное дело опытные инженеры-химики, которые больше всего нужны на пуске. Тут уж особого энтузиазма я не наблюдал. Велись долгие беседы в директорском кабинете, «отцы» жаловались на многодетность, приносили справки о диабете, их вызывали на партбюро, к сознательности их взывали, к чувству долга, и все равно далеко не все соглашались идти на пуск… Можно ли винить тех, которые не шли (и, между прочим, оставались на заводе, в цехе, в химическом цехе), можно ли честить их обывателями? Я бы лично не решился.
— Гаганову все знают, — сказал мне уфимский директор, — она начинала одна. А у нас сейчас только на Средней Волге больше восьмидесяти пусковых объектов. Вот и считайте, сколько нам нужно Гагановых.
Они идут. В конце концов не взирая ни на что идут. Пошел, к примеру, инженер В. Титов, который и до этого пускался трижды. («Идешь на новый объект, — сказал он мне, — снимай старые выговора. Почему? А новых не миновать. Аппараты — сырые, люди — зеленые…») Но не будем обманывать себя: не все таковы. Тем более, что гагановское движение тут, по совести, ни при чем. Одно дело сознательно пойти на временные трудности, чтобы помочь своим товарищам, и совсем другое — лишиться трети заработка из-за трудно объяснимых несуразностей в тарифной сетке.
То, что труд химика на пуске стократ сложней, — понятно и в доказательствах не нуждается. И то, что ответственность тяжелей, и нервотрепки больше, и всякого рода житейских неурядиц… Но почему труд, требующий больших познаний, опыта, душевной отваги, должен оплачиваться хуже, чем труд, который спокойней и проще, — этого, простите, никак мне не понять.
РАССУЖДАЯ философски, сказал мне один из уфимских товарищей, трудности становления неизбежны. Кроме подготовки людей существует еще «подготовка» машин, они также должны «сработаться», и на это нужно время. Будь на заводе даже сверхзрелый коллектив, все равно бы не обошлось без болезней роста. Но я не хотел рассуждать философски. У меня перед глазами был иной пример: здесь же, в Уфе, вторую очередь синтезспирта, цехи той же мощности, пустили и освоили всего за один месяц. Значит, можно? Ну да, возразите вы, как возражали мои собеседники, это же вторая очередь! В том-то и суть, что ей предшествовала первая. И она вылезла на плечах этой первой, учла ее ошибки, использовала ее опыт, технические решения, кадры, наконец, — разве не так? Вот если бы головному заводу предшествовало нечто, если б он сам мог заимствовать чей-то опыт… Оказалось, была такая возможность. В решении о строительстве заводов синтезспирта была записана опытно-промышленная установка. Прежде чем закладывать несколько гигантов химии, прежде чем заказывать для них для всех оборудование, решено было сделать одну-единственную «нитку» со всеми аппаратами в натуральную величину. Для того чтобы на ней выяснять недуги, устранять ошибки, вносить исправления в проект и готовить людей — ядро будущих коллективов. По плану эта установка должна была появиться еще в 1952 году в городе Дзержинске. Не появилась. Назначен был новый адрес и новый срок: Уфа, 1955 год. Опытной «нити» нет и по сей день. Завод сам, так сказать, лично переболел всеми болезнями, сам обучил свои кадры, давно уж стал передовым, вышел на первое место в мире, а скромную установку все еще строят. Она, бедняга, устарела, не родившись. Почему так вышло? Опять экономия. Другого (разумного) объяснения мне и тут не найти. Решили люди во что бы то ни стало сберечь государственные деньги. А на чем? Без реакторов никак не обойдешься, без трубопроводов тоже нельзя, а вот без опытной установки можно. Тут придется нам взять карандаш в руки. Уфимская «нитка» стоила бы миллион рублей. Эти деньги и удалось сберечь. Так сказать, чистая прибыль. А убытки?.. Давайте считать. Химия тем отличается от других родов промышленности, что здесь, дает ли завод продукцию, нет ли, а энергию, топливо, пар, сырье все равно использует. Не говоря уж о заработной плате. В 1956 году завод, в сущности, не дал спирта — один процент плана. А вот перечень затрат (в рублях):
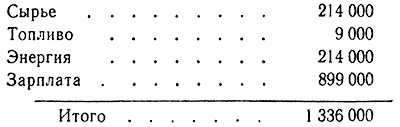
В первый же год ухнула вся «экономия». Еще и не хватило. Но пойдем дальше. Я цитирую «Объяснительную записку к ведомости затрат»:
«…Кроме того, в процессе пуска и освоения необходимо было осуществить ряд мероприятий по реконструкции отдельных узлов. Перерасход по выполненным работам составил 1 302 000 рублей».Вы считайте, считайте! Отдача завода и в 1957 году была более чем скромна, а затраты возросли до 6 514 000 рублей. Расходы, которых могло не быть, уже в девять раз перекрыли «экономию». Но и это не все. Завод и в 1958 году проектной мощности не достиг, вдобавок он не один на белом свете, у него есть меньшие братья — куйбышевский завод и другие. И хотя им легче было выйти в люди, оборудование (типовое) и там пришлось «переобвязывать», реконструировать, менять, а энергия тем временем использовалась, сырье затрачивалось, зарплата шла. Приплюсуйте сюда убытки от «недопроизводства». Ведь все эти годы гиганты химии могли бы приносить доход, да не принесли. Последнее замечание. Оно необходимо для полной ясности. Просто я не хочу оставлять в руках у оппонентов еще один довод, достаточно сильный. Не все измеряется деньгами — так мне говорили. Есть еще «фактор времени». Порой приходится идти на некоторые потери в средствах ради главного выигрыша — в темпах развития. На первый взгляд это звучит вполне убедительно. Да видимо, и есть такие случаи, когда полезен и оправдан риск. Но где он в Уфе, этот выигрыш времени? Ну, сэкономили год на том, что отказались от опытной установки. А после около трех лет убили на освоение завода. Первого-то торжественного пуска, хоть и рапортовали о нем, на деле не было. Вывод? Опытно-промышленная установка в Уфе все равно была. Просто стал ею огромный завод, иучастниками эксперимента вместо двух десятков людей оказался тысячный коллектив, и сроки опытов затянулись больше чем вдвое. Не вышло выигрыша ни в деньгах, ни в темпах. Вышел один проигрыш. Экономия тут мнимая. Не верьте ей.
КТО ВИНОВАТ? Оказалось, что ответить на этот простой вопрос совсем не просто. Обойдя с десяток учреждений в Уфе и в Москве, я, как водится, завяз в «объективных причинах», в перечне взаимных обид, где все объяснения кажутся убедительными, все упреки — справедливыми, а причины — научные, технические, организационные, кадровые — так густо перемешаны, что не поймешь, где кончается одна и начинается другая. Тут многое сошлось — огрехи строителей, ошибки проектировщиков, козни снабженцев, нехватки оборудования, задержки финансирования. Разные люди ведали разными частностями, а в общем и целом никто за судьбу опытной установки не отвечал. Но постепенно прояснилась скрытая до поры за спинами других более шумных причин причина коренная — экономическая. А значит, и разговор с «фининспектором» о прозе должен быть продолжен. Это он, мой безыменный герой, сделал так, что премии строителям давались только за ввод мощностей, и, следовательно, строить опытные установки им было невыгодно. Это он, поистине незаметный труженик, добился того, что и оборудование для установок производить было невыгодно, и, значит, для любого завода они становились помехой. Он же — человек, которого «за давностью лет» никак теперь не найти, которого ни чин, ни имя мне неведомы, — так поставил дело, что и финансировалась опытная «нитка» из рук вон плохо. По свидетельству уфимцев, именно по этой статье им все годы срезали ассигнования, именно здесь «экономили» с особым рвением. Финансовые рычаги были отрегулированы таким образом, что даже сами химики не очень-то добивались опытных установок. Почему? Потому что установки эти снижали показатели завода и по производительности труда, и по себестоимости. И это еще не все. Мы говорили пока о том, что делал наш неведомый герой. А надо и о том сказать, чего он не делал. Именно он обязан был в этом случае стать на защиту подлинных интересов страны, именно он должен был проследить строжайшим образом за тем, чтобы деньги, отпущенные на опытную установку, были на нее и затрачены. Но он не сделал этого. Он не стал применять экономические стимулы для развития производства. Он полагал, что можно обойтись и без них. Тут, если вдуматься, вся суть проблемы. Мне объяснили экономисты: по-ученому это называется примитивный меркантилизм. Или наивный меркантилизм — стремление во что бы то ни стало взять сегодня рубль, даже если завтра потеряешь на этом десять рублей. Говорят, этот способ экономии был популярен при Иване Калите: искусство финансиста в том и состояло, чтобы собрать золото и на нем сидеть. Но уже во времена Пушкина люди читали Адама Смита и знали, «как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет…». Заканчивая краткий исторический обзор, замечу, что иные теперешние меркантилисты, читавшие не только Пушкина, но, судя по их дипломам и Маркса, позиций не сдали. Вот, например, вышло хорошее постановление о премиях за снижение себестоимости, и усилилась борьба за снижение, и увеличилась прибыль. А после стараниями меркантилиста появился в инструкции пунктик: выплачивать премии можно лишь в тех случаях, когда есть экономия фонда зарплаты. И все. Тысячи заводов выпали из игры. Еще постановление — о банковских ссудах для нужд технического прогресса. Отныне заводы могли не ждать плана на будущий год, они быстрей начали внедрять новинки, кривая прогресса пошла вверх — опять-таки выросла сверхплановая прибыль. Но снова «пунктик»: четверть ее заводы обязаны внести в бюджет. И конец. Ссуды мгновенно стали невыгодны, никто их не берет, кривую будто подкосили. Меркантилист доволен: он может сиднем сидеть на собранных деньгах. Позиция и впрямь наивная. Даже с точки зрения школьной арифметики. Как-то прибежал ко мне сын, младший: очень трудная задачка. Пять надо было разделить на пять. У него вышел ноль. Я взялся объяснять: «Вот у тебя пять яблок. И пришли пять мальчиков. Каждому ты даешь по одному яблоку. Понял?» — «Но у меня-то яблоков не осталось!» — сказал он. В конце концов мне все же удалось сына убедить. Но как убедить не первоклассника, а вполне взрослого, хоть и «наивного», дядю, что ежели он даст пяти советским заводам по одному миллиону, то это вовсе не значит, что в казне у него останется ноль? Словно тонущий купец из сказки о Ходже Насреддине, меркантилист не согласен давать, всегда он хочет только брать — такова его натура. А брать он научился, умеет. Печорское пароходство вышло однажды в соревновании на первое место, и ликовали партком и местком, известно было, какие суммы пойдут в фонд предприятия, на премии, на жилье. Но все это лопнуло: в декабре пароходству увеличили вдруг финансовый план. Выполнять его было, как вы понимаете, нечем: река замерзла, флот стоял в затонах. Наивный меркантилист действует так, будто каждый год — последний, будто и навигаций больше не будет, и план отменят, и не придется вновь поднимать людей… Опустим нравственную сторону вопроса, станем рассуждать, как выразился однажды В. И. Ленин, деловым, купцовским способом: расточительна такая практика, она ведь и выгоды никакой не дает. Неужто же не видит этого мой неназванный герой? Может быть, он просто лодырь? Нет, трудится, себя не щадит. Может, он стяжатель? Нет, честен, педантично честен, и не о своем печется — о государственном. Но что нам с того: свои-то деньги он, уверяю вас, умней бережет… Боюсь, все тут объясняется проще. Есть у наивного меркантилиста расчет, который наивным никак уже не назовешь. Прибыль, пусть мнимую, он заприходует сегодня, а убыток вылезет завтра. Прибыль он проведет по своей статье, а убыток вылезет по чужой, и, значит, ответит за него (если ответит) чужой дядя. Вот и вся механика. А дальше — борьба за собственный покой, понимание того, что «не дать» безопасней, чем «дать», расчет на то, что в эту сторону ошибиться менее страшно
1964 год.

Открытие доктора Федорова
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ — слово русское. Было время, когда переводчики Чехова на английский, немецкий, французский испытывали затруднения с этим словом. Само собой, имелись в тех языках «интеллектуалы», «люди умственного труда», «копфарбайтеры»; но понятия эти не были обременены морально-этическим и общественным смыслом. Это в России интеллигенты шли в народ, потом — вместе с народом, потом начали выходить из народа, вырастать из гущи народной. Это по-русски интеллигентность давно уже перестала быть одною только образованностью. Потому-то у нас и возможны словосочетания, в других языках противоестественные: «интеллигентный рабочий» или «малоинтеллигентный писатель».
Не следует об этом забывать. Не надо думать, что интеллигентность выдается человеку вместе с дипломом, раз и навсегда. Что ее, как университетский значок, можно нацепить на себя, а можно при случае и снять. Нет, понятие это помимо общей культуры, помимо тонкости душевной включает в себя и высокое сознание, и общественную активность — качества, которые человек подтверждает всю жизнь и всей своей жизнью.
А само слово, повторяю, русское. Корень латинский, а слово все равно русское. Французы до сих пор берут его в кавычки, как иноязычное. У англичан оно утвердилось прочней, но если вы заглянете в словарь «Вебстер», то на странице 1291 прочтете: «„Интеллиджентсиа“ — от русского интеллигенция…». Вошло наше слово в другие языки, как в старые времена «самовар» и «степь», как после революции «большевик» и «совьет», как в последние годы «спутник».
В этой статье я хочу рассказать о мечтаниях, поисках, срывах, удачах одного русского интеллигента. Судьба его, на мой взгляд, поучительна и не лишена самого живого интереса. Надо писать о докторе Федорове. Пора.
Я познакомился с ним в 1960 году.
ЭТО БЫЛ молодой человек, широкоплечий, энергичный, безупречно одетый и, сразу видно, умница. Лицо его выражало волю и спокойную самоуверенность. У него были крепкие скулы, короткий, чуть вздернутый нос, широкие насмешливые губы, упрямый ежик на голове. Еще мне с первой встречи запомнилась его манера, слушая и отвечая, смотреть собеседнику прямо в глаза. Он пришел ко мне с неожиданной просьбой. Ему нужна была справка о том, что он, Федоров, не просил о нем, о Федорове, писать в газете. (Замечу для ясности, что я к той давней публикации отношения не имел.) Без такой справки, полагал он, ему конец. Всей его работе конец. Федоров работал тогда в Чебоксарах, в филиале Государственного института глазных болезней имени Гельмгольца. Там он и сделал редкую операцию, с которой начались все его беды. Возможно, вы уже слышали о «вживлении» искусственного хрусталика в глаз человека — об этом много было толков. Сама-то операция прошла успешно. Как-никак Федоров больше года готовился к ней, ставил опыты на кроликах, искал дельных мастеров, и один из них, слесарь-лекальщик, помог изготовить хрусталик из пластмассы. И вот двенадцатилетняя Лена Петрова, которая из-за врожденной катаракты с двух лет не видела правым глазом, стала этим глазом видеть — успех! А потом появился очерк в местной газете: врач-новатор, слесарь-умелец, девочка из чувашской деревни — все было преподано в наилучшем виде. А потом появилась перепечатка в одной из центральных газет, где врача-новатора назвали по ошибке директором филиала, чем навеки сделали его врагом действительного директора… Беда, если про вас напишут в печати! Худо, если раскритикуют, — это каждому ясно. Но вы покаетесь, и вас простят. А вот если похвалят вас, о, тут найдутся люди, которые никогда вам этого не простят. Короче, Федорова в Чебоксарах тривиально съели. Он кинулся в Москву, но и там его встретили недружелюбно. После я познакомился с противниками молодого врача. Я ожидал встретить бюрократов, а увидел ученых. Поставьте себя на их место, читатель: что узнали вы? Мальчишка, первый, быть может, случайный успех, а шуму! Да и не первый он: подобные операции уже делали в Англии, в США, в ГДР, и у нас в Москве была одна за месяц до чебоксарской (вставили стеклянный цейссовский хрусталик). Больно уж этот Федоров пробивной, больно уж смахивает вся история на саморекламу. Это были «мешающие подробности», с которыми сталкивается время от времени каждый литератор. Детали, которых лучше бы не было, которых лучше бы не замечать, не знать. Я мог, конечно, многое возразить. Не мальчишка, а опытный хирург, кандидат наук. Не одна операция, а четыре: он успел прооперировать еще троих. И потом он действительно не просил писать о нем, газетчики узнали о редкой операции от самого директора филиала — это-то факт. А отдаленные результаты? — сказали мне. Что станет дальше с этой девочкой? Приживется ли в глазу инородное тело? Не будет ли осложнений? Да и мало ли что… Нельзя трезвонить в печати, нельзя раздувать сенсацию, возбуждая надежды у тысяч больных людей, пока нет у нас отдаленных результатов. — Сколько надо ждать? — спросил я. — Лет пять… Вот и прошло пять лет.
ЧЕБОКСАРЫ лишились Федорова. Я мог бы, конечно, сказать, что Федоров лишился возможности работать в Чебоксарах, но вполне сознательно написал так, как написал. Дело давнее, можно посмотреть на все на это трезвыми глазами. Знаете ли вы, что такое провинция? Откуда идет она? За какие провинности именуется провинцией?.. До Чебоксар сегодня лету столько же, сколько в былые времена добирались до Кунцева. Новости узнают в тот же миг. Читают те же газеты, смотрят те же передачи, да и дома строят в общем, такие же, как в Черемушках. Видимо, ни расстояние от столицы, ни этажи, ни асфальт уже не могут служить мерилом провинциальности, подобно тому как образованием не мерится интеллигентность. Что же тогда? Я не буду оригинален: застой мысли — вот мерило. Несамостоятельность мысли, оглядка на центры. Московские офтальмологи только сомнение выказали — для Чебоксарского филиала это уже директива. Там поморщились — тут говорят, там слово скажут — тут спешат с оргвыводами, там чихнут — сюда этот чих доносится раскатами грома. И вот уже операция, которой вчера еще гордились, признается «механистичной», «антифизиологичной» и даже «антипавловской». Федорова вдруг посылают в дальнюю командировку, а вернувшись, он обнаруживает, что драгоценные кролики с пластмассой в глазах подохли: их попросту перестали кормить. Директор филиала самолично берется осматривать больных, которых оперировал Федоров. Он делает это без участия Федорова (что само по себе неслыханно), он сперва изучает в темной комнате глазное дно, а после, выведя больных на яркий свет, дает читать таблицу. Острота зрения выходит вдвое ниже, чем на самом деле (впоследствии это проверялось не раз), но директор знает: в центре будут его данными довольны. Ради этого можно врачебной этикой и пренебречь. Как говорят в таких случаях: «До интеллигентности ли тут было!» Суть полемики уже забыта, остались захолустные пересуды, зависть, чванство, и Федорова уволили с работы, сказавши хором, что-де у нас незаменимых нет. И это было более чем глупо. Потому что есть незаменимые. Потому что, вопреки бесчеловечной формуле, каждый из нас в чем-то незаменим. В ту пору, не имея отдаленных результатов, я не мог писать о докторе Федорове. Но редакция «Известий» вмешалась в его судьбу, и он был на работе восстановлен. Он был восстановлен и вскоре уехал из Чебоксар, потому что продолжать исследования ему там все равно не дали бы. Федоров подал документы в Архангельский мединститут, прошел по конкурсу заведующим на кафедру глазных болезней и перебрался туда, а у меня тоже нашлось много неотложных дел… Тем и окончилась история тогда, в 1960 году. Архангельск заполучил Федорова. Да, конечно, провинция — понятие не столько географическое, сколько социальное, нравственное. Можно в столице обнаружить «людей из захолустья», и можно в самом глухом уголке страны встретить людей заметных, ярких, возбуждающих желание подражать им. Неоценима и мало еще оценена их роль… Грани стираются — это все знают. Между городом и деревней, между периферией и центрами. Порой мы представляем себе этот процесс как нечто сугубо постепенное. На деле он слагается из скачков, на деле и тут мы идем революционным путем. Вот и задумайтесь, к примеру, над подвигом окулиста. В. П. Филатова, который сделал свой город одной из офтальмологических столиц мира. Это ведь был огромный сдвиг в сознании, когда слепцы потянулись за исцелением в Одессу — из других городов, из других стран. Год назад я встретил в Москве инженера Ратчина, уральца. По пути на север он останавливался у своего столичного дяди, и тот долго вразумлял его: «Зачем Архангельск? Живи у меня, иди здесь на операцию, вся профессура в Москве!» Но Ратчин все же поехал, операция ему помогла — думаю, что прозрение племянника и дядюшке раскрыло глаза. Взгляды его на «провинцию» и «провинциалов» претерпели, как говорят окулисты, необходимую коррекцию. Научной провинции нет и быть не может, потому что нет науки второго сорта. То, что не настоящая наука, то не наука вовсе. С удовлетворением я могу отметить, что офтальмология развивается у нас широким фронтом, что сегодня нельзя всерьез оценивать ее успехи, не вспомнив о трудах таких ученых, как профессор Т. Бирич (Минск), профессор Т. Ерошевский (Куйбышев), профессор М. Попов (Смоленск), профессор В. Шевалев (Киев), профессор А. Нестеров (Казань), профессор Б. Протопопов (Горький), — перечень можно продолжить. И хотя судить об итогах работ доцента С. Федорова (Архангельск) рано, есть уже основания думать, что и этот город становится одним из центров науки о глазных болезнях… А в Чебоксары больные из других областей не едут. Увы!
КАК ДЕЛАЮТСЯ открытия? Началось с того, что Федоров отправился в часовую мастерскую… Или нет, до этого он долго думал о своей работе и о своей жизни. Нашло серьезное настроение мысли, и Федоров не смог уснуть и все курил, ворочался. Зачем он живет на земле? Чего добился? Куда идет? В чем вообще назначение человека? Было это после первой серьезной неудачи, которая постигла его в Архангельске: глаз после операции воспалился, искусственный хрусталик пришлось удалить. Почему? Видимо, не всем подходит эта модель, надо искать новую, надо сделать ее лучше, точнее, а где? С огромным трудом удалось «пробить» заказ в институт, изготовляющий медицинское оборудование, но выполнять заказ там не торопились… «Эдак вся жизнь пройдет, — думал Федоров. — Я ж на месте топчусь!» С утра он отправился в часовую мастерскую. Кто-то сказал ему, что там работает один дельный парень, и он нашел этого парня и рассказал ему о своей затее. Новый хрусталик нужно было на тонких дужках укреплять в глазу. Часовщик Виктор Смирнов недели две сидел после этого по вечерам и, представьте, сделал миниатюрный пресс для изгибания капроновых нитей. Теперь надо было высверлить для дужек микронные отверстия в хрусталике, и Федоров нашел еще одного «левшу», бывшего театрального художника. Борис Михайлович Венценосов полтора месяца вытачивал «перовые» сверла. К сожалению, они только для металла были хороши, а в пластмассе вязли, но Федоров запомнил, с какой бескорыстнейшей готовностью взялся старик ему помогать. Он пошел на Маймаксанский завод, и литейщики сделали ему отливки для прессов. Он пошел на «Красную кузницу», и мастер Павел Лукьянович Третьяков сработал отличную приставку к операционному столу. Все это бесплатно, из любезности, «за так». Ничего еще, в сущности, не было готово, но Федорова уже охватило то счастливое расположение духа, когда все решительно кажется возможным и, глядишь, действительно удается все. Он приехал в Ленинград, пришел на часовой завод, собрал в пересменку рабочих и все им показал: чертежи, расчеты, снимки. Вот таинственная шарообразность глаза, вот «полюса» его, вот «экватор», так и называют их врачи; глаз — целый мир, в нем для человека целый мир, худо незрячим, но можно иной раз и помочь, были бы «запчасти»… Мастера передавали из рук в руки крохотный хрусталик, смотрели, вдев лупу в глаз, и после долгих споров высокий консилиум постановил: сверлить можно. Уникальный станочек сделал Николай Васильевич Лебедев, механик. Оставалось самое сложное — пресс-формы для выделки хрусталиков. За это никто на заводе не брался. Сказали, что был у них раньше один старик, тот мог бы сделать, если жив. Как фамилия его? Каран. Где искать? На Васильевском острове, где-то он жил в подвале… Разумеется, Федоров облазил все подвалы, потом догадался зайти в адресный стол, людей с такой фамилией оказалось в Ленинграде четверо, и вот наконец нужная улица, нужный дом, подъезд и медная дощечка на двери: «Каран Александр Модестович». Получил за это время новую квартиру. Я был у него там, видел этого молчаливого, худого, с втянутыми щеками старика. Вот так же просто встретил он Федорова, будто давно его ждал, и так же слушал, не перебивая. Только когда пришла с кошелкой жена, стал громко переспрашивать: «Так как вы меня нашли? Завод подсказал? Никто, говорите, не взялся? Помнят, значит, Карана!..» Впоследствии, чтобы как-то отблагодарить старика, Федоров пригласил его в Архангельск. Александр Модестович очень гордый, в белом халате ходил по больнице, ручно здоровался со всеми, заглядывал больным в глаза (там уже сидели его линзы), а врачей учил штамповке, с ними держался академиком, да он и был академик в своем деле. «Это что! Вот когда я с Вавиловым работал, Сергей Иванычем…» Пресс-формы он сработал на совесть, последнюю шлифовку делал шелком, хрусталики выходили чистые, как капля росы. Что вам сказать дальше? Понадобилась Федорову гидрофильная пластмасса, и ленинградские ученые-химики И. Арбузова, Л. Медведева и другие взялись «на общественных началах» синтезировать ее. «Сто восемнадцатый опыт дал работающую пластмассу», — сказала мне Лидия Ивановна Медведева. Можете вы себе представить: 118-й! Химикам понадобилось знать механические свойства глаза — упругость, растяжимость, прочность. В литературе таких данных не оказалось — видно, не были раньше нужны. Федоров пошел к ученым-физикам Е. Кувшинскому и С. Захарову, и те сделали специальные приборы, сами выполнили все замеры. Вдруг дал о себе знать слесарь-лекальщик С. Мильман из Чебоксар, тот самый, что делал первый хрусталик: прислал новую модель, очень перспективную. «Было время и вдохновение…» — писал он в письме. Формовать линзы помог Федорову ученый-оптик А. Нижин, прибор собственной конструкции для определения глубины глаза подарил ему ученый-медик А. Горбань, жидкую силиконовую пластмассу синтезировали для него московские ученые-химики Т. Красовская и Л. Соболевская, и так далее, и до бесконечности…
ТЕПЕРЬ, когда многое вам известно, самое время будет предоставить слово оппонентам моего героя. Вот что писал, например, один из них — профессор, известный офтальмолог:
«…Операция извлечения мутного хрусталика сейчас технически очень хорошо разработана. Огромное число людей после операции по поводу катаракты (так называется эта болезнь) хорошо видит в очках. Однако в качестве очередной зарубежной „сенсации“ рекламируются попытки вставлять внутрь глаза искусственные линзы, которые себя не оправдали. Оказалось, что от такой операции больше опасностей, чем пользы».Спор, как видите, не исчерпан. Работа Федорова все еще «сенсационна» в том смысле, что самые разноречивые слухи ходят о ней. Медлят с окончательной оценкой некоторые ученые, излишне торопятся некоторые журналисты. Вот и недавно мелькнула вдруг в печати статья, где в качестве последней «новинки» рекламировалась… все та же, пятилетней давности чебоксарская операция. И снова хмурились солидные профессора, снова винили Федорова в саморекламе, и невдомек им было, что он автора этой статейки и в глаза не видал. Но, с другой-то стороны, и они, профессора, в Архангельск не ездили, и они новых данных Федорова не знают, и они больных не смотрели. Между тем «попыток» у него, прямо скажем, много: доктор Федоров сделал уже шестьдесят две такие операции! Что ж, споры — вещь полезная, мнения в науке могут быть разными, и ничего худого нет в том, что один ученый покритиковал другого ученого. Тем более что офтальмолог, выступивший против Федорова, — ученый крупный, имеющий большие заслуги перед отечественной наукой. Тем более что некоторые основания для настороженности у него были. За рубежом, в условиях бесконтрольности, рекламы, погони за наживой, эту операцию кинулись делать десятки малоквалифицированных окулистов, и были осложнения, были даже случаи гибели оперированных глаз, и тогда наметилась «тенденция к отходу»… Так что спорить тут было о чем. Беда в другом. Беда в том, что мнение критика в данном случае целиком разделял председатель Всесоюзного офтальмологического общества. На той же позиции стоял главный окулист Министерства здравоохранения СССР. Полностью был согласен председатель проблемной комиссии по офтальмологии Академии медицинских наук СССР. А говоря попросту, на всех этих ответственных постах пребывал один и тот же человек — уважаемый профессор, статью которого я цитировал, — с самого начала он был против работ доктора Федорова. Родится ли истина в таком споре? Нет, я не могу сказать, что Федорову все время активно мешали. Он давно уже не был изобретателем-одиночкой, в Архангельске его поддерживали коллектив института, обком партии, облисполком, у него и в Министерстве здравоохранения СССР появились сторонники, — словом, сбить Федорова с ног было уже трудно. Но каждый шаг давался ему таким тяжким трудом, таким неимоверным напряжением, что, оглядев этот путь, я поражаюсь сегодня, как он мог пройти его до конца. А вот, однако же, прошел. Тут только открылась мне вся огромность, вся неоценимость всеобщей человеческой, дружеской поддержки, которую снискал мой герой в пору своих «хождений по людям». И я восхитился ими и подумал, что в истории этой до конца проявили себя новые отношения между людьми. А после подумал, что, будь они, эти отношения, введены в плановое русло, сделано было бы в сто раз больше. Все же домны мы не строим на общественных началах. Все же спутники мы не запускаем в свободное от работы время. Теперь насчет «вреда» и «пользы». Лена Петрова учится сейчас в одиннадцатом классе, о своем искусственном хрусталике и думать забыла. Недавно снова была у Федорова: у нее за эти годы созрела катаракта на втором глазу. Федоров сделал новую операцию, вставил второй хрусталик, и теперь, как писала мне Лена, она «вовсе стала искусственницей». Я получил письма от многих больных. М. Черноусов (Архангельск): «Работаю опять на тракторе, а глаз не краснеет, не болит…» М. Кулишенко (Киев): «Со дня операции прошло четыре с половиной года. Вижу поверхность дерева, тканей до мельчайших ворсинок. Вам, может, и не удивительно, но тот, кто терял это, меня поймет. Я ведь, ко всему, художник…» В. Горбунова (Татария): «Прошло все легко, даже боли не чувствовала. На четвертые сутки открыли глаза, делали перевязку, и я старалась смотреть и впервые увидела чисто Федорова…» В. Борисов (Архангельск): «На ремонте бил молотком, и отскочил осколок в правый глаз. Через год я им видел только ощущение света. Тов. Федоровым и тов. Бедилло мне была сделана операция, вставили новый хрусталик. Прошло семь месяцев, зрение имею 0,5, а с очками — 1». П. Летанин (Челябинск): «С радости каждое утро проверяю себя, беру коробок спичек и читаю все, что написано, даже какая фабрика. Вдаль вижу за километр. Сперва, конечно, меня не пускали на паровоз, а последняя комиссия разрешила…» Как же можно писать, что операция «себя не оправдала»? Риск? Безусловно, есть, как во всяком новом деле; были у Федорова и неудачи, в двух случаях (из 62) глаз после операции воспалился, и хрусталики пришлось удалить. Но ведь и после обычных операций по поводу катаракты, которые делаются уже 210 лет, бывают осложнения. «Тенденция к отходу»? Да, в некоторых странах она наметилась. Но крупные окулисты Чойс (Англия), Бинкхорст (Голландия), Барраквер (Испания), с которыми переписывается Федоров, работу продолжают. Они сделали уже более двух тысяч таких операций. Как же можно отбрасывать все это, планируя тем самым отставание нашей офтальмологии на пять-десять лет? А вдруг да они окажутся правы. Будем тогда вприпрыжку поспешать за ними? Заканчиваю: недавно в Москве, в Министерстве здравоохранения СССР, обсуждалась работа кандидата медицинских наук, доцента Святослава Николаевича Федорова. Я был на заседании и могу засвидетельствовать, что разговор шел серьезный, доброжелательный и деловитый. Отмечались некоторые недостатки этой работы (например, слабый экспериментальный аспект исследований), но вместе с тем говорилось о необходимости создать в Архангельске все условия для того, чтобы Федоров мог этот самый аспект усилить. В целом же решено было исследования всемерно развивать.
ПРОШЛЫМ летом мы встретились с Федоровым на берегу Черного моря. У меня был отпуск, и у него был отпуск, я заехал к нему на денек в дом отдыха «Туапсе». Мы сидели на пляже, не спеша говорили о жизни, я присматривался к нему. Нет, зря победы не даются, что-то утратил за эти годы мой давний знакомый, чуть припухли веки, строгие черты появились около рта. Но прежнее ощущение недюжинной силы исходило от этого человека. Выпуклые мышцы, квадратные плечи, великолепно вылепленный торс… Он выжал стойку на руках и так, на руках, пошел к воде. Он не хотел прыгать на одной ноге, а второй у него нет: отнята чуть ниже колена. Федоров потерял ее семнадцати лет, тогда и решил стать врачом. Я знаю, мне говорили очевидцы, что в Красноярске во время конференции врачей он лазил со всеми на знаменитые гранитные «Столбы» и первым поднялся на вершину. Он самолюбив, Федоров. Бегает на лыжах по Северной Двине. Таскает свой двухпудовик. По шахматам у него первый разряд. По плаванию на всесоюзных соревнованиях общества «Медик» он занял второе место. А в Чебоксарах плавал стометровку — первое место.
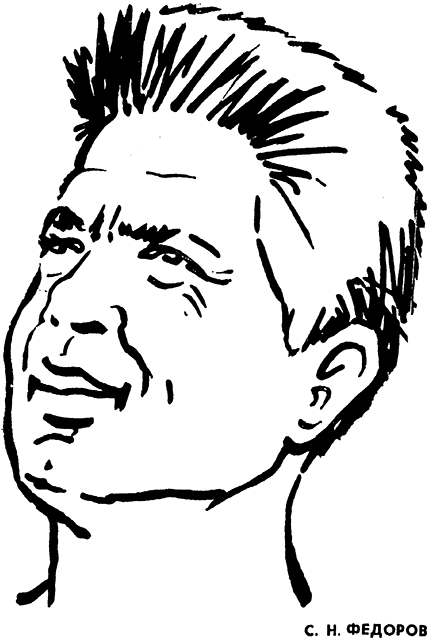 Рисунок автора
Рисунок автора
Откуда в нем эта напористость, сила воли, сила добиваться своего?.. Пожалуй, ничего он не утратил из сильных сторон старой русской интеллигенции, в нем есть мягкость к людям, есть желание добра, внутренняя честность, есть самостоятельность, или, как говорил Л. Н. Толстой, гордость мысли. Но, чтобы пройти путь, который выпал ему, этого было мало. Доброта его исполнена силы, и ему просто с народом, и нет в нем чувства неуверенности перед народом, потому что он сам — народ. Внук мужика, сын конноармейца, коммунист, интеллигент. Обещан был рассказ об открытии доктора Федорова. Что ж, вы уже знаете, что в Архангельске создаются новые модели хрусталика, отличные от зарубежных. Но не будем спешить: это только первые шаги. Ведутся интересные эксперименты с «кератопротезом» (пластмассовой заменой мутной роговицы), но и тут делать выводы еще рано. Сделано шестнадцать операций с применением жидкого силикона; в одном из случаев, спасая безнадежный глаз, они заменили пластмассой до 25 процентов стекловидного тела, и глаз уцелел. Но пусть и об этих поисках судят сами ученые, — им виднее. Главное открытие доктора Федорова я вижу в другом: он сумел обратить на пользу своей науке действенную силу нашей новой морали, понял, что можно прийти к любому человеку и, если благородна цель и полезна Отечеству, человек обязательно поможет. Доктор Федоров открыл для себя советский образ жизни, открыл советский характер. И потому победил. Спасибо ему за это.
1965 год.

Официант
КОГДА мы были уже хорошо знакомы, я спросил, не унизительно ли это — обслуживать.
— Как посмотреть, — сказал он. — Вот я вас обслужу, а после приду домой, раскрою «Известия» — вы меня будете обслуживать… Все мы друг другу служим.
Тут я понял, что буду о нем писать.
В Мурманск я приехал совсем за другим. Но три раза в день спускался в ресторан «Север», садился за столик у окна, и меня кормил этот человек, которого я не замечал вначале, к которому присмотрелся потом. Черт возьми, думал я, мало ли мы пишем о моряках, о рыбаках, о лесорубах, о летчиках? Пусть будет на сей раз официант… Мысль эта почему-то вызывала противодействие во мне, и я разозлился на себя и окончательно сделал свой выбор.
Мой герой был худощав и изящен. У него было продолговатое, нервное, пожалуй красивое, лицо, мягкие волосы, светлые глаза, длинная худая шея — «свободный верхний шарнир», как он сказал. По этикету, объяснил он, мужчина должен приветствовать гостя кивком головы: одного шарнира вполне достаточно. И незачем сгибаться в полупоклоне. А откуда полупоклон? План давит — вот откуда. Все спешишь, все некогда, посетителей когда встречаешь и когда провожаешь, уже занят: прибираешь на столе… Надо, конечно, изживать в себе.
Работал он красиво. Бегал между столиков танцующей походкой, слегка жонглировал подносом, а бутылки откупоривал, будто это фокус со штопором и салфеткой. Еще он улыбался, и улыбка была не механически заученная, а добродушная, тонкая, чуть снисходительная. Давно я не встречал человека, столь явно удовлетворенного своей ресторанной работой. И это показалось мне странно. «Событие скорей единственное, нежели редкое», — как с изяществом физика выразился однажды Бруно Понтекорво.
Почему молодой парень выбрал такую профессию, когда все пути открыты перед ним? Неужто и в самом деле он доволен своей судьбой? Ему ведь всего двадцать четыре года… Тут, как мне казалось, была какая-то неправильность, своего рода аномалия, и нелепый в сущности вопрос, какого я не задавал ни морякам, ни врачам, ни плотникам, — зачем он пошел в официанты (с оттенком «как дошли вы до жизни такой?»), стал началом нашей беседы
Вот рассказ Геннадия Петровича Рощина.
— ВЫ МОСКВИЧ? Земляки, значит… Вот некоторые не признают заказывать музыку в ресторане. А мне нравится. Недавно был такой случай, моряки справляли какой-то свой юбилей. И просят «Темную ночь». Смотрю, притих один, здоровый такой дядя, и слеза у него. Войну, значит, вспомнил… А я как услышу «Барон фон дер Пшик», и сразу перед глазами комнатенка наша семь метров, отец за столом гуляет, пол-литра, патефон крутится, а за окном каменный двор, и мальчишки бегают, мои друзья… Но это так, не к делу.
Жили не очень хорошо, плохо жили. Мать убило в войну, я ее и не помню, бабка меня растила. Дед на гражданской погиб, был, говорят, комиссар. Отец сапожник, после в органах работал, модельером в ателье КГБ. А я долго рыпался, выбрать не мог. Был я, знаете, чудак. Басни в многотиражку сочинял — это уж в ремесленном. Басни повернулись против начальства, и меня отчасти дискредитировали. Сила печатного слова. Между прочим, ходил в редакцию на Чистые пруды, там читали, говорят: если понадобитесь — вызовем. Вот жду до сих пор… Еще хотел фокусником. Стекло иглой прокалывал, ленту тянул изо рта, и был у меня концовый трюк. Это уж когда кланяешься, вроде ты все показал и вдруг «вспоминаешь»: столик остался. А на нем скатерка. Сдернешь ее, а на столе графин, рюмки с вином. И опять неудача… Знаете, по Марксу: деньги — товар — деньги. За деньги ты дай товар, а у меня какой товар? Лежалые трюки, общеизвестные. Вообще я не встречал, чтоб кто-нибудь по книжке Кио стал иллюзионистом. По-родственному или там по знакомству. Я ведь тоже писателем собирался и книгу начал про шпионов, две главы написал… У нас в бригадмиле был старшина из пограничников, здорово рассказывал. И все у меня было продумано: война, колосья, этот скрывается, в конце его, конечно, ловят, а тому орден. Но географических знаний не хватило — писать бросил.
Официантом как? Ресторанов я при моем тощем кармане не посещал. На тот день, что решил в официанты, ни разу не был. Увидел афишку: набирают на курсы при «Метрополе». И пошел в семнадцать лет. Приняли. Это было счастье, равносильное выигрышу «Москвича». Мне тогда казалось, все в этой работе, о чем я мечтал. Играет музыка, много света, чистота вокруг, нарядные люди сидят — и вот мой выход… После-то я понял.
Я ведь долго еще рыпался. Шесть лет стажа имею при моих годах. Ходил пароходным официантом от Горького до Астрахани. Барменом пробовал, но это не по мне, хотя денежно. Махнул в Сочи: думал, на юге счастье навалом. Нет, не навалом. Женился там, жалел ее, а на работе через день до ночи, она и спуталась с одним. Плюнул, бросил все и сюда, на север, — ничего, живу…
Нет, вы не думайте, работа, действительно, интересная. Если только с душой. Официант кто? Проповедник культуры. Это еще на курсах нам говорил преподаватель Никишов, толстый такой дядька, юморист, дай бог ему здоровья. Вот вы сели, и у вас на столе три хрусталя (всего-то их десять): что из чего пить? Сервировку — знай, кулинарию — знай, подход к людям — само собой. Меня в этой работе что привлекло? Разнообразие, живость, артистизм. А если только «подай да прими», если одно материальное держит — это для человека не судьба. У меня вот, например, пятый разряд, а как я его оправдаю, если наш ресторан второго разряда?
Он прерывает рассказ и декламирует с улыбкой:
— Но вреден «Север» для меня…
ХОРОШИЙ ли Рощин официант? Так сказать, передовик ли он? Не знаю. План он всегда дает. Благодарности? Есть, но их сколько угодно можно получить. Сейчас в «Севере» эту книгу простым смертным почти и не дают, разве что генерал захочет написать. Жалобы? У Рощина был случай: нагрубил посетителю. То есть они друг другу нагрубили, но тут официант всегда виноват: он на работе. И перевели Рощина на месяц на склад «плоское таскать, круглое катать». Плохо, конечно, но и это о многом, в сущности, не говорит. Услуга в запас не делается. Материализации не поддается. Сантиметром ее не измеришь. Между производителем и потребителем нет ни времени, ни расстояния. И тут особую роль приобретают личные качества человека — порядочность, радушие, учтивость. Но и в сфере обслуживания есть производительность труда, или, как в этом случае предпочитают говорить, эффективность. И здесь нужны рабочая сноровка, умение, спорость. Вот, приняв заказ, Рощин легкой своей походкой скрывается за занавеской, куда обычно мы не заглядываем. Я заглянул. Прямо по курсу — касса. Глядя в свою книжечку, Рощин на ходу переводит блюда в рубли и копейки: «Женя, пробей три по сорок пять, два по девяносто шесть, раз семьдесят шесть…» Потом с чеками и посудой (успел захватить) — к «холодному цеху»: «Люда, омары — три». И бегом к повару на раздачу: «Раиса Михайловна, две солянки, лангет…» Чеки он дает марочнице, берет хлеб, и сразу к буфету: «Тоня, три водки, три пива, три „Шипки“, три спички!» Все это ставится на поднос, и танцующей походкой, с улыбкой за занавеску, в зал. И так всю смену, до глубокой ночи… — Вы ведь не слышали, чтоб я жаловался: кто-то долго сидит. Быстро! Срочно! — этого не люблю. А так сиди хоть три часа, на то мы и ресторан, чтобы хорошо посидеть. Есть мнение, что-де выгодно официанту напоить гостя. Погодите возражать, выслушайте… Это еще вопрос, что для меня лучше — напоить или накормить? И второй вопрос — чем напоить? Сто граммов водки — восемьдесят восемь копеек, а бутылка «Гурджаани» — три рубля. Вот и считайте. Он выпьет хорошего вина — у него аппетит. Считайте дальше: солянка — девяносто шесть копеек, купаты — рубль двадцать девять копеек, по-киевски — рубль сорок копеек. Что мне выгодней? Что лучше — бегать к буфету с графинчиком или взять с раздачи хорошее блюдо? А вообще-то пьют. Вернутся рыбаки, три месяца плавали у берегов Канады, денег — мешок. Где оставят? В «Севере». И опять вопрос: как их взять? Можно в два счета: дал ему водки сверх нормы, пива дюжину, закуски чуть — через час он готов. Вывели со швейцаром с крыльца — и адью. На улице замерзай или в вытрезвителе спи — наше дело маленькое. А можно культурно: сидите, отдыхайте, разговоры говорите, пейте южное вино в увязке с качественной закуской — и мне хорошо, и людям удовольствие… Чем я занят, официант? Перераспределением национального дохода — вот чем. Вы не улыбайтесь, это тоже на курсах говорили. План-то нам не в калориях спускают — в рублях, ясно? Я как почитаю «Общественное питание», то Латвию хвалят, то Молдавию. А почему не Мурманск?.. Я и на активе ставил вопрос: салфеток нет, формы у официанта нет. Мы кто, кабак, харчевня? Денег, говорят, нет на балансе. А почему нет? Вот у нас мангал в бездействии, а шашлыки жарим на сковороде. Почему? Мало проходит шашлыков. А почему мало? Плохие шашлыки. А почему плохие? Потому что на сковороде. Я бы что в «Севере» сделал? Убрал бы сверху наши прожектора — не ресторанный свет. Малые светильники на стол, торшеры по углам, стены в салатный цвет, приятный для глаз, серванты бы поставил. Тогда я солянку смогу перелить, прибор сменю рыбный на мясной — мне трудней, а окупится. И назвал бы ресторан: «Домашний»… Планы строит человек, эскизы чертит (я видел), мечтает, загадывает… Я думаю, Рощин хороший официант.
А ЧАЕВЫЕ?.. Видимо, тонкий этот вопрос у многих вертится на языке. Чаевые Рощин берет. Мы боролись с этим пережитком по-всякому. Писали на стене: «Здесь чаевые не берут». А под этой надписью брали. Писали: «Граждане, не унижайте достоинства официанта». Все равно брали. Еще красивей писали тексты по красному фону. Брали. Нет ничего хуже таких вот надписей, бесполезность которых самим пишущим ясна наперед. Снова повторю: бесполезное — вредно. В один из вечеров, когда Рощин был свободен, мы с ним пошли в перворазрядную «Арктику». Он солидно поздоровался с метрдотелем, кивнул официанткам. Мы выбрали столик, сделали заказ. Ресторан был просторный. Вообще, в Мурманске новые «точки» делаются с размахом и со вкусом — легкие занавеси, настенная резьба по дереву, аппликации из металла. В ожидании закуски Рощин учил меня «угадывать гостей». — Каждый официант если не психолог, то уж физиономист. Я от двери угадаю гостя: процентов восемьдесят — по лицу, процентов десять — по костюму (хотя это обманчиво), еще десять — по манере. Ну, бывает, ошибусь. Не ошибается тот, кто не работает. «Гости» делились на категории. Есть хороший гость: не спешит, не напивается, не слишком придирчив. Есть нервотрепатели, их Рощин не любит, хотя они бывают щедры. И стиляг не любит, хотя и эти денег не берегут: «Пусть лучше у меня стол будет пустой… Не свои тратят». Есть тип гостей, встречающийся все реже: принеси-чего-нибудь. Есть лимонадники, есть полсупники… К концу вечера я пробовал угадывать. Рощин только поправлял: «Нет, ошибаетесь. Какой же он хороший гость? Меню взял сам, на ходу. Сел за грязный стол… Нет». — Не сразу дается, — утешал он меня, — нужен глаз. Вот у меня вчера вошел невидный такой, в очках. Между прочим, с дамой. Ну, пара у нас не котируется. На юге — да или в центральнойполосе. У нас лучше всего, когда три морячка. Ладно, садятся на моей позиции, заказ скромный, тихим голосом. Решил, лимонадники. А оказались Олег Табаков и Нина Дорошина из театра «Современник». Вполне интеллигентные оказались гости. Мы немного выпили, самую малость, и снова я заговорил о чаевых: каковы его прогнозы на сей счет? Рощин отвечал охотно. Раньше такая была у официанта ставка, что без чаевых он прожить никак не мог. Вот и вся мораль. Теперь зарплату повысили, и хоть берут чаевые, а все не так. Теперь возьмите в Мурманске любого официанта: обсчитывать не станет. Зачем рисковать? Вынуждать чаевые, медью бренчать — и этому конец. Теперь сдачу всегда выложишь сполна, а уж если гость хочет — другое дело. Самое подлое отошло. Так вот постепенно и отомрут чаевые, в свое время или несколько позже… Тут мне вспомнилась молитва святого Августина: «Даруй мне чистоту сердца и непорочность воздержания, но не спеши, о Господи!» Не подумайте, что я ратую за чаевые. Просто я думаю, что молчать о «пережитке» — не лучший способ борьбы с ним. Просто я констатирую факты бытия, которое, как известно, определяет сознание людей. А воспитывать их, разумеется, надо. Зарплата им повышена, уровень жизни возрос, и теперь можно и нужно добиваться, чтобы сознание опережало, толкало бытие. Рощин тем и заинтересовал меня, что сознание его разбужено: он думает о своей работе, хочет понять свое положение в обществе. — Официант ведет свое происхождение от лакея — это, конечно, факт. Но, с другой стороны, посетитель — от барина, и это тоже факт. Вежливый — от аристократа, хам — от купца. Я замечал: работяги придут, моряки с рейса, рыбаки, лесорубы — всегда с уважением. Или капитан сидит с нашивками, профессор из Ленинграда — не забудут спасибо сказать. Нервотрепатели — «среднее звено». Какой-нибудь зам, пом: первое удовольствие ему отчитать официанта. «Молодой человек! Не стыдно тебе тарелки таскать! Да я в твои годы…» — выпил, умом делится. А приглядишься, у него у самого-то в обрез. И лестно ему поучать меня, стоящего перед ним. Пусть… Я ж понимаю, он натерпелся от начальника, надо ему на кого-то свалить. Есть, значит, кто-то хуже его. Самый это доступный способ возвысить себя в своих глазах — другого унизить. Я стою перед ним, живой знак вопроса, молчу. Если ты барином пришел в ресторан, пусть тебе будет стыдно. Все мы нынче друг другу служим — это я не вам первому сказал. — Но все же есть разница? — Есть. Тут фокус в одном — непосредственное обслуживание. Но если исторически посмотреть, то при барах и учителя в лакеях ходили, и лекари были полулакеи, и музыканты брали чаевые, и даже, я читал, поэты были придворные, тоже, значит, непосредственно обслуживали. В старое, конечно, время. Я вам так скажу: любую профессию можно охалуить. Все зависит от самого человека: как он понимает себя, каким себя видит. И еще — каким его люди видят. Прав я или не прав? Вы мне ответьте….
ДА, ЕСТЬ социальная сторона вопроса. Подойдем к ней непредвзято и безбоязненно. Кто он такой, нынешний человек из ресторана? Останется ли в будущем этот вид труда? Для начала полистаем справочники ЦСУ. В стране сейчас 70 000 официантов. Больше, чем артистов, больше, чем наборщиков, больше, чем сталеваров. Да прочих «работников зала» — 250 000, да «торговая группа» (буфетчики и т. п.) — 200 000. А всего в общественном питании — около 1,5 миллиона человек. А в сфере обслуживания в целом — 20 миллионов! Вот и судите сами, надо ли думать всерьез о положении этих людей? Главные линии сферы обслуживания — просвещение, здравоохранение, культуру — мы развили чрезвычайно широко и быстро. И сделали их в основном бесплатными, безденежными — это наш приоритет, его мы никому не уступим. А вот в денежной сфере — торговле, бытовых услугах, общественном питании — уровень долгое время был невысок, и развивали мы эти отрасли медленней, и считалось, что так оно и должно быть. Теперь иное время, иные возможности, иные задачи. «Увеличение реальных доходов населения будет перекрываться быстрым ростом массы товаров и услуг…» — это записано в Программе партии. Вот еще цифры: предприятий общественного питания в 1955 году у нас было 118 000, в 1959 году — 130 000, сейчас — 180 000… Не случайно ЦК ВЛКСМ призвал комсомольцев и молодежь в сферу обслуживания: «Юноши и девушки страны должны взяться за эту работу с таким же энтузиазмом, размахом и деловитостью, с какими шли они на штурм целины, трудятся на ударных стройках, борются за развитие большой химии!» Это не только призыв: ежегодный прирост работников в общественном питании уже достиг ста тысяч человек. Другими словами, сто тысяч юношей и девушек уже сегодня, пока мы рассуждаем с вами, должны избрать для себя это поприще. И изберут непременно… Так кто же нужен стране — те, кто придет сюда «от беды», или те, кто придет по комсомольской путевке, с сознанием общественной значимости своего дела? Такова эта государственная (немалая) проблема. Потому что вслед за молодыми официантами встают молодые парикмахеры, кондитеры, портные, почтальоны, продавцы, повара, прачки и прочие и прочие, чей труд не все еще научились по-настоящему ценить и уважать. Откуда в нас этот нелепый аристократизм? Почему люди, обслуживающие машины, у нас в большем почете, чем люди, обслуживающие людей? Почему я сам позволил себе говорить о Рощине в эдаком сочувственном тоне? Да и вы, читатель, думали то же: молодой, а туда же, в официанты… Думали ведь? Как ни странно это может показаться, корни «аристократизма» тянутся не только из старины. Я видел официантов в Париже, в Гетеборге, Каире, Копенгагене, Риме, Триполи. Очень разные были они — униженные, респектабельные, поющие, усталые, кланяющиеся. В любой момент хозяин мог выгнать их на улицу, богатые гости, люди другого класса, стеной были отгорожены от прислуги, но при всем том официанты не казались обиженными судьбой, напротив, они счастливы были получить эту работу: другие пути были закрыты для них. А у нас — открыты. Каждому у нас открыты все пути. Но это вовсе не значит, что каждый путь открыт всем. Каждый может стать космонавтом, но заранее известно, что все космонавтами не станут. И физиками все не станут, и актерами, и доменщиками, и водолазами… Очень это важно сейчас всем нам вместе научиться уважать «неставших». Труд всякий хорош — пора понять, что в этом правиле нет исключений. В высшей степени интересные сдвиги в сознании людей происходят сейчас. Сфера обслуживания, считавшаяся прежде делом второстепенным, едва ли не «накладным расходом», признается ныне заботой государственной важности. Вот и стоит на переломе такой Геннадий Рощин, стоит «живым знаком вопроса»: позади — пренебрежение к его профессии, впереди — признание важности ее. Не будем преувеличивать, не будем улучшать Рощина. Он еще не научился ценить людей, которые лимонад предпочитают водке, — это плохо. Но он уже не мерит свое отношение к гостям степенью их щедрости — это обнадеживает. А главное, он уже начинает понимать общественную полезность дела, которое избрал для себя. Снова о будущем. По-видимому, многие виды труда, тяжелого, вредного, неблагодарного, вовсе исчезнут. Не исключено, что и профессия официанта попадет в их число. Ввели же мы самообслуживание в столовых и закусочных — отличная вещь. В брошюре Л. Шпунгина «Общественное питание в семилетке» я прочел о дальнейшем прогрессе в этом деле: покушав, люди сами на подносе относят грязную посуду в мойку. Следует обобщение философского плана: «Если находятся отдельные лица, которым такая форма самообслуживания не нравится, то это следует отнести к предрассудкам, к мелкобуржуазным пережиткам, от которых члены нашего общества должны освободиться». Освобождайтесь, читатель, пока не поздно! Следующий шаг на пути к прогрессу — будете сами мыть посуду. Следующий — будете варить борщи. Не нравится — пиши жалобу сам на себя. Я все же думаю, что официант останется. Он-то как раз и останется! Не будет судомоек, уж их работу механизировать нехитро, уборщиц заменит какой-нибудь могучий пылесос, и продавцов не будет, буфетчиков, кассиров, я даже полагаю, что бухгалтеры-ревизоры уйдут на покой, а человек, встречающий гостей, любящий вкусно накормить их, умеющий принять их широко, культурно, весело, — обязательно будет. Отпадет все унижающее его, отпадет тяжелое и грязное, но останется человек, призванием и профессией которого будет хлебосольство. И говорить о нем «обслуживает» забудут, как забыли это слово применительно к врачу, учителю, адвокату. Врач лечит, учитель учит, адвокат защищает. О моем герое скажут: «угощает», «кормит», «принимает гостей»… Очень, между прочим, красивая будет профессия.
1965 год.
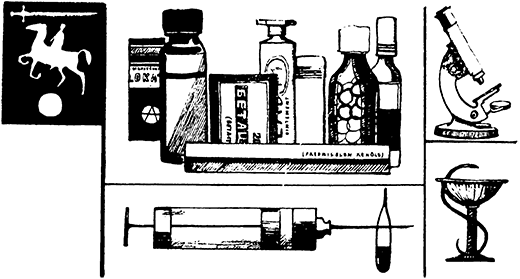
Письма из Венгрии
Трудная промышленность
ЕСТЬ МОДА на лекарства, как и на все, что можно продать и купить. Вдруг все начинают искать новый препарат, один и тот же, редкостный — давняя мечта о панацее. Врачи выказывают свою осведомленность: «Вот если бы вам удалось достать…», больные верят, что только это средство спасет их, друзья и родственники бегают по аптекам. Потом проходит время, и люди видят, что это не панацея. Те, кому лекарство помогло, будут и дальше принимать его, кому-то оно и впрямь спасет жизнь, другие махнут рукой: «Ничего-то она не может, эта медицина» И тут же кинутся за очередной новинкой. Лекарства — товар, но товар особый. Брак, который всегда отвратителен, в этом деле — преступление. Лекарства не бывают второго сорта. Во всяком случае, не должны быть. Как-нибудь можно пережить нехватку модных носков, нехватку инсулина больной диабетом не переживет. И ему, пришедшему в аптеку, не скажешь: «Инсулина, к сожалению, не завезли, но зато можем предложить прекрасное средство от изжоги». Наконец, на лекарствах, в общем-то, не экономят. Люди всегда хотят иметь самое сильное, самое последнее средство — для своих близких, для самих себя. Очень это вредно для здоровья — знать, что где-то уже производится, продается, есть такое новое средство, и не достать его. Оно, как сказано, может больному и не помочь. Отсутствие его — всегда вредно. …Все это я имел в виду, обо всем этом думал, когда ехал в Венгрию. Потому что венгерские лекарства давно уже стали популярны в нашей стране. Хотелось посмотреть, понять, как налажено производство, покрывающее столь важный, тонкий, подвижный спрос. Заглавием первого письма я обязан ошибке переводчика. Он объяснял мне, что в народной Венгрии фармацевтика подчинена министерству тяжелой промышленности. «Трудной промышленности», сказал он, поскольку у венгров, как, впрочем, и у нас, слово «тяжелый» и «трудный» почти синонимы. И я подумал, что обмолвка эта хороша.НЕБОЛЬШАЯ в сущности страна — десять миллионов населения — экспортирует лекарства в 75 стран мира. В «Медимпексе», внешнеторговом предприятии, мне говорили об этом у большой карты, висящей на стене. Я попросил показать, куда они не поставляют лекарств. Мои собеседники не сразу нашлись: — Ну вот, Мадагаскар… В Австралию, очень мало… Ну, еще Парагвай… Конго. За последнее пятилетие вывоз венгерских медикаментов ежегодно возрастал на 20―25 процентов. Среди постоянных покупателей — Англия, Швейцария, Испания, Австрия, Бельгия. В Египте венгры построили по своему проекту фармацевтический завод, в Индии — тоже, в Нигерии сейчас строят смешанное предприятие, с Эфиопией ведут переговоры. Франция, ФРГ, США покупают у них не только оригинальные препараты, но и лицензии. Япония, где монопольное положение занимали американские фирмы, недавно заключила с Венгерской Народной Республикой договор на поставку ряда лекарств. Все это, понятно, объясняется прежде всего тем, что венграм есть чем торговать. Но я начну не с главного, начну с второстепенного: они хорошо торгуют потому, что умеют торговать. Оказывается, и это важно. Представители «Медимпекса» ездят по всему миру, изучают рыночную конъюнктуру, устраивают выставки, завоевывают все новые рынки сбыта. Они находчивы, смелы, предприимчивы, облечены доверием. С интересом слушал я рассказы об увлекательной работе этих людей. И не в том только дело, что они забираются в пампасы и джунгли, а в том, что не звонят оттуда за всякой малостью в Будапешт. Старейший завод, основанный фармацевтом Гедеоном Рихтером на заре века, сохранил после национализации свое старое имя. Почему? Оказалось, после войны во время разведки, или, как они выразились, «первой пристрелки» в Южной Америке, торговые агенты часто слышали вопрос: «А где же рихтеровские лекарства?» И оставили старое имя, потому что репутация в торговле тоже дорого стоит. Венграм ведома сила рекламы, которой иной раз пренебрегаем мы. Во время последней выставки в Баку они с удивлением обнаружили, что наши врачи знают далеко не всю номенклатуру венгерских лекарств. Тех, которые покупаются Советским Союзом. Это-то и удивило их больше всего: товар куплен, но не рекламируется, — почему? И тут же другой случай. Стоило советским газетам поместить маленькую заметку об одном новом препарате (наученный горьким опытом, я не стану его называть), как «Медимпекс» завален был письмами больных, умолявших это лекарство прислать. Рассказывая об этом, Лайош Шомоди, один из директоров фирмы, все качал головой: — Почему врачи не знают? Больным не обязательно знать. Надо, чтобы знали врачи. Мы сидели в уютном кабинете. В шкафах за стеклом были яркие образчики лекарств, на низких столиках лежали журналы и проспекты, издаваемые венграми на многих языках, в том числе на русском (почему они не дошли до наших врачей?). Подали кофе. И так спокойно, серьезно и вместе остроумно, легко вели хозяева беседу, так ненавязчиво, без тени похвальбы умели «подать» свои достижения, что я понял: это тоже часть их мастерства. Само искусство ведения таких бесед. Сейчас взгляды на роль и место внешней торговли меняются и у нас. Думаю, не грех нам было бы поучиться у друзей. В «Медимпексе», например, каждый месяц собирается совет директоров, куда входят директора заводов и руководители научных учреждений. Весьма оперативно, с учетом колебаний спроса, они изменяют планы выпуска лекарств. Таким образом, веления рынка впрямую воздействуют на производство. На качество, на ассортимент, на внешний вид продукции. Был случай, завод изменил цвет таблеток. И сразу упал спрос. Говорят, даже помогать это лекарство стало хуже. Люди привыкают к цвету, к упаковке, и, между прочим, в Будапеште есть специальный Институт транспортировки материалов и упаковки; позже я побывал и в нем. Вот это пристальное внимание ко всему «второстепенному» («главное» — само собой, о нем еще пойдет разговор) и делает то, что внешние связи у наших друзей год от года растут, и они могут не продавать товар задешево, а создают резервы, заключают все более выгодные сделки… Но тут «торговый аспект» беседы начал как-то смущать меня. Гуманнейшая из отраслей, облегчение недугов, помощь страждущим, и без конца — выгода, прибыль, сделки? — Да, — просто ответили мои собеседники. — Производство лекарств приносит нам очень большой доход. Именно поэтому оно быстро развивается в стране. И мы можем лучше помогать страждущим.
В НОВОЙ Венгрии «трудная промышленность» создавалась заново. Были традиции, кадры, свои научные школы. Но заводы лежали в развалинах. Был разбит, разграблен фашистами и рихтеровский завод, а самого старика Рихтера гитлеровцы утопили в Дунае. В конце зимы Лайош Пиллих, главный инженер завода, перебрался на лодке через Дунай. С западного берега, из Буды, где еще держались немцы, — в Пешт, освобожденный советскими войсками. По реке плыли льдины, доносилась стрельба, темными улицами он пришел на завод. Ворота были заперты, рабочие не пустили его. Они уже взяли власть в свои руки. «Вы командовали при хозяине!» — сказали рабочие. И он остался стоять у ворот, а они заседали час или полтора. Потом ему сказали: «Входите. Мы согласны работать с вами». С той поры прошло много лет. По масштабам человеческой жизни очень много. Пиллих не раз вместе с рабочими выходил на воскресники и привык ко многому другому, что «при хозяине» было бы дико для него. Он стал за это время лауреатом премии Кошута, а завод в 50 раз увеличил свое производство. Не по сравнению с 1945 годом — это был бы неверный счет, а по сравнению с 1949 годом, когда достигнут был наивысший довоенный уровень. В пятьдесят раз. Я спросил у главного инженера, на много ли увеличилось в этой отрасли количество заводов. Он с интересом глянул на меня сквозь золотые очки и сказал, что количество не увеличилось. Уменьшилось, сказал он. И я решил, что в переводе потерялась суть моего вопроса. — Простите, сколько фармацевтических предприятий было у вас до войны? — Тридцать пять. — Так… А теперь? — Четыре. Тут мы и подошли к главному. Народная Венгрия с самого начала строила производство лекарств по единому плану. Тридцать пять фирм, существовавших прежде, были мелки, кустарны, одни и те же модные препараты выпускали под разными названиями. Новый этап и начался с того, что народная власть навела в этом деле порядок. Запретила продажу подозрительных патентованных средств, вычеркнула из перечня и те лекарства, которые не тянули до уровня лучших мировых образцов. Потом старые фабричонки были закрыты. Все силы сосредоточились на четырех крупных специализированных предприятиях, одним из которых и стал новый (от старого мало что осталось) завод «Гедеон Рихтер». Описание его я опускаю. Само собой, меня провели по всем цехам, и главный инженер любезно отвечал на все мои вопросы, а я смотрел, запоминал, записывал в блокнот высокохудожественные сравнения, приходившие в голову. Не скрою, гекалитры аптечных капель и центнеры пилюль задели мое воображение, но в общем завод был как завод. Обильно оснащенный техникой, опутанный трубопроводами, резко пахнущий и, по первому впечатлению, безлюдный, хотя здесь работало три тысячи человек. Впрочем, я видел химию Башкирии, Урала, заводы там пограндиознее, так что не это удивило меня. А что же? Начну с самого простого: ни главный инженер, ни другие химики, фармакологи, инженеры, с которыми познакомился я, не говорили о плане, о «вале», о сменных заданиях. Этой темы вроде бы и не было. Она могла, конечно, отсутствовать в беседах с заезжим литератором, но и между собой об этом не говорили они. Тема почти всегда была одна — освоение новой технологии, новых видов продукции. Казалось, все только о том и мечтают, как бы им что-то знакомое отбросить, а что-то неведомое внедрить… Да полно, завод ли это? Конечно, тут играла роль сама специфика «трудной промышленности». В этой отрасли, как объяснили мне, 35 процентов людей с высшим образованием заняты только научными исследованиями. На заводе были богатые лаборатории («серьезные исследовательские мощности», как выразился Пиллих), заводская библиотека выписывала 200 научных журналов со всего мира, и журналы исправно читались на многих языках, инженеры были в курсе последних открытий… Лекарств долгой жизни, говорили они мне, не так уж много. Какой-нибудь пирамидон, который принимали наши бабушки и все еще глотаем мы. Или глубокоуважаемый нитроглицерин, справивший недавно свой столетний юбилей. В большинстве же случаев старые препараты уступают место новым, более эффективным, менее токсичным, к которым микробы не притерпелись еще. В мире идет все убыстряющийся процесс обновления лекарственных средств, отстать от других стран венграм нельзя, и вполне естественно, что главный инженер, технологи, ученые думают об этом. А как работяги-производственники? Небось все-таки гонят план, а?..
ВОТ РАССКАЗ Денеша Секея, начальника цеха: Мы первыми в Венгрии начали выпуск витамина B12. Ну, давно было известно, что лучшее средство от белокровия — печень. Завод выпускал печеночные экстракты. Потом химикам удалось выделить витамин. Лет двенадцать назад его и добывали из говяжьей печени: три грамма — из шести тонн. На мировом рынке один грамм B12 стоил 400 долларов, его на всей земле вырабатывали два килограмма в год. А сейчас только мы с помощью ферментации, работы бактерий выпускаем 200 килограммов. Но грамм стоит уже 5―6 долларов. В этом загвоздка. — План вы выполняете? — Да, — кивнул он. — Разумеется. — Процесс у вас освоен? — Да, конечно, — сказал он. — Был бы освоен, если бы остановилось движение цен. А они с прошлого года опять упали на 25 процентов. Выходит, снова надо нам себестоимость снижать. И они снижают, ищут новые способы очистки препарата, новые режимы, новую питательную среду для бактерий. «Говорят, женщины капризны, — сказал мне Секей. — Не верьте. Капризны бактерии». Эта исследовательская работа ведется уже не в центральной лаборатории завода, а в цеховой… Какой же механизм заставляет людей делать самое трудное — не только не отбиваться от новых заказов, но едва ли не искать их? Известно: когда отказывает автоматика, приходится работать вручную. То же и с экономическими рычагами: когда отказывают они, приходится руководить вручную. Добиваться от людей, нажимая, угрожая, взывая и суля, чтобы они делали то, что неудобно, невыгодно им. А надо (только всего и надо!), чтобы людям было выгодно работать хорошо и невыгодно — плохо. Венгры сполна использовали наш опыт. Спрямили путь к нашим достижениям и избежали наших былых просчетов. Они проводят сейчас перестройку, подобную той, какую проводим мы у себя, и уже по первым ее результатам видно, какое хорошее, мудрое задумано дело. Рычаги материальной заинтересованности отлажены так, что на «ручное» руководство сил почти не приходится тратить. Значительную часть плана заводу дают в валюте. Того же витамина B12 самим венграм на всю страну нужно 2 килограмма (грамм — это тысяча инъекций). Остальные 198 килограммов надо продать за рубеж, иначе завод сядет на мель. Выполнение плана числят не с того момента, когда лекарства лягут на склад, а с того, когда партия товара пересечет границу. Мало того, 50 процентов сверхплановой прибыли (в валюте) получает сам завод на свои нужды. Прежде два-три года уходило на то, чтобы добиться покупки импортных машин и лицензий, — теперь эти вопросы решаются быстро. Добыто главное: коллектив в целом заинтересован в успехе завода. Есть и вторая задача, тоже главная: и внутри коллектива распределять блага с пользой для дела. Чтобы тот, кто работает по способности, действительно получал по труду. Этот справедливейший принцип социализма наши друзья усвоили твердо. Подробнее я расскажу об этом в следующем письме, а пока отмечу одну мелочь, быть может, характерную. На лацкане Денеша Секея я увидел серебряный значок. Он говорил о том, что начальник цеха проработал здесь десять лет. Пиллих больше четверти века на этом заводе — у него золотой значок. Пять лет — бронзовый. У многих инженеров, мастеров, рабочих я видел такие значки. Это значило, что тут прочные кадры, что люди любят свой завод. Это говорило, пожалуй, и о большем…
И деньги, и коня, и саблю
ПРЕМИЯ и по-венгерски звучит так же: «премия», — я угадывал это слово до перевода. Но была некая лингвистическая тонкость. Они премии не «давали», и не «распределяли», и, тем более, не «выплачивали». Премиями они награждали людей. Я намерен говорить о поощрении. О всей сумме благ, какими общество одаривает человека за трудовой успех. В прошлом письме мы подошли к этой теме, попробуем развить ее, взяв за правило отмечать поучительное. На заводе «Гедеон Рихтер» я познакомился с молодым рабочим, немногословным, застенчивым парнем. Дьердь Барта недавно получил аттестат зрелости, всего полгода назад пришел в цех, работал, как все, и до поры не выделялся ничем. До случая с пожаром. Произошло короткое замыкание, рядом был легковоспламеняющийся растворитель, химия есть химия — весь цех могло разнести. Барта первым нашелся, первым смекнул, что надо делать, и погасил огонь. Так вот 400 форинтов ему выплатили — прошу прощения, премией наградили его — не в конце квартала и даже не в конце месяца, а в тот же день. И в сменном дневнике записали благодарность. А вскоре, приглядевшись к способному парню, начальник цеха рекомендовал его в техникум. Разумеется, весь цех знает об этом. Акт поощрения заметен и нагляден. В сущности говоря, тут нет открытия: в годы первых пятилеток имена передовиков гремели у нас по всей стране и премии выдавались под аплодисменты при всем честном народе. Потом с годами забылось это… Венгры идут сейчас тем самым путем, который открыт был у нас, — они поднимают долю премий в заработке людей. Скажем, в общем объеме заработной платы рабочих она удваивается — с 7 процентов до 15. Премии стали весомее, они назначаются чаще и, главное, не «размазываются» по заводу и цеху. Ими награждают действительно тех, кто вышел в передовики, в первые. Слово возвращено к истоку, и теперь яснее забытое сродство его с другими словами того же ряда: «премия» — «премьер» — «премьера». Мне легко вообразить себе дальнейшую судьбу Дьердя Барта, этого простого венгерского парня. Он будет работать и будет учиться, по всей видимости, окончит техникум, и, если с отличием окончит, завод направит его в высшую школу. Именно так сложилась судьба Ласло Семлера, инженера того же цеха. И он вышел из простой семьи, тоже начинал чернорабочим и был направлен в техникум, а после — в институт. Еще в пору учебы он участвовал в трех запатентованных открытиях и очень быстро, как сказали мне, прошел путь от низшего инженерного оклада к высшему. Две эти судьбы, словно бы продолжающие одна другую, характерны: не происхождение, не деньги, не связи выдвинули в новой Венгрии рабочих парней, а их способности. Я к этому разговору еще вернусь, а пока остановимся. Внимание мое задето словами о «высшем» окладе и «низшем» окладе: что это значит? Я узнал, что еще несколько лег назад зарплата инженеров удерживалась у венгров примерно на одном уровне. Значительной разницы быть не могло. Другими словами, работали люди по-разному, а получали одинаково. И если безделье при этом еще отличали от труда и плохой труд от хорошего как-то еще отличали, то труд очень хороший от «просто хорошего» ничем не выделялся. — Потом мы поняли, что это не вполне правильно, — сказал мне Денеш Секей. — Уравнительность — это не есть социализм, это есть мещанский социализм. Правильно, когда каждому по труду. Года два назад в этой стране всерьез взялись за дифференциацию оплаты, а с 1 января 1966 года сам завод получил большие права. Ему определяют фонд зарплаты, но не планируют ни количества работников, ни среднего заработка. Труд инженеров, работающих рядом, может оплачиваться по-разному. Это не зависит ни от чина, ни от стажа, ни от должности. — А от чего зависит? — спросил я. — Должны же быть какие-то критерии. — Результаты труда, — сказал Секей, — вот критерий. Количество и качество труда. Мы считаем, что каждый труженик заслуживает хорошей зарплаты. Пусть все живут хорошо. Но тот, кто добился выдающегося успеха, должен получать намного больше. — Кто определяет это? — Мы, — сказал он. — Начальник цеха, партбюро, профсоюз. — Но ведь возможны злоупотребления. — Какие? — вежливо осведомился он. — Ну, мало ли… Я, конечно, не говорю о вас лично, но вообще, в принципе может ведь так случиться, что плохому работнику назначат высокий оклад, а хорошему — низкий. — Простите, — сказал Денеш Секей. — А почему я должен плохому платить больше, а хорошему меньше?КОНЕЧНО, проблема не снята тем, что в данном цехе, на данном заводе нет этой проблемы. Допустим, люди тут сошлись скрупулезно честные и вопросы эти решаются гласно, и потому исключены ошибки. Но как добиться, чтобы повсюду было так? Где гарантия, что руководитель, получив большие права, не станет удружать своякам, собутыльникам и прихлебателям? Опыт наших венгерских друзей говорит о том, что гарантии все-таки есть. И они куда проще, чем может показаться на первый взгляд. Прежде всего зарплата руководителя у венгров целиком и полностью (и очень существенно) зависит от успехов коллектива, которым он руководит. Выдвинув плохих и «задвинув» хороших, человек сам лишится большей части заработка. Ясно? Тут уж, желая потрафить свояку, он скорее пригласит его в ресторан, нежели решится одаривать за счет казны. Напомню: даже капиталист, который вовсе никому в своих тратах не дает отчета, — даже он не доверит бездарному родичу поста на своем заводе. Оставить миллионное наследство — может, подарить какую-нибудь там виллу — может, но уж во главе цеха не поставит. Не выгодно. Есть и другие гарантии. Мы живем в век коллективного труда, но я почти не слышал в Венгрии слов: «Это заслуга всего коллектива!» У заслуг были адреса с именами и фамилиями. Показывая мне на заводе новый экстрактор, главный инженер не забыл назвать тех, кто его изобрел и построил. И после, когда мы пришли к технологам, представил: «Кальман Сас, один из авторов экстрактора». В цеховой лаборатории, знакомя меня со старым фармакологом, начальник цеха не забыл сказать, что именно он, доктор Бела Йохан, первым в стране начал ферментацию антибиотиков. Давно это было, но никем не забыто. И, может быть, поэтому доктор Йохан и теперь, в свои 74 года, чуть ли не каждый день приезжает на завод. Хотя платить ему могут (сверх пенсии) только за 17 часов в месяц. — Здесь я меньше курю, достаточная причина? — сказал он мне. Это я к тому, что не все решают рычаги материальной заинтересованности. Человеку нужно признание, им движет профессиональный интерес к делу, и стремление утвердить себя, и бескорыстная тяга к познанию, и желание славы — для себя, для своей страны. «Мы полны желания, — сказал мне профессор Янош Халмаи, — показать всему миру и самим себе, на что мы способны. Национальное самосознание — это могучий стимул». Повсюду меня поражало какое-то обостренное, живое, трогательное внимание венгров к своей истории. Может, это вообще характерно для небольших стран — и цепкая охрана памятников, даже самых скромных («В этом кафе бывал Петефи»), и любовь к озеру Балатон (оно у них одно такое!), и живучесть традиций… На заводах, в «Медимпэксе», в научных учреждениях я видел своеобразные неофициальные музеи. Просто люди, которым небезразлично это, собирали ампулы со снадобьями начала века, пожелтевшие патенты, старые аптечные реторты, древние манускрипты, образцы лекарств. Один из лучших таких музеев был в Будапештском медицинском университете на фармацевтическом факультете, где я и встретился с профессором Яношем Халмаи, профессором Анталом Вегом и другими учеными. Они тоже помогают производству лекарств, ведут венгерскую фармакопею, контролируют чистоту препаратов, ищут новое сырье для них. Обо всем этом и шла у нас беседа, а со стены, как бы участвуя в ней, смотрели портреты ученых, которые прежде работали здесь. Вот профессор Вамоши — в 1902 году он обнаружил слабительный эффект фенол-фталеина; профессор Ишшекутц — в 1916 году он открыл новатропин, потом новурит; профессор Аугустин — он основал в 1914 году станцию лекарственных растений… Я подумал, что студенты, которым, конечно же, не раз рассказывалось об этом, выходят из стен вуза с убеждением, что их грядущие заслуги тоже непременно будут отмечены. Надо сказать, сама специфика фармакологии делает такое убеждение не просто полезным, но совершенно необходимым. Эта наука находится пока на стадии, когда предсказать лечебное действие того или иного соединения зачастую невозможно. Приходится идти методом проб и ошибок, и нужно, чтобы очень много было этих ошибок и проб. В среднем, сказали мне ученые, из 4―5 тысяч химических соединений, которые они синтезируют, только одно попадает в клинику. И далеко еще не каждый препарат одобрят и примут врачи. Отсюда следует, что люди постоянно должны думать, пробовать, ошибаться, снова пробовать, спорить, искать. Отсюда следует, что надо видеть успехи каждого, помнить, кто погасил пожар, кто первым высказал дельную мысль, кто предложил технологию, кто изобрел препарат… Очень это важно, что труд в социалистической Венгрии не обезличен, а заслуги людей не стерты.
ИНЖЕНЕР-ХИМИК, кандидат наук Лайош Тольди тоже начинал на рихтеровском заводе. Если хотите, в его судьбе можно увидеть продолжение того «типового» пути, который на двух примерах уже очертили мы. Он работал на заводе, сумел проявить свои способности и в 1950 году был в числе лучших инженеров переведен в Центральный институт по изысканию лекарств. Этот научный центр отрасли строился с размахом. Удобно, красиво и, я бы сказал, демократично. Когда идешь по длинному коридору, по сторонам видны зеленые панели из стекла, металлические жалюзи, скрывающие проводку, и одинаковые белые двери лабораторий. Они здесь стандартные, строго одинаковые. Всем предоставлены равные возможности, и возможности эти велики — институт оснащен щедро. Тольди был в ту пору уже сложившимся человеком, ему исполнилось 29 лет. Он получил комнату для работы, такую же, как и все остальные. Но комнаты были стандартными только по размеру, люди в них работали разные. Тольди повернул стол углом к свету, повесил над окном цветы, прибил к стене репродукцию дюреровского портрета и кокосовый орех, из которого его приятель художник сделал волосатую разбойничью рожу. Стало уютно, захотелось работать. Группы у Тольди тогда еще не было, но мнения его были очерчены твердо. Задача руководителя, — объяснял он мне, — выявить таланты каждого из подчиненных. Задача подчиненных — выложиться, показать, на что они способны. Общая задача — так организовать дело, чтобы результат у группы был больше, чем у тех же людей порознь. Умножение сил, а не сложение. Если руководитель не в состоянии этого добиться, он не может руководить. Тогда его надо прогнать. Пожалуй, с этим человеком нелегко было работать. Но, собственно, кто сказал, что жизнь в науке должна быть легка? Он сидел в своем кресле, в зеленой свободной рубахе, в белом халате поверх, держал сигарету в длинном мундштуке. У нею были коротко остриженные жесткие волосы, скуластое сильное лицо, оценивающие глаза. После мне рассказали, как рос этот человек. И не он один. Институт молод, средний возраст сотрудников ближе к тридцати годам, чем к сорока. Лайоша Тольди отличали воля, напор, жестокая требовательность к себе и людям: почти всегда его идеи осуществлялись быстрей. Доктор Ланг, заместитель директора института, давший ему эту характеристику, сказал еще, что никогда не слышал от Тольди слов, популярных у венгерских официантов: «Это не мой столик». Я подумал, что так говорят не только официанты, и не только венгерские. В общем, дальше я вновь повторю ту же формулу: за несколько лет Тольди прошел в институте путь от низшего оклада к высшему. От 1300 форинтов в месяц до 3600. Чтобы покончить с грубой прозой, добавлю, что за кандидатскую степень он тоже получает прибавку, причем платит ему эти деньги не институт, не завод, а академия наук. Есть и другие вознаграждения. За создание нового лекарства изобретатель получает по закону до 5 процентов общей стоимости продукции в течение пяти лет, за новую технологию — 2 процента… Иной меркантилист, из примитивных, пожалуй, поморщится: не многовато ли? И захочется ему на этих выплатах сэкономить. И не подумает он, бедолага, о том, что остальные-то 95―98 процентов идут государству! За время своего существования институт, о котором идет у нас разговор, разработал и внедрил больше ста препаратов. Чистая прибыль от работы этого коллектива составила уже свыше трех миллиардов форинтов. Но мы отвлеклись, сейчас не деньги интересуют меня. В конце концов человеку творческому всего дороже самостоятельность, возможность продолжать свои поиски, право углублять их. Об этом виде поощрения, может быть, самом важном, надо особо сказать. Тольди был вначале одним из рядовых сотрудников, от работы к работе рос его авторитет, с авторитетом росли возможности. Лайошу Тольди поверили, ему дали право работать по индивидуальному плану, дали дополнительные средства на эксперименты, выделили помощников. Сейчас в группе Тольди пять инженеров-химиков и семь лаборантов. Как выразился доктор Ланг, человек получил и деньги, и людей, и коня, и саблю. Тут можно и закончить письмо. Наши венгерские друзья сумели очень широко использовать преимущества нового социального строя. Этим и объясняются их успехи. В «трудной промышленности» работает много людей, они не обижены оборудованием, не стеснены в средствах, они ищут новое и очень хотят найти, потому что знают: успех каждого из них будет замечен. И отмечен. И оплачен. Всей суммой благ, какие дороги людям.
Рынок лицензий
НА ЗАГОЛОВКЕ не настаиваю, он мог бы выглядеть и иначе. «Пути прогресса», например. Или: «К вопросу о приоритете». Но суть третьего заключительного письма из Венгрии мне изменить трудно. Я видел не только настоящее венгерской фармацевтики, но отчасти и прошедшее и, что особенно важно, будущее. Я узнал людей, которые делают завтрашний день медицины. Это не фраза. — Каков срок от идеи до аптеки? — спрашивал я. — От начала изысканий до массового производства лекарств? — Четыре года, — так обычно мне отвечали. — Это в среднем. А бывает, и семь, и десять. Другими словами, то новое, что создается сегодня в научных институтах и заводских лабораториях, мы с вами купим в аптеках в лучшем случае в 1973 году. Можем и позже получить, намного позже, но об этом я буду говорить особо. А пока хочу, чтобы вы поняли: люди действительно, без всяких метафор, живут или, во всяком случае, трудятся в будущем. Теперь поставьте себя на мое место, читатель. Вы попали в институт, стоящий на самом что ни на есть переднем крае науки. В Центральный институт по изысканию лекарств Венгерской Народной Республики. Вы посетили химические, бактериологические и прочие лаборатории, постояли у пультов удивительных приборов, новей которых нет сейчас в мире, с некоторой брезгливостью заглянули в виварий, где в клетках копошатся красноглазые крысы, осмотрели экспериментальный цех, в сущности, небольшой завод, и теперь ведете беседу с ученым. О чем вы спросите? — Какие новые интересные препараты созданы у вас за время существования института? — так я начал. — Видите ли… — сказал доктор Тибор Ланг, заместитель директора. — Институт основан в 1950 году. Но первые пять лет мы этим не занимались. Главной нашей задачей была разработка технологии производства. — Целую пятилетку? — Разумеется, — спокойно подтвердил он. — Институт разработал около семидесяти новых процессов. Даже ту технологию, которую мы заимствовали за рубежом, в ряде случаев удавалось улучшить. — А собственный венгерский приоритет? — Пожалуйста?.. — с оттенком вопроса переспросил Ланг. Он не только не перебивал, но и, выслушав, ждал продолжения. Он очень хотел понять меня. — Если можно, расскажите историю одного из препаратов. Такую, когда работа была особенно напряженной. Историю, которой может гордиться ваш институт. Доктор Ланг не сразу ответил. Он задумался. Это я к тому, что ответ его не был случаен. Он сказал: — Очень напряженной была работа, когда мы осваивали изоницид, противотуберкулезный препарат. Пожалуй, этой историей мы вправе гордиться. Изоницид открыли швейцарские ученые…ЕСТЬ застарелые предубеждения, своего рода предрассудки, о которых стоит поговорить вполне откровенно. Морально или аморально заимствовать чужое достижение? Стыдно это или не стыдно? Первое сообщение об изонициде передали по радио 6 марта 1952 года. Туберкулез был тогда в Венгрии серьезной проблемой. Во всем мире шли поиски новых средств, и повезло швейцарцам. В строжайшей тайне они наладили производство изоницида, накопили некоторый запас его и были уверены, что быстро новый процесс никто не освоит. А венграм это удалось сделать. Работали параллельно три группы — в институте, на заводе «Рихтер» и на заводе «Хиноин». Через двадцать дней костяк технологии был у них придуман, она оказалась лучше швейцарской; впоследствии венгры продавали лицензию на свой способ производства. Через месяц они синтезировали первые 15 килограммов изоницида, спрессовали таблетки и передали фармакологам и врачам. Одновременно шла отработка технологии, и спустя полгода завод «Рихтер» начал серийный выпуск изоницида. Процесс был опасный, поэтому начинали в воскресенье, когда меньше народу в цехе, но все обошлось, новый препарат появился в венгерских аптеках, и, больше того, в том же 1952 году первая партия изоницида была продана за границу… Участники этой работы получили за нее первую Государственную премию. Стыдно или не стыдно? Беседуя со многими людьми, я понял, что самый этот вопрос не возникал у них. Больному безразлично, где сочинено лекарство, которое утолит его боль. Больному нужно, чтобы оно было. Отсюда следует, что безнравственно скорее таить изобретенное, нежели раскрыть секрет. Стыдно выпускать старье. Аморально не обеспечить население своей страны новым хорошим средством для лечения. Зарубежный опыт перенимают все страны, потому что никто не может изобрести все на свете. Но тут встает другой вопрос: законно или не законно? Имели ли венгры право «репродуцировать» изоницид? Что ж, в данном случае дело обстояло просто: швейцарцы по ряду причин не могли взять патент. А если бы взяли?.. Столько лет у нас недооценивалось значение этих дел, так мы, в сущности, мало знаем о них, что тут полезно будет объяснить хотя бы самое простое. Всякий патент действует не вечно, а определенный срок (15―20 лет), не везде и всюду, а только в той стране или странах, где он выдан. Во всех других местах можно использовать изобретение — это разрешено законом. И лекарства производить можно, только за рубеж продавать нельзя, да и то — в те лишь страны, где запатентовано оно. Можно и «обойти патент», и опять-таки это узаконенный юридический термин, а никакое не жульничество, — я, откровенно говоря, думал иначе. Наконец, можно купить лицензию. Что лучше? Ответ лежит за пределами нравственных установлений. Ответ всякий раз дает экономика. Который путь короче, дешевле, тот и хорош. И точка. Плохо другое. Плохо лукавить. Непорядочно чужое выдавать за свое. Но тут я должен отметить скрупулезную честность, с какой подходят венгры к делам такого рода. Буквально каждый, с кем я беседовал о швейцарском препарате, спешил доложить, кто именно его открыл. И не было извинительных ноток: дескать, простите уж, что не Венгрия родина изоницида и все такое прочее. Они законно гордились зрелой силой своей «трудной промышленности». Тем, что всего за полгода (срок неслыханный!) сумели раскрыть и освоитьсложнейший процесс. Я вспомнил письмо одного читателя, инженера из «Ростовгипрошахта», полученное года два назад. В вечернем институте он слушал лекцию об успехах наших изобретателей. И был такой пример: в Англии большая часть редукторов выпускается с зацеплением Новикова. «А у нас?» — спросили слушатели, и лектор ответил, что такие редукторы производит давно и постоянно лишь один завод. «Может быть, я плохой патриот, — писал далее читатель из Ростова, — но мне очень хочется когда-нибудь прочесть, что какой-то Смит изобрел новое зацепление, и у нас оно применяется повсеместно, а в Англии только на одном заводе».
А КАК ЖЕ приоритет? Как к нему относятся наши друзья? Правильно относятся. Национальной гордости венграм, как говорится, не занимать. И я писал уже о том, что они отлично знают и помнят каждое свое достижение, знают и ценят людей, которые боролись за первенство и принесли успех стране. Это великолепное сознание, что твой народ открыл нечто важное для всех, проложил путь всему человечеству, — чрезвычайно дорого, может быть, ничего нет на свете ценней. Но если первые два вопроса (морально ли? законно ли?) решаются у венгров целиком и полностью в сфере экономики и права, то вопросы приоритета, напротив того, не выходят за пределы этики и морали. Научным приоритетом гордятся — денег за него не просят. Гордость есть чувство, обращенное внутрь. Наружу смотрит тщеславие. Я хочу сказать, что нашим венгерским друзьям нужны были и твердость, и государственная мудрость, чтобы целую пятилетку вести свой Центральный институт по скромному пути развития технологии. Ибо известно, что больше славы приносит малое достижение, полученное впервые, чем огромное, добытое после других. А они избежали соблазна, выдержали пятилетний искус и именно поэтому сами вышли затем на мировой рынок лицензий. — Престиж — это прекрасно, — сказал мне Йозеф Борши, заведующий отделом фармакологии института. — Но нельзя большое дело сделать ради престижа. Дело делается ради дела. Престиж является потом. Здесь надо, хотя бы коротко, показать, что это вообще значит — создать оригинальный препарат. Рождается идея — на это нужно время. Литература читается на многих языках, — опять время. Химики синтезируют вещество — время. Сказано уже: из 4―5 тысяч соединений только одно идет в дело. Потом фармакологи изучают действие лекарства. Потом «длительные дозировки» (тут уж ничего не ускоришь): полгода дают подопытным животным новый препарат, чтобы убедиться, что вреда он не принесет. Потом врачи ведут клинические исследования, проверки, перепроверки, уточнения доз — спешка тут преступна. Иной раз новое помогает только потому, что оно новое, и люди знают об этом и верят. Потому придуман «слепой метод»: больным дают плацебо (пустышки) — такие же таблетки, не содержащие лекарств. И бывает, новый препарат не выдерживает сравнения: в семидесяти и более случаях из ста пустышки точно так же снимают боль. В последние годы додумались и до «двойного слепого метода», когда сам врач не знает до поры, лекарство он испытывает или плацебо. И это тоже не все. Есть еще разработка технологии, поиски сырья, конструирование машин, есть мучительный период освоения… В ту пору, когда я был в Венгрии, у них, например, не заладилось дело с одной новой машиной. И задержался выпуск коронтина, сердечного средства. По контракту они обязались продать в СССР 2 500 000 упаковок, но не смогли их вовремя сделать. Пишу об этом не для того, чтобы критиковать друзей, а для того, чтобы читатель понял: у них тоже не все идет гладко. И если я скажу теперь, что Центральный институт довел до массового производства более ста лекарств, а заводские исследователи — еще двести, то вы, надеюсь, оцените масштабы этого труда. Венграм принадлежит первенство в создании таких важных препаратов, как деграноль, мидокалм, френолон, миелобрамоль. Первыми они выпустили преднизолон для инъекций (он был предложен в 1935 году, а в продажу вышел в 1963 — случаются и такие сроки). Лицензию на производство венгерского триоксазина купили Франция, Швеция, США, ФРГ — таких примеров множество. Значит ли это, что сами венгры уже не покупают лицензий? Нет, конечно. Они и без того могут воссоздать у себя любое новое соединение — секреты недолго держатся в нынешнем мире. Это, как мы убедились, и морально, и законно, и патриотично. Но зачастую бессмысленно. (Известно, что Япония вырвалась вперед главным образом с помощью чужих патентов.) Пока вы будете «переоткрывать» открытое, заново повторять путь от лабораторной реторты до заводского цеха, первооткрыватели снова уйдут вперед. Копировать — значит всегда догонять. Купить лицензию, а если нужно, то и чертежи, машины, техническую помощь — значит, выйти на новый уровень техники. Пример братской Венгрии лишний раз показывает: это верный путь. Не тратя сил на повторение того, что можно купить, наши друзья создают то, что можно продать.
ШЛА К КОНЦУ моя командировка, и все чаще я задумывался над тем, как, какими путями и, главное, в какие сроки венгерские новинки попадают в нашу страну. Я не думал о конкретных препаратах, потому что лекарства не знают деления на нужные и ненужные. Если у вас болит голова, вам в этот момент не до почечных колик. Я думал о дефиците. Дефицита нет на то, чего в природе нет. Как ни страшен недуг, но если не придумано средство для излечения его, то и купить нечего. Дефицит начинается в тот момент, когда где-то родилось новое средство. Где-то есть, а у меня нет. У венгров уже есть, а у нас еще нету — дефицит… Какой срок проходит от того дня, когда лекарство появилось в венгерских аптеках, до того, как оно появится в открытой продаже у нас? Мне сказали: около трех лет. Я понимаю, в какой-то мере дефицит неизбежен. Новое всегда является в малых количествах, даже отечественным препаратом не снабдишь враз такую державу. Но три года!.. В капиталистических странах из дефицита извлекают прибыль, раздувая цены на новые средства, наживаясь на болезнях, — у нас это исключено, и, значит, социальной базы для такого рода явлений нет. Откуда же берется «столь долгое отсутствие»? Вернувшись в Москву, я побывал в «Главмедсбыте», который ведает закупками лекарств, был в Фармакологическом комитете Министерства здравоохранения СССР, встречался с учеными-медиками. Мне объяснили, что всякий импортный препарат должен заново пройти у нас клинические исследования: «Вы что же, против строгой проверки?» Нет-нет, я не против. Все страны ведут у себя такие испытания, речь идет о здоровье людей, наука — дело святое, на нее мы покушаться не будем. Я только хочу понять, сколько времени уходит на науку, а сколько — на все прочее. В Фармкомитете мне показали подвальную комнатенку, где тихо ждут своей очереди новые лекарства из Венгрии, Польши, Франции, США, Англии. Год назад в Москве скопилось около двух тысяч препаратов — оказывается, найти клинику, которая взялась бы за исследования, совсем не просто. В план эту сложную работу почему-то не включают, штатов на нее не выделяют, денег за нее не платят. Вот по этой причине, не очень научной, лекарства месяцами лежат без движения в иных московских больницах. Но, может быть, избалованы уважаемые москвичи, может, стоит послать новинки в другие города? Посылают, сказали мне, в Ленинград, в Киев, иногда — в Куйбышев, Минск, Свердловск. Вообще-то министерство утвердило список клинических баз, в нем 36 городов, в них работают сильные клиницисты, но к ним почти не обращаются… Короче, из всего трехлетнего срока наука занимает полгода-год, а остальное время уходит на «прочее». Надо ведь еще партию лекарств заказать, надо средства для этого изыскать, а контракты по существующему порядку заключаются не позже июля, а что не поспело к июлю, то отодвинется еще на год… Будем говорить прямо: венгерские препараты мы все равно покупаем, эти поставки с 1960 года возросли в четыре раза, они и впредь будут расти, и если это так, если уж мы даем венграм заказ на 40 миллионов рублей (в истории обмена медикаментами он не имеет себе равных), так надо же, черт подери, за те же деньги брать самые новые, самые лучшие, самые последние средства! Неужели нельзя это все как-нибудь ускорить? Венгры согласны передать новые препараты на исследование в наши клиники одновременно со своими; так испытывают они сейчас холидор, новое средство от ревматизма, во Франции и у себя. Они готовы передать нам какие-то лекарства для исследований, фармакологических и клинических, не проводя их у себя; так, проверяют они в Египте новое средство от малярии. Они могут платить нам за это. Они рады пригласить в свои клиники наших врачей, а своих в порядке обмена послать в наши больницы, рады проводить совместные конференции по новым препаратам, потому что, как объясняли они мне, авторитет советской медицины в мире весом, придирчивая строгость нашего Фармкомитета известна, и отзывы его ценятся высоко. Я вспоминаю эти разговоры, вновь перебираю в памяти все увиденное в народной Венгрии и думаю о том, какое это великое благо — международное разделение труда. Есть СЭВ, в рамках СЭВ давно достигнуто соглашение по сорока препаратам, а в конце прошлого года еще по тридцати восьми: какой стране что выпускать. Венгры тоже вывозят из Советского Союза многие лекарства — пенициллин, стрептомицин, полимиксин, олеттетрин, различные вакцины, — они избавлены таким образом от необходимости налаживать у себя эти сложные производства и могут больше сил и средств тратить на развитие традиционных направлений своей замечательной, поистине трудной промышленности. Все правильно: вместе мы сильнее, чем порознь, на то и существует содружество социалистических стран.
1966 год.

Инициатива сбоку
ДВОЕ ХОДОКОВ с Кубани побывали нынче в городе Братске. Они имели при себе разные бумаги с печатями, сам райком благословил затею, но все равно они были ходоки — давнишнее слово тут к месту. За семь тысяч километров эти двое отправились без приказа, сами и не по своей нужде, а для общества. Это не была инициатива снизу, потому что кубанские казаки ни с какой стороны Братску не подчинены. Это не была и инициатива сверху, потому что Москву до поры миновали они. Это была, скорей всего, инициатива сбоку.
Нужда в лесе погнала их в Сибирь.
Лес был в Братском море. Надо вам знать, что, когда затоплялось оно, часть деревьев не успели свалить, а часть спиленных не управились вывезти. Теперь этот лес ходит по волнам, и сколько его там, строевого и делового, никто не знает толком. Говорят, около миллиона кубометров. Сама природа продолжает заготовки: в мороз схватывает льдом кроны забытых на дне деревьев, а по весне, когда прибывает вода, вырывает их с корнем.
Стоя у знаменитой плотины, кубанцы дивились могучим соснам и кедрам, плывущим без всякого смысла, и не понять им было, жителям степного края, как это можно бросить дерево. И, конечно, они надеялись по своей простоте, что им разрешат взять этот лес, чтобы зря не пропадало добро.
Дирекция Братской ГЭС не возражала отдать. Пользы от тех хлыстов и бревен, сказали ходокам, — один вред. Лезут на плотину, топляк оседает внизу, приходится чистить, водолазов посылать — бедствие! Но только ГЭС лесу не хозяин. Нашли хозяина — комбинат «Братсклес». Заместитель директора товарищ Войтов на словах сказал, что он тоже не возражает. Сколько им нужно? Сто тысяч кубометров? Он бы лично хоть сейчас отдал. Тем более, не век древесине быть на плаву. Сосне года два, лиственнице — год, а после они устанут плавать и уйдут на дно, чтобы сгнить там на погибель рыбе. Но поскольку лес казенный, поскольку у него и цена есть — 7 рублей за кубометр, то дело это не простое. Вопрос упирается в деньги
— Мы заплатим, — сказали ходоки.
— То-то и беда! — возразил по-умному Войтов. — Если бы вы выловили укромкой, а мы не знали, — пожалуйста. А вы деньги внесете, да целых семьсот тысяч, так ведь?
— Ну, да.
— А как я их проведу? Раз сумма оприходована, значит, лес попадает в наш план, а раз он плановый, то и распределять его положено по фондам — не вам, а у кого наряды есть. Это ж подсудное дело!
И как ни бились ходоки, он стоял на своем. Им повезло застать в Братске вышестоящего товарища Колесова из «Иркутсклеспрома» и еще более вышестоящего товарища Белых из управления по сплаву Министерства лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР, однако и те на месте ничего не решили. Велели написать заявление, и ходоки написали, оставили для будущих мудрых резолюций, а сами дальше пошли: деревьев в Сибири, слава богу, хватает. От одного сведущего человека они узнали, что уже пробита трасса Братск — Усть-Илим. А это не только новая дорога, не только новая линия электропередачи, это еще и просеки в тайге шириною в триста метров и длиною больше двухсот километров. Это опять-таки лес — сотни тысяч кубометров леса.
Товарищ Янин, заместитель начальника «Братскгэсстроя», подтвердил, что да, лес имеется, свален, раскряжеван, лежит по всей трассе. Сказал, что строители его не будут вывозить: не выгодно им, да и мелочь это для такой великой стройки. «Так отдайте нам! — взмолились ходоки. — Для колхозов всего нашего Усть-Лабинского района». Но товарищ Янин по-хорошему объяснил, что и в этом нет для стройки никакого смысла. Не говоря уж о том, что это будет незаконно. А главное, сейчас тут не до них. Решаются гигантские задачи в масштабе всей страны, возводится новая ГЭС, города строятся в тайге, заводы, каких не знал мир. Нельзя смотреть только со своей колокольни, надо государственно смотреть.
— Но лес-то этот сгниет, — напомнили о своем ходоки.
— Зачем же, — сказал товарищ Янин. — Мы его сожжем.
Я ПОЗНАКОМИЛСЯ с устьлабинцами, когда они возвращались домой. Чистый случай: наши места в самолете оказались рядом. Когда-то летали отчаянные, потом торопливые, сейчас летают все. До самой Москвы мы шли за солнцем, чуть отставая, было светло и покойно, люди читали, ели, спали, нянчили детей, детей было много. Вот только разговаривать воздушные пассажиры в отличие от железнодорожных как-то еще не приспособились. То ли гул мешает, то ли пустота под ногами. Но в этот раз беседа вышла. Видно, очень уж нужно было моим спутникам поделиться переполнявшим их. Разные они были люди. Главный инженер районной «Сельхозтехники» Николай Павлович Белов и Федор Степанович Тарасов, заместитель председателя колхоза. Инженер, большой, рассудительный, с открытым добрым лицом и серыми спокойными глазами, не то чтобы оправдывал тех, кто не дал им леса, но способен был «войти в положение», понимая, что и над ними есть начальство, что план есть план, фонды есть фонды и все такое прочее. А колхозник, среднего роста, загорелый, черный, попроще был и горяч. Этот резонов никаких не признавал. — Что, хлеб меньше стал нужен, чем электричество? — наседал он на меня, будто я во всех их бедах виноват. — Почему нам лес не дали? Мы ж его хлебом вернем! Тому же Янину, мне такая мысль пришла, сказали бы: ты, давай, строй великую стройку, а лесу мы тебе не дадим. И железа не дадим, и цемента. Много бы он ГЭСов настроил? То-то и оно! Да если б все степняки, как вот мы, увидели своими глазами, что там творят с лесом, они бы сейчас закричали в голос: «Сто-о-ойте! Что вы делаете?!» — Как же все-таки они сжигают лес? — спросил я. — Обыкновенно, — отвечал инженер. — На законном основании… Он принес из багажного портфель, достал из него бумаги, которыми обросли они за время своих хождений, и я прочел, потом перечел, потом переписал в свои блокнот решение Иркутского облисполкома № 263, принятое по особому ходатайству строителей: им действительно разрешили «в порядке исключения» лес на просеках сжечь. Пока они не сожгли, потому — средств на это нет. Только по фонду зарплаты, только на сжигание долготья (древесины с пороками) «Братскгэсстрой» тратит в год 250 тысяч рублей. Уничтожить добро тоже стоит денег. — Моего лично здравого смысла, — сказал колхозник, — на это на все не хватает. Моего тоже не хватало. Я видел брошенный лес, хоть и не теми глазами, что ходоки. «Вы на алюминиевый ездили, на стройку? — спросил Федор Степанович. — Видели, где дорога сворачивает, лежат пять бревен? Ну, как же вы не посмотрели! Черные уже, и прелым тянет…» А меня занимала большая стройка со всеми ее проблемами, отнюдь не простыми, — об этом я собирался писать. И тонущий лес — белесые, окоренные водой стволы — я видел и даже, помню, посочувствовал молодым строителям, которые бегали по морю на водных лыжах: бревна были опасны для них. За богатым своим лесом сибиряки не видели деревьев. Вот и мне почудилась в них только помеха, а уходящей ценности этих стволов я тогда не приметил. Но должна же быть какая-то логика. Может, что-то ускользнуло от глаз ходоков, может, и впрямь они смотрят со своей колокольни, а есть какие-то сложные экономические расчеты, по которым государству выгоднее сжечь лес на дальней просеке, нежели возиться с ним… Устьлабинцы рассказали мне, что, уйдя от Янина, они, мужики хитрые, зашли к другому заму начальника «Братскгэсстроя», как раз к тому, который ведает делами экономики, и он выслушал их и тут же написал: «Не возражаю против вывозки леса и использования дороги. — Г. Несмелов». Правда, этой резолюции тоже оказалось мало, но они обошли еще с пяток кабинетов, явились под конец к председателю братского райисполкома Медведеву, и тот пообещал на ближайшем исполкоме вынести решение. Инженер верил, что так оно и будет. Колхозник, судя по всему, не верил. Вообще он, при всей своей видимой простоте, был житейски опытней и рассуждал из нас троих наиболее здраво. — Шут его знает! — говорил он. — Природные наши же богатства, и не можем пустить в дело. Ладно, нет у вас силы взять этот лес. Или там хотения нет. Так отдайте тем, кто может взять. Мы ведь только лишнее просим, из чего труха будет через год. Деньги даем! Нет, порядок не велит. Так на кой ляд тогда этот порядок! — Он взорвался сразу, по-русски. — Лес топят, да по плану. Лес жгут, да на законном основании. А спасти его, выходит, беззаконие, так, что ли?! — К сожалению, так… — сказал инженер. — Бывает. В отдельных случаях. Это мы, конечно, не для печати. Я слушал их, раздумывая и печалясь.
ДУМАЛ я о руководителях, с которыми столкнулись ходоки: многие из них мне тоже были знакомы. Беседовал я и с Владимиром Михайловичем Яниным, правда, совсем о другом. Впечатление от встречи осталось самое доброе. Я увидел человека делового, авторитетного, сильного. В Братск он приехал едва ли не раньше всех, еще до войны, сейчас в его руках все снабжение гигантской стройки, он ворочает сотнями миллионов рублей и счет деньгам знает. Почему же он выпроводил людей, которые могли избавить его от лишних затрат, просили ненужное ему и, мало того, готовы были за это ненужное заплатить? Что за странность? Многих руководителей встретили в Братске наши ходоки, но ни одного хозяина — вот первая причина. Потому что ни один хозяин в здравом уме и твердой памяти на отказался бы от живых денег, от семисот тысяч рублей. Это я не в укор Янину, Войтову, Медведеву и другим. Не только в укор. Вопрос действительно «упирается в деньги»: даже получив их, они ни копейки не могли бы потратить. Ни на премии передовикам, ни на ремонт механизмов, ни на благоустройство города, ни на строительство детских яслей, которых там большая нехватка. Вот и стали вдруг деньги никому не нужны. Вывод такой: строителям нужен сегодня настоящий хозрасчет, а не разговоры о нем. Стройкам необходима экономическая реформа, которую мы проводим в промышленности. Пора уже людям, которым вверена судьба величайших гидроэлектростанций и заводов будущего, почувствовать себя хозяевами дела. Я убежден: будь у них возможность хоть часть этих денег пустить на нужды города и стройки, миссия устьлабинцев победно окончилась бы в первый же день. Однако расчет расчетом, выгода выгодой, а надо ведь и совесть иметь. Пусть им, братчанам, не тепло от тех семисот тысяч и не холодно, должны же они заботиться о всеобщем благе, об интересах государства… Вторая причина, как стало мне ясно, состоит в том, что затея кубанских казаков и впрямь была как бы незаконна. И потому не только прибыли не сулила сибирякам, но грозила им неприятностями. Они бы горы свернули, да и сворачивали не раз, ради выполнения плана. А тут была всего-навсего инициатива. Не обязательная, не утвержденная, какая-то даже подозрительная: не сверху, не снизу — сбоку… Я вспомнил одну историю, которой был свидетелем в Братске. Дело было так. Коллектив завода железобетонных изделий № 4 постановил провести воскресник, а заработанные деньги послать в Ташкент. Как возникла идея, я уж и не знаю. Кажется, у одного из мастеров родные жили там, много было разговоров о землетрясении, о большой беде, свалившейся на город, потом прошли собрания на стыке смен, потом общее собрание — и вот решили. Газета «Огни Ангары» дала заметку о новом почине, и тут встревожился секретарь парткома «Братскгэсстроя» и решил, поскольку почин новый, согласовать вопрос и стал дозваниваться в Иркутск, а была суббота, никого он на месте не застал — безвыходное положение. Между тем назавтра рабочие вышли на воскресник, отработали честно день и зарплату подсчитали отдельно, по особым нарядам, чтобы всю сумму перевести жителям Ташкента. Может, деньги и не главное, что было им нужно, и можно бы найти лучший способ помощи ташкентцам, но сибиряки ощутили свою причастность к общему делу и потрудились от души. А в понедельник он все-таки дозвонился. И ему сказали, что государство у нас не бедное, хозяйство у нас плановое, в Ташкент выезжают бригады из всех республик, так что деньги собирать с рабочих — это лишнее. Тут был резон, да и не каждый почин достоин широкого распространения. Но воскресник в Братске был уже проведен, а звонивший не рискнул об этом доложить. Он смолчал. И так же молчком, без всяких объяснений особые наряды были свалены в общую кучу, а деньги рабочим выплачены. Когда я встретился с ними, они не знали, что об этом и думать. Одни ругались, другие посмеивались, третьи сделали вывод, что, дескать, запрещено Ташкенту помогать. Сам же секретарь, который тоже, видимо, чувствовал некоторую неловкость, дал мне (дословно) такое объяснение: — Хочу сразу оговориться: тут они не совсем пошли в унисон с требованиями. Выступили с почином, которого у них никто не просил. Зачем раздувать ажиотаж? Конечно, мы должны были отреагировать. Проводить линию и не прислушиваться к мнению нельзя. Это ведь не дома за чашкой чая. Если бы мнение вышестоящих организаций было положительное, мы бы эту инициативу снизу широко провели. Прошу меня правильно понять… Что ж, я понял. Инициативой снизу он признавал лишь то, что предписано сверху. Неорганизованный энтузиазм пугал его, внеплановая инициатива приводила в замешательство. А она иной и быть-то не может. Она всегда сверх приказа, всегда больше плана, всегда свыше того, что входит в обязанности людей. В этом величайшая сила всякого настоящего почина. В этом и незащищенность его: он для исполнения не всегда обязателен. Какой-то роковой необязательностью была отмечена с самого начала поездка устьлабинцев в Сибирь.
ПРИДЯ к этой обидной мысли, я вновь вернулся к своим спутникам по полету, мы все еще были в пути, даже по авиационным меркам он был неблизок — восемь часов. Где-то за Кемеровом сибирские впечатления стали отходить у нас на второй план, и замаячила в их рассказах Кубань. Пусть Братская ГЭС дает миллионы киловатт энергии — честь ей и слава, а Усть-Лабинский район дает миллионы пудов хлеба — это, я согласен с Федором Степановичем, не менее важно. Он заговорил о своем колхозе, «по нашим местам среднем», стал перечислять, что они строят, и ревниво следил, все ли я запишу: новую школу, жилые дома, нефтебазу, коровник, птичник, кормоцех, склад удобрений. — Людей у нас богато, — продолжал он, — экономика хорошая, деньгами располагаем и есть свой кирпичный завод: к августу все коробки будут стоять. И дело упрется в лес. Мы понимаем: трудно. Тем более, надо Ташкент отстраивать, да и на Кубани было наводнение — опять, значит, помощь. Так разве плохо, что мы к государству не с одним «дай»? Сожженный лес — это ж ничто, а получи его степные районы — это и хлеб, и культура села, и смычка. Так и сказал: «смычка» — всплыло вдруг забытое слово. А Николай Павлович строил свои инженерные планы и даже на листке прикинул, сколько бригад послать за лесом, сколько отрядить машин, тракторов, автокранов да сколько это будет стоить, и вышло, что лес так и так окупит себя… Все больше нравились мне эти двое, такие разные и в чем-то главном схожие, и я подумал, что никакие они не «ходоки» и что «смычка» для них совсем не то, чем была она для их отцов. Люди колоссально выросли за годы Советской власти, обрели истинную самостоятельность, и она нужна им сегодня не только для того, чтобы самим решать, где просо сеять, а где кукурузу — это само собой, — она нужна им для свободного проявления инициативы во всех областях хозяйственной жизни. Сама поездка их в город Братск есть в некотором роде знамение времени. Мы простились в Москве, я пожелал им успеха и все надеялся, вернувшись в редакцию, что выйдет устьлабинцам разрешение на вывозку леса. Увы, и по сей день нет им никакого ответа. И тогда я отложил тему, за которой ездил в Сибирь, и взялся за эту тему — «инициативную» и «сверхплановую». Три задачи ставил я перед собой. Первая — помочь решению данного конкретного вопроса. Решить его обязаны товарищи из Иркутска и Братска, помянутые в статье и не помянутые, и сделать это они должны, не теряя ни дня. Лето на исходе, и преступлением будет с их стороны сгубить лес, который можно спасти. Вторая задача сложнее. Грядет Усть-Илимская ГЭС. Убрать со дна нового моря нужно 14 миллионов кубометров леса, и уже сейчас ясно, что лесники не успеют этого сделать. Министерство энергетики и электрификации СССР форсирует затопление, оттянув строительство железной дороги, которая необходима для вывозки древесины, а Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР крайне нерасторопно организует заготовку леса. Не пора ли спросить строго и с того и с другого? Впереди встают еще Средне-Енисейская ГЭС, Богучанская ГЭС, где надо вырубить десятки миллионов кубометров древесины… Разумеется, главная тяжесть этой работы ляжет на лесников, но если инициатива, о которой рассказано, утвердится в жизни, то тогда по почину устьлабинцев им смогут помочь людьми и техникой колхозы многих безлесных районов Украины, Средней Азии, той же Кубани. «Спохватываться» надо уже сейчас — потом, как показывает опыт, будет поздно.[4] И третья задача — дать читателям пищу для размышлений об инициативе, организованной и натуральной, привлечь к этим вопросам общественное внимание.
* * *
На фронтоне здания Братской ГЭС впечатано по камню: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Надпись растянулась на пол-километра, буквы убегают, сокращаясь в перспективе. С одного берега видно только первое слово, с другого — только последнее, а такого места, откуда можно было бы охватить взглядом всю строку, нет. Но это не беда: все мы знаем ее наизусть. Вот только не все ее понимают, как надо. Иные будто и смотрят с одного берега весь свой век. У Ленина в этой формуле каждое слово на месте. У Ленина от перемены мест слагаемых сумма бы изменилась. У него к Советской власти прибавляется электрификация, а не к электрификации — Советская власть. Значит, поворот в сознании миллионов куда важнее, чем само по себе наращивание киловатт-часов. И Советская власть есть, по Ленину, наиболее полное, наиболее последовательное осуществление демократии, то есть невиданный размах инициативы народа. И электрификация всей страны, по Ленину, — это не одни генераторы и турбины, но и конец деревенской темноты, и смычка города с деревней, и раскрепощение женщины, и всеобщая образованность… Все части знаменитой формулы насыщены у основателя нашего государства инициативой масс — той самой, которую он в «Великом почине» назвал геройской. Инициатива у нас обязательна. Она не может, не должна быть сбоку.1966 год.

Пустырь
ПУСТЫРЬ распластался у них перед домом. И в окна он был виден. И с балкона открывался пустырь. Притихший, неживой, укрытый белым снегом, утыканный будыльями, опоясанный черными дорогами.
— Что тут у вас будет? — спросил я однажды.
— Дом будут строить. Для начальства.
— Точно знаете?
— Говорят…
Ходил я к Едоковым.
Если смотреть с балкона, за пустырем виден деревянный барак, в котором прежде жили они. Жили много лет и растили детей, потом началась, как говорят они, международная стройка («Между народом сговорились строить»), и выросли новые многоэтажные дома, и они переехали в отдельную квартиру. Но остались в том же Канавине, старом фабричном районе города Горького, на той же улице Июльских дней, и улица для них своя, дома свои, — это, как увидит читатель, важно для рассказа.
Едоковы люди постоянные. Когда-то шли на смену по гудку, потом у всех завелись часы, и отменили гудки, но тою же дорогой — мимо пустыря, через шлагбаум, вдоль складов — идут Едоковы в свой цех, на свой завод. Может, вы и не слышали о таком заводе имени Воробьева, а он в своем роде один: Едоковы делают машины для элеваторов и мельниц. Это старинный завод, из тех, которые поругивают, но любят, куда отцы приводят сыновей.
Тридцать пять лет проработал в цехе Георгий Иванович, отец, и сыновей обучил столярному делу, они тоже стали работать с ним — Юрий, Вадим, Борис. Дочь Вера работает на Сормовском, зять — вальцовщик на «Красной Этне». Есть еще сын Владимир, самый старший, он бригадир каменщиков на стройке. А младший Толик учится в четвертом классе, таскает книги из библиотеки («Да по две сразу, да все толстые», — говорит мать), и, когда показывают «Клуб кинопутешествий», его от телевизора не оторвешь.
Мне нравятся Едоковы, это я сразу могу сказать. Работу они не меняют, жен не бросают, получку всю отдают в дом, в будни не пьют, детей растят без битья. Юрий рассказывал, как отец единственный раз в жизни взялся его учить: «Он лупит, а мне смешно. Потому — он не умеет». Мне по душе, что в доме Едоковых весело и шумно, что зять у них свой и снохи в чести, что есть у семьи твердые понятия о совести, что в пестрой, быстро меняющейся жизни завода, улицы они, Едоковы, всегда остаются сами собой, что дело свое почитают самым главным на свете. «Умственное возьмите, — говорила мне Клавдия Яковлевна, мать, — человек просто за столом сидит, и то ведь нелегко. А мои весь век за станком!»
Разумеется, я был у них в цехе, видел, как семейная бригада собирала сепараторы и рассева; работают Едоковы на совесть, но рассказ мой будет о другом. Пусть начнется он с того места, где чаще всего мы ставим точку, с того момента, когда большая семья рабочих приходит со смены домой.
Я, как сейчас, вижу их залу. Шифоньер, сработанный руками отца, стулья в ряд по двум стенам, большой дубовый стол — подарок деда, который тоже был столяр, тюль на окнах, половики на крашеном полу, на этажерке книги, в основном учебники, внизу тяжелые гантели, перед зеркалом на комоде матерчатые цветы в хрустальной вазе, фарфоровые лебеди, пластмассовые боксеры. Очень все чисто, во всем устоявшийся порядок… Семья разрослась, стало тесно, выделился старший сын («Володя у нас сознательный, — говорит мать, — все взносы собирал, и дали ему квартиру»), ушел «на частную» Вадим с женой и дочкой, а большая комната все остается «залой», и Юрий не ленится каждое утро убирать раскладушку.
Здесь собираются Едоковы все вместе, справляют праздники, ведут беседы, выносят свои суждения и приговоры. Что знают они о жизни страны? Поставим вопрос иначе: откуда они черпают сведения?
— Дом для начальства будет на пустыре.
— Точно знаете?
— Говорят…
У НИХ ЕСТЬ, как уже сказано, телевизор. Есть хороший радиоприемник. Они выписывают «Правду», «Известия» и «Ленинскую смену» (областную комсомольскую газету). Еще на заводе бывают «через вторник» беседы о международном положении. Таковы главные, так сказать, каналы информации. Едоковы кончают работу рано, в три часа дня, переоденутся, умоются, перекусят и с влажными еще волосами садятся за стол. Отец начинает с первой полосы, с передовой, сыновья — с четвертой, с отдела спорта. Что происходит во Вьетнаме, они знают. Что творится на Ближнем Востоке, осведомлены. Как работают заводы на Урале или на Камчатке, им тоже в общем известно. А вот что делается на соседнем (в десяти минутах ходу) заводе торгового машиностроения, ничего им не известно. Что будет завтра у них перед окнами, понятия не имеют. Хотя отец коммунист, сам избирался депутатом, был членом партбюро. Тут информацию приносит мать из очередей, с базара. Тут слухи. Кто такой Мобуту, знают Едоковы. И об избрании Индиры Ганди слышали. А вот кто такой тов. Падалко — не слышали, не знают. А он, между прочим, избран председателем общественного бюро нормирования на их заводе. При этом я бы лично не взялся утверждать, что события в Конго или в Оклахоме больше волнуют Едоковых, нежели то, что происходит у них в микрорайоне. Микрорайон — не значит микроинтерес. Соотношение скорей обратное. Они любят свой красивый город, знают свой город, в субботний вечер Юрий (модное пальто, белоснежная сорочка, галстук, шляпа пирожком) водил меня по центру, показывал знаменитый Нижегородский кремль. Когда была лекция о будущем Горького «в разрезе двадцатилетия», Едоковы пошли в клуб и все со вниманием выслушали — о прекрасных площадях с видом на Волгу, о высотных домах нагорной части, о горьковском метро. Но, как сказал мне впоследствии лектор, вопросов больше всего было «мелких», на которые он затруднялся ответить. Дойдет ли к ним метро, какие здесь построят магазины, что будет на этом пустыре? (К слову сказать, у Горького в «Детстве» и «В людях», где подробно выписаны «ярманка» в Канавине и кривые улочки Нижнего, нет даже такого слова «кремль», хотя от дома Кашириных до центра рукой подать. Свидетельствует это, конечно, о социальных границах старого города, ныне порушенных, но также и о том, что человеку памятнее, ближе всего то, что непосредственно окружает его.) Как узнаем мы чаще всего о переменах на нашей улице? Вышли из дому — шум, треск, что-то уже ломают, что-то роют, и сразу глухой забор, мальчишки еще заглянут в щель, а взрослому неловко, он мимо пройдет. Почему так? «Улица моя, дома мои», — я хочу знать, что за дом строят на моей улице. Пусть напишут об этом на большом щите, пусть врежут в забор окно, чтобы мне удобнее было следить за ходом стройки. Придется, конечно, навести на ней порядок, но кому от этого хуже? Клавдия Яковлевна сумела припомнить только один похожий случай. Она шла с соседкой на базар, как раз они заговорили, к чему бы это будку за переездом снесли, и вдруг видят: стоит на том месте столб, на столбе фанерка, а на фанерке кривыми буквами: «Здесь будет детсад». Кто этот неизвестный герой, догадавшийся уважить жителей улицы Июльских дней, мне так и не удалось установить. Во всех же прочих случаях они тогда лишь узнавали, что строят у них (для них), когда приколачивали вывеску. Я уж не говорю о том, что за все эти годы никто ни разу не посоветовался с жителями. Справедливости ради замечу, что в конечном итоге перемены Едоковым нравятся, как и большинству их соседей. Детсад строят — хорошо. Булочную открыли — хорошо. Молочную построили, продмаг — кто ж будет возражать? Клавдия Яковлевна и на базар стала теперь реже ходить. Но почему же, черт подери, даже такие намерения и планы — обычные, привычные, выигрышные, наконец, — были до поры скрыты от людей? Я побывал у горьковских архитекторов. Я думал: люди занятые, может, у них руки не доходят, может, им просто в голову не пришло. «Нельзя зря баламутить людей», — так мне ответили. Оказалось, зодчие наши, даже выезжая на рекогносцировку, норовят держаться от населения подальше. Чуть замешкаешься, уже обступят: что да как, да будут ли сносить, да скоро ли? Советоваться с жителями? Что вы! Один того захочет, другой этого, тут жалоб не оберешься… Архитекторы любезно раскрыли передо мной эскизы, планы: детсад и впрямь строят, на 140 мест, старый клуб «Спартак» подлежит сносу, на месте складов будет новый клуб на 600 мест. А что намечено на пустыре? Мне сказали: сквер. Значит, не «дом для начальства»? Какой дом, удивились они, тут у нас зеленая зона до самой Оки. Природа не терпит пустоты. Пустыри зарастают. Преимущественно сорняками. Я хочу сказать, что всякое отсутствие информации восполняется слухами. Слухов, полезных нам, не бывает. Слухи бывают только вредные.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, нужна гласность, только и всего. Нужна обыкновенная информация о жизни. Она должна быть всеобъемлющей, потому что глупо таить от людей то, чего скрыть все равно невозможно. Она должна быть своевременной, потому что грош цена информации, если она ковыляет позади событий, если обнародована, когда уж, как говорится, подопрет. И последнее скромное пожелание: сообщаемые сведения обязаны быть стопроцентно, скрупулезно правдивы. Конец месяца, мастер просит рабочих задержаться. «План заваливаем, надо, братцы, поднажать!» Едоковы — люди дисциплинированные, они остаются, «нажимают», а после, придя домой, включают радио (другой канал информации) и слышат зычный голос зав. производством: «Встав на трудовую вахту, славный коллектив воробьевцев досрочно выполнил месячный план…» Пожалуй, после этого они и выверенным цифрам поверят не враз. Цех не улица, в цехе регулярно проводятся собрания. Но, в сущности говоря, и здесь Едоковы мало что узнают, а советуются с ними и того меньше. Повестка дня одна: план. «Какие будут предложения?» — «Принять». — «Кто за, прошу поднять руку». Еще скажут иной раз о качестве — это в начале месяца. А в конце все забыто, в конце — «давай!». Почему снята с производства одна машина и запущена другая? Почему дали премию такому-то, а такому-то не дали? Эти и подобные им вопросы остаются без ответа, и, значит, возникают неверные, или, как говорит председатель завкома Ширдин, нездоровые представления. Между тем есть узаконенные формы гласности, их не надо изобретать, они на то и придуманы, чтобы покончить с безгласием людей. Есть депутаты, которые просто обязаны оповещать жителей обо всем, что происходит в районе. Есть на заводе постоянные комиссии завкома, есть совет новаторов, совет молодых специалистов, есть ВОИР, НТО, ОКБ, ОНБ, ОБЭА, ОБТИ и бессчетное множество прочих общественных организаций, которых ни перечислить, ни расшифровать нет у меня никакой возможности. Но сам предзавкома признал в своем последнем докладе, что, «к сожалению, частенько работа их заключается только в сборе членских взносов». Чего же удивляться тому, что на уныло-чинных заседаниях дохнут мухи, а нездоровые разговоры кипят в курилке. В докладах преимущественно отмечаются успехи. Завод действительно передовой, воробьевцы с 1958 года занимают в соревновании первые места, у них солидный фонд предприятия, они и дома строили, и детский сад, и пионерлагерь, лучший в области. Само собой, об этом коллектив информируют, но до того это делается казенно и однобоко, что «курилка» выносит свой приговор: так-то оно так, а «квартиры дают одним инженерам». Я проверял: нет, из 292 человек, которым завод дал за семь лет жилье, 238 — рабочие. Но, бога ради, не поймите меня так, будто гласность нужна нам исключительно для воспевания успехов. Дескать, стоит только копнуть «пустырь», и за ним не окажется «дома для начальства», а непременно благоуханный сквер. Бывает, увы, и по-другому. За безгласием могут скрываться любые злоупотребления. Знаете ли вы, к примеру, как выдаются премии? Когда-то это было праздником, вывешивались списки на стене, и Георгия Ивановича не только четыре сотни радовали (в старых, конечно, деньгах), но признание его труда, уважение, почет. Теперь все по-иному. Подойдет мастер: «Едоков, распишись. Тебе трояк». Или: «Вадим, получи пятерку. Разделишь с Романенковым, я вам выписал на двоих». Списков нет, поздравлений нет, премирование стало каким-то тайным, едва ли не стыдным делом. И поскольку механика его от рабочих скрыта, поскольку, как выразился один старый жестянщик, в этих делах они не сильно юридированы, то и тут являются слухи: дело, мол, нечисто, махлюет кто-то. — Точно? — Говорят… А на деле все оказалось куда как проще. Премиальный фонд в цехе распределяет «треугольник». Так вот, вместо того, чтобы поощрить по-настоящему немногих, действительно лучших (выделить их без открытого обсуждения трудно), они стараются «охватить» побольше народу. Чтоб не обидеть никого. И обижают трояками и пятерками «на двоих» действительно всех. Вдобавок, когда в заводской бухгалтерии я «поднял» все цифры за 1965 год, выяснилось, что рабочим и впрямь выплачено было премиальных денег на 12,7 процента меньше, чем они могли и должны были получить… Разве не ясно, что всему этому позорищу давно бы пришел конец, будь на заводе настоящий, действенный контроль масс. Гласность — оружие обоюдоострое. Убивая слухи, она вместе с тем делает злоупотребления невозможными. Вы понимаете, конечно, что разговор у нас давно уже не только и не просто о налаживании информации. Речь идет о развитии нашего демократизма, об истинном уважении к людям, о необходимости знать их запросы, прислушиваться к ним, учитывать их. Наивно представление, что человек может быть активен у станка и пассивен в гражданской жизни, — так сказать, новатор в цехе и обыватель в быту. Еще Н. Г. Чернышевский в 1859 году писал: «Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите своей личности от притеснений? Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе». И вторая причина, по которой нам без гласности не обойтись. Если «нездоровые разговоры» возникали в ту пору, когда завод весь был опутан инструкциями, когда директор шагу не мог ступить без них, когда столь многое предписывалось свыше, то что же будет теперь, когда завод действительно получает самостоятельность? Прибыль-то, положенную ему, он сам будет делить. Бездельников-то сам будет увольнять. А ну как расправа за критику? А ну как злоупотребление?.. Нет, тутодно спасение — гласность. Тут поистине надо, как того требовал Ленин, делать все на виду у масс. …Едоковы — правильные люди. Их разговоры, раздумья, стремление разобраться во всем, что происходит в нашей жизни, стремление обдумать, взвесить, понять — свидетельство неравнодушия. Они имеют на это полное право.
1966 год.

Устойчивость
В ГОРОДЕ Ростоке на берегу Балтийского моря я не пошел на знаменитые верфи. Миновал порт, рыболовные суда, заводы, электронно-вычислительные центры. Не без сожаления прошел я мимо этих объектов, для журналиста заманчивых, и направил свои стопы в сберкассу. Кто куда, а я в сберкассу.
Мне всегда казалось, что ничего нет консервативнее сберкасс. Ну что тут можно придумать? Зажечь неоновый плакат: «Храни излишки не в пивной, а на сберкнижке». Или пальму нарисовать: дескать, накопил — на курорт укатил. Если нет у человека денег, никакими призывами не завлечешь его. А есть — все равно понесет в сберкассу. Куда еще?
Главная сберкасса Ростока, мы бы сказали «головная» (у нее в городе и районе 27 филиалов), занимала добротный старый дом. Вообще я заметил в этой поездке по ГДР: сберкассы и банки, где только можно было, оставались в старых помещениях. А если и в новых, то мебель была дубовая, столетняя. Финансы любят устойчивость. Финансы боятся перемен. Девальваций и всего такого прочего.
— Задача у нас одна, — сказал мне Герман Беккер, директор сберкассы, — увеличить приток средств.
— А что вы можете для этого сделать?
Простая вещь: они облегчили процедуру выдачи денег. Выдают прямо по книжке, а вся писанина — вечером, без клиентов. Очередей нет. По своей книжке вы можете получить деньги в другой сберкассе. В другом городе — тоже можно. Директор вправе дать кредит частному лицу. Я спросил, как это делается, и Беккер, седой, веселый человек, с охотой разыграл со мной сценку: «Вы будете наш клиент».
— Значит, вам нужен кредит? Поздравляю, хорошая идея!.. — Он усадил меня в кресло, придвинул сигареты. — Сколько? Пять тысяч? Семь?
— Семь, — сказал я.
— Отлично. Женаты ли вы? Сколько детей? Какой у вас заработок? — Он вел подсчеты на листке. — Так… Выходит, кредит на пять лет. А что вы хотите купить?
— Моторную лодку, — сказал я.
— Мы возьмем с вас шесть процентов.
— Почему так много? Я несимпатичен вам?
Беккер рассмеялся, это показалось ему остроумным.
— О! Нет, разумеется. Но лодка не есть предмет первой необходимости.
Оказалось, кредит — инструмент тонкий. Эти «банкиры» придают ему социальную окраску. Они могут взять шесть процентов, и три, и вовсе не брать процентов. И зависит это от заработков семьи, от состава семьи (многодетным — льгота), от того, что вы намерены купить.
— А если я вас обману? Скажу, что деньги нужны на мебель первой необходимости, а куплю все-таки лодку.
Беккер очень громко рассмеялся, это показалось ему верхом остроумия.
— Мы ведь сами будем оплачивать ваши счета.
Теперь цифры, они тут неизбежны. Общая сумма вкладов в городе растет: 1951 год — 12,5 миллиона марок, 1956 год — 60 миллионов, 1963 год — 198 миллионов, 1966 год — 369 миллионов… Я записал все аккуратно под диктовку директора, а после подумал, что такой скачок не объяснишь одною оборотистостью финансистов. Не отходя от кассы, я мог судить о делах верфей, заводов, строек Ростока. Надо полагать, дела идут неплохо, планы выполняются, жизненный уровень в республике идет вверх. В этом суть, а финансы — всего лишь зеркало, они светят отраженным светом.
— О, да! — легко согласился Беккер. — Но в хорошем зеркале отражается многое. От нас тоже кое-что зависит, и я рад, что вы приехали изучать финансовое дело.
Такова моя тема. Я выбрал ее потому, что как раз сейчас в Германской Демократической Республике идет перестройка финансов. Не канцелярская реорганизация, не сокращение штатов (число кассиров в Ростоке, напротив того, пришлось увеличить), а именно перестройка всей финансовой системы.
Нам предстоит сложный разговор.
МОЖЕТ БЫТЬ, не все знают, что наши немецкие друзья уже провели экономическую реформу. Точнее, завершили первый большой ее этап. На новую систему у них переведены все заводы, все стройки, все министерства. Они сделали это четко и быстро. Ну, что значит быстро? Что это вообще означает — делать что-либо быстро? Мне нравится ответ одного инструктора парашютного спорта, приведенный в книге М. Галлая «Испытано в небе»: «Это значит делать медленные движения без перерывов между ними». Вот так и шла реформа в ГДР — без суетливости, но и без промедлений, — и теперь, как логическое продолжение ее, начата реформа финансов. В чем ее суть? Все здесь помнят девиз бывшего министра финансов ГДР Румпфа, как бы высеченный незримо над дверями банков страны: «Мы должны работать так, чтобы каждый, кто идет к нам за деньгами, семь раз отвернул от двери». Новый министр финансов Бём судит иначе: «Не только давать деньги, но предлагать, навязывать, если марка вернется десятью марками».
СУМРАЧНАЯ тишина, шелест бумаг, негромкие разговоры. Только в одном из отделов, в кредитном, я вижу молодых работников, во всех остальных — люди солидного возраста. Опять панели из мореного дуба, тяжелые с резными филенками двери, цветные витражи на окнах. За окнами — городская ратуша, бронзовый Гендель, старинный собор… Да, финансы любят устойчивость. Зигмунд Готшсман, директор банка, ведет меня по деревянной лестнице, которая должна бы скрипеть, но почему-то не скрипит. Семнадцати лет он пришел сюда курьером, выбился в счетоводы, стал кассиром, у него не было папы-банкира, и потому он поднимался, не минуя ни одной ступеньки. (Между прочим, тот же путь прошел Беккер из Ростока: тоже начинал мальчиком на посылках.) Сейчас Готшсман озабочен и хмур. Ему подчинены 2300 финансистов, и у всех у них горячие дни. Мы беседуем в кабинете директора. Каким должен быть нынешний «социалистический банкир»? Готшсман отвечает обстоятельно: «Эрстенс, цвайтенс, дриттенс…» Во-первых, идейным: он должен понимать сущность новой политики партии. Во-вторых, грамотным: нужны знания в области экономики, финансов, кибернетики, социальной психологии. (Замечу в скобках: когда партия ставит задачу, что надо учиться, — немцы действительно учатся. Вся республика садится за парты, даже министров освобождают на полгода, и они слушают лекции, пишут работы, сами пишут и получают аттестацию. Без фанаберии, без чванства. Впрочем, тут особая тема.) Третье: финансист должен умело хозяйствовать. Отдел кредитов не случайно «помолодел»: перестройка прежде всего коснулась кредитных отношений. А кассиры — старики, тут опыт в цене. Раньше главными качествами финансиста были строгость, честность, педантизм. Это все не отменяется, но теперь на первый план выходят иные качества — инициатива, смелость, предприимчивость. Трудно работать? Готшсман вздыхает: трудно. Но делается это все не для того, чтобы прибавить «банкирам» седых волос. Жизнь требует. Он не хотел бы, чтобы сложилось впечатление, будто все идет гладко. Задачи — новые, привычки — старые. Заводы все еще видят в финансисте чиновника, а не делового партнера. Труднее всего преодолеть идею о «поддержке общества». Мы, мол, государственное предприятие, и, значит, что бы ни стряслось, государство нас не допустит до краха. — Но это действительно так, — говорю я. — Вы ведь не можете разорить завод. Готшсман улыбается. У них был такой случай: электродвигательный завод в Дессау срывал поставки, вместо 22 миллионов прибыли сделал 9 миллионов — словом, «разорялся». Банк послал туда своих экспертов. Вот кстати еще одно требование к финансисту: он должен знать технику, основательно изучить «свою» отрасль. (После я говорил с д-ром Дитрихом, заместителем министра финансов. Его отрасль — сельское хозяйство, он сам из крестьян, мать его и сейчас работает в деревне, он и диссертацию защищал по кредитованию артелей. Мне он сказал: «Я, понятно, не стал выдающимся агрономом, но, во всяком случае, меня трудно обмануть».) — А кредит в Дессау вы дали? — Дали, — ответил Готшсман. — Десять миллионов марок. За десять процентов. Но дали не в тихом кабинете, а публично. Вот она гласность: собрался коллектив завода, и директор принародно должен был объяснить, как он дошел до жизни такой, для чего нужны эти деньги и что он намерен сделать, чтобы вернуть долг. Выступали инженеры, выступали рабочие. Потом слово взял директор банка: «Мы не собираемся наживаться на процентах, как это делают капиталистические банки. Но деньги стоят денег, и мы тоже не можем бросать их на ветер. Через три месяца проведем проверку. Если намеченный план будет выполняться, возьмем с вас только пять процентов. На полмиллиона меньше». — А могли вы не дать им денег? — Конечно, — сказал Готшсман. — Дело не в том, дать или не дать. Мы и сами предлагаем, когда они не просят. Дело в том, чтобы был эффект. Могли бы платить им только зарплату. Могли потребовать поручительства от министра. Это все мы решаем. Сами. Я понял: тишина в этих залах обманчива. Все бурлит сейчас, грядут новые перемены, они уже подошли к рубежу: с 1 января 1968 года в стране произойдет слияние госбанка и стройбанка. Отныне заводы будут иметь дело с одним партнером — деловым банком. Он и сам будет переведен на хозрасчет, чтобы благополучие финансистов зависело от их оборотистости. Предполагается даже дать этому банку фонд риска, определенный процент риска… Я понял: устойчивость не в том, чтобы сегодня все было, как вчера. Устойчивость в том, чтобы все время становилось лучше.
ИДУ К МИНИСТРУ финансов. У Чехова в одном из писем есть такие строчки: «Как скучно быть министром! Мне так кажется…» Зигфриду Бёму не скучно. Огромная махина пришла в движение, рушатся многолетние представления, трудностей уйма, ответственность колоссальная. А Бём молод, ему 38 лет; это вообще характерно, что финансами в ГДР ведает самый молодой министр. В сущности у меня один вопрос к нему: как осуществляется теперь централизованное руководство? Я уже убедился: решение многих вопросов, бывших до этого прерогативой центра, действительно отдано на места. Но что же в таком случае решает само министерство? Бём выслушал вопрос, закурил. — Я понял вас, — сказал он. — Иногда думают: чем больше инициативы снизу, тем меньше планового начала. Это неверно. Растет не только демократизм, растет и централизм. Количественно мы держим в своих руках меньшее (уже не распределяем каждый грош и каждую гайку, что, впрочем, сейчас и невозможно), но качественно — держим все наиболее важное. По-прежнему обязанности перед государством — первая заповедь любого предприятия. Нужды здравоохранения, культуры, обороны мы при всех условиях должны обеспечить. Но сегодня я уже не могу думать только о бюджете. Перед моими глазами и второй круг — товарно-денежные отношения. Точка связи, пересечения этих двух кругов — нормативы, определяющие ту часть прибыли, которую заводы вносят в бюджет. В разных отраслях они различны. Это и есть рычаги, которыми мы регулируем темп развития отраслей. Конечно, административные методы проще. Взять все подчистую у предприятий, а потом распределять: сталеварам — столько-то, пивоварам — столько-то. И сразу видно: план! Куда труднее привести в действие экономические рычаги. Но без них уже нельзя. Видимо, на первых порах нам придется нормативы ужесточить, чтобы иметь запасы. Однако какую бы часть прибыли мы ни брали с заводов — 20 процентов или 40 процентов, — это определяется надолго. Нормативы должны быть обоснованными и стабильными. У нас сильная инспекция, и если кто-то нарушит финансовую дисциплину, мы тотчас вмешаемся. Но если нарушений нет, мы не имеем права вмешиваться. Контроль — да, анализ — да, но не мелочная опека. До сих пор в конце года мы забирали неиспользованные фонды в казну. Потом в двух отраслях провели эксперимент: оставили эти деньги заводам. И убедились: расходуются они более разумно. С 1 января 1968 года вводим этот порядок повсюду. Что еще «остается» министерству? Финансово-экономические прогнозы. Надо предвидеть, а не тогда заседать, когда, как говорят у нас, ребенок уже упал в колодец. Сейчас наши товарищи сидят в рабочих группах по электронике, атомной энергетике и т. д. Идет разработка прогнозов по системе образования, пенсионному обеспечению, развитию науки. Конечно, с точностью до 1 миллиона нам не уловить, но до 50 миллионов — обязаны. При размере бюджета в 1975 году около 100 миллиардов этого уже достаточно. — Хорошо, — сказал я. — А что если бюджет не сложится? — «Дополнительных заданий» все равно не будет, — сказал министр. — Заводы не должны платить за наше неумение. — А если не ошибка? Выявилась новая потребность. — Должны быть резервы. Если я хочу всерьез осуществлять принципы новой экономической системы, «латание дыр» недопустимо. Это не планирование. — И все-таки, что вы практически сделаете, если вдруг появится «дыра» в бюджете? — Финансист не пожарная машина, — сказал Бём. Его темные глаза смотрели на меня почти сердито. — Знаете, что самое трудное? — сказал он. — Контролировать себя. Легче каждый день повторять: «Я за решения партии», чем каждый день проводить их в жизнь. Мешают привычки, сидящие в нас. Помню, мы ночами спорили о прибыли, о кредите: возможно ли это при социализме? Нам очень помог опыт Советского Союза. Теперь споры отошли — предубеждения живы… Что ж, не надо пугаться. Не надо останавливаться на полпути. Надо доводить дело до конца.
СОЦИАЛИЗМ стал наукой, стал живой практикой. Значит, и относиться к нему надо, как к науке, как к практике. Надо его изучать. Содружество крепнет, вместе с обменом в области экономики растет обмен идеями. Наши немецкие друзья, приступая к разработке новой экономической системы, весьма внимательно следили за дискуссией, которая велась у нас. Они, в частности, переняли наш опыт расчетов со строителями, когда заказчик уже не платит за «незавершенку», а только за готовый объект. В СССР на эту систему переведено 30 процентов жилищного строительства, а в ГДР — все строительство, в том числе и промышленное. Но почему так? Потому прежде всего, что наши «30» во много раз больше, чем их «100», — совсем другой масштаб. У них, как мы видели, действующие заводы сами зарабатывают свой рост. А как новостройки? Тут исключение: их финансируют из бюджета. А велико ли исключение? Такие объекты насчитываются десятками. У нас их сотни. Как говорят физики, на порядок больше. Эксперимент в ГДР наиболее чистый: маленькая страна, 17 миллионов населения, силы компактны, связи налажены. Бём мне сказал: «Нам легче. Когда на юге страны что-то не ладится, я на машине доберусь туда за четыре часа». Надо принять во внимание и такую трудно поддающуюся учету категорию, как национальный характер. Возможно, кто-то из читателей, узнав о публичной выдаче кредита, подумал, что это некое торжественное мероприятие. Нет, для немецкого рабочего такие собрания не проформа. Я был в гостях в одной семье и видел хаузхальтбух — книгу домашнего бюджета. Хозяин дома охотно давал пояснения. Он и жена вкладывают в общие расходы определенную часть зарплаты — эти «нормативы» вполне стабильны. Оба откладывают сбережения — по 50 марок в месяц. У него вклад больше. Почему? «Я на девять лет старше. Я раньше начал». Средства на питание все у жены, но она записывает каждую трату. А он покупает что-нибудь в дом? «О да! Приношу жене, даю ей чек, она записывает в хаузхальтбух и возвращает мне деньги». Этот человек крайне был удивлен, узнав, что я живу иначе. Ясно, что, привыкши дома к такому порядку, они и на работе считают деньги. И это не могло не сказаться на успехах экономической реформы… Однако что предлагаю я? Хочу ли, чтобы и мы изменили свой семейный обиход? Нет, хотя, наверное, стоило бы и нам поучиться, особенно молодежи, планировать личный бюджет — это совсем неплохо. С другой стороны, социализм и в ГДР меняет людей: многие перестали копить «на старость», и деньги тратят не столь педантично, и живут веселей. А у нас всегда были другие традиции, и мне по душе они, и даже некая безалаберность в расходовании своих денег (накормили гостей до отвала и к соседу — за «трояком» до получки) — даже это мне симпатично. Пусть пребудут вовек русская широта, русский размах. Но уж в расходовании денег, которым не ты хозяин, в счете народных, государственных денег, — тут уж будь немцем. Им легче, слов нет. Но если даже в небольшой стране невозможно стало распределять сверху каждый грош и каждую гайку, то при наших масштабах и просторах это и вовсе затруднительно. Маленькой стране легче. Большой — нужнее.
* * *
Последнее впечатление. Столько мы говорили о деньгах, что не грех нам и взглянуть на них. В Дрездене я был в том отделении банка, где собираются живые деньги. Они счет любят, и вот сидят за длинными столами чернорабочие финансового дела и считают купюры. В соседнем зале «обрабатывают» мелочь. Там машины, потому что вручную никак не поспеть. Монеты приносят в брезентовых мешках, сваливают в лотки, черпают ведрами — поистине здесь деньги лишены своего таинственного символического смысла. Долго я смотрю, как крутятся, звенят, катятся по желобам блестящие кружочки. — Спешит наша марка! — смеется Дитер Мюнх, сын рабочего, социалистический банкир, через руки которого в день проходит по восемь миллионов. — Марке приходится много работать. С 1957 года в ГДР новые деньги. В оборот ввели 4 миллиарда 100 миллионов марок. Сейчас в обороте около 6 миллиардов. Значит, количество денежной массы увеличилось в стране на 50 процентов. А количество товаров и услуг увеличилось за этот срок на 100 процентов. Марка крутится, чаще ходит через банк, работает в поте лица. Марка подвижна — курс стабилен. Это и есть устойчивость.1967 год.
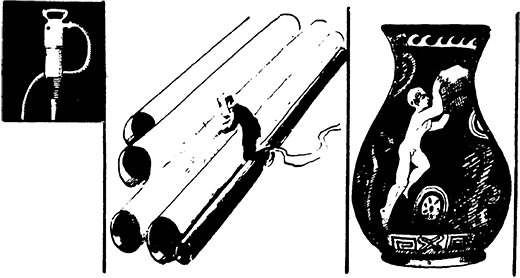
Труба
ЧЕЛОВЕК не способен уничтожить то, что создано его руками. Сегодня сделать, завтра сломать и снова сделать, и опять сломать. Люди не пригодны к сизифову труду. В старину попов за воровство, за пьянство приговаривали толочь воду — об этом есть у Герцена. И они брали ступу и толкли, и хоть работа эта не из пыльных, а, говорят, сходили от нее с ума. Заставить человека, разумного и свободного, делать бессмыслицу — задача неимоверно трудная.
Однако на современном уровне развития техники удалось решить и эту задачу. С помощью специализации и разделения труда. Один Сизиф в первую смену вкатывает камень в гору. Потом во вторую смену приходит другой Сизиф и скатывает камень с горы.
И все довольны.
Специализация тут, как видите, совершенно необходима. Дорожники, проложив новую дорогу, не станут ее ломать. Но пришлите электриков, и они, что называется, с открытой душой выроют яму посреди мостовой и опустят свой кабель, а следом явятся водопроводчики и выроют свою яму, для своих нужд. Эту работу по принципу «не рой другому яму» я наблюдал не раз. И думал: почему возможна она? Прежде, до этой поездки, у меня был простой ответ: потому, что каждой бригаде оплачивают все сызнова — рытье и засыпку, битье и заливку. Теперь я знаю, что не в этом дело. Не только в этом.
ТРУБУ укладывала бригада Лузгина. Были в ней комсомольцы-добровольцы, были демобилизованные солдаты, были местные, вербованные и даже один, «условно-досрочный»: его выпустили до срока, a что сидел, он не любил говорить. Работал, впрочем, хорошо, как и все в бригаде. Дармоеды в ней не держались. Сам Лузгин был хмурый сибиряк, худой и бородатый. Говорить он был не горазд, но дело знал, и его слушали. Они работали в тоннеле, от этого им было особенно тяжело. Тянули на себе, как бурлаки, километровый трос, обвязывали отрезки стальных труб по три-четыре центнера весом, после этого в тоннеле урчала электролебедка, и с жутким скрежетом, рассыпая искры по бетонному полу, труба уползала в сумрачную глубину. Там кончалась механизация, там ей не было места. «Ломом давай!» — «Еще раз, легче…» — «Руки, руки береги!» — «Еще раз взяли!» — «Так… заваривай». Они знали, что задание срочное, народ подобрался артельный, работа ладилась и оттого, что она ладилась, было хорошее настроение у бригады, и дело шло еще лучше. Вообще я должен заметить, расхоложенность, расхлябанность, перекуры и прочее порождаются чаще всего внешними причинами. Если на участке имеется все, что нужно для дела, если нет повода болтаться и есть возможность заработка, людям невозможно, стыдно, глупо не работать. Я забыл сказать: в ту пору бригада Лузгина отказалась от выходных. К исходу третьей недели они укладку в основном закончили. На металлических «этажерках» в несколько ниток вытянулись под землей прямые чистые трубы, и зрелище это радовало глаз, как радует всякая на совесть сделанная работа. Но тут начальник участка сказал бригадиру, что трубы двух диаметров (337 и 89 мм) надо разрезать на куски и выбросить. — Почему? — спросил Лузгин. — Будем заменять. — Ясно! — сказал Лузгин, и желваки у него на скулах заходили. — А почему раньше об этом не подумали? — Ошибка проектной организации… Ребятам скажешь, на заработке это не отразится. Резать послали Кешу Бурдукова, классного бензорезчика. Человек он молчаливый и материться не стал. Он повернулся и пошел, но, как говорили мне после, «лицо у него было!». И все шли в тоннель, как на похороны. А резать — что, отвернул Кеша краны, отрегулировал струю и, чуть отступив от шва, одним движением — по живому, по сделанному… Эх! Главное, тут не вышло разделения труда. Люди были те же, время — то же. Пройди хоть полгода, и они смогли бы объяснить себе (или принять объяснение), что переделка эта нужна, благотворна. А тут даже объяснять им никто ничего не стал. Просто вышел новый приказ, и его надо было, как выразился Лузгин, безразговорочно исполнить. Без разговоров, однако, не обошлось, и в итоге послано было письмо в газету:
«Дорогая редакция! Мы строители БРАЗа — Братского алюминиевого завода. Это один из гигантов пятилетки, и мы делаем все, чтобы выстроить его в срок. Но нам мешают бракоделы, проектирующие завод Взять хотя бы последний случай с бригадой А. Лузгина. Пропал труд 10 человек в течение 20 дней, пропало 340 погонных метров стальных труб. А кто допустил? Ответ был, как всегда, невразумительный: „По вине проектной организации“. Нас, рабочих, такие понятия не устраивают, так как нет ничего более оскорбительного, чем переделывать свою работу и даже не знать, по чьей вине. Задумался ли кто-либо, как это расхолаживает людей в моральном отношении? Некоторые говорят, что, мол, шуметь нечего, поскольку все оплачивается бригаде. И за монтаж платят, и за демонтаж. Но не хлебом единым жив человек. Мы сознательные рабочие, и наш труд должен быть только созидательным. Какие у нас предложения? Пусть разыщут виноватого и пришлют на стройку, чтобы мы на него посмотрели, а он — на свою стряпню. Может, сам ума-разума наберется, когда поговорит с рабочими. Просим „Известия“ проверить все факты и выяснить, кто именно был у нас виноват…».Это задание читателей и привело меня в Братск. Я увидел могучую стройку. В тайге вырастал завод, которому предназначено быть крупнейшим в мире. Первый из корпусов тогда готовили к пуску, второй заканчивали, дальше вздымались к небу колонны третьего. И были эти строения невообразимо огромны и воистину хороши. Но я-то на беду должен был заниматься частностями, которые мешали великой стройке стать еще более великой.
ДА, САМА по себе труба — частность. Это надо сразу сказать. Но, проверяя «все факты», я узнал, что, пока строились великолепные корпуса, проект менялся по меньшей мере трижды. В 1964 году строители получили 176 листов монтажных чертежей, из которых, как писалось в акте, «было 123 случая аннулирования и 168 случаев дополнения». Переделки по всем объектам продолжались и в 1965 году, и в 1966-м. «Из-за изменения конструкции ошиновки, — читал я в другом акте, — имели место бросовые работы на сумму 90 тысяч рублей». Сам этот термин — бросовые — стал привычен на стройке. Бросовые конструкции, бросовые плиты, колонны, панели: пока их сделали по чертежам, пока смонтировали, чертежи изменились. Этих неликвидов скопилось по всему Братскгэсстрою — на 1 миллион рублей. Тут уж не скажешь «мелочь», но истинного представления об убытках и эти цифры не дают. Сбит темп, потеряно время — вот главный убыток. Нет порядка — беспорядок тоже дорого стоит. Изрыта вся земля вокруг корпусов, нет дорог, мерзлый грунт (40 000 кубометров) приходится долбить вручную. А все потому, что чертежи подземных коммуникаций, с которых по-умному надо все начинать, приходят почему-то последними и меняются бесконечно. Вот, скажем, чертеж № 705437, на котором изображена теплосеть. Лист вышел некогда из рук проектировщиков красивым и чистым. Потом пошли дополнения. «Исправленному тушью верить». Поверили. Стали рыть траншею, укладывать бетонные лотки. Новая резолюция красными чернилами: «Чертеж № 705437 без индекса „А“ не действителен». Выкинули часть лотков, иначе повели трубу, тянули ее, тянули, — уперлись в кабельный канал. Опять переделка: фиолетовый индекс «Б»… «А» и «Б» сидели на трубе. «А» упало, «Б» пропало. Спрашивается: кто ответит за это безобразие? Вначале мне казалось, что обнаружить виноватых будет легко. Но, посмотрев один такой чертеж, другой, третий, я понял, что и у проектировщиков одни катили камень в гору, другие — с горы. Почему? Первая причина — какое-то неистребимое желание сэкономить на проекте. Он делался в Ленинграде, в ВАМИ — Всесоюзном алюминиево-магниевом институте; впоследствии его передали в Иркутск, филиалу ВАМИ. Стоил проект очень дешево и выпущен был очень быстро. Втрое дешевле и вдвое быстрей, чем аналогичные проекты за рубежом. А коль уж нет возможности семь раз отмерить, то и приходится потом резать семь раз. Вторая причина — занижение сметной стоимости завода. Болезнь тоже застарелая, сметы у нас занижают давно, занижают повсюду, но даже на этом фоне алюминщики выглядят уникально: они ошиблись на двести миллионов рублей! И я не для оправдания авторов неверного проекта, а только объективности ради добавлю, что смету дважды проверяли эксперты и срезали ее (заниженную) еще на 5,6 процента. Чертовски долго строился этот завод — вот еще одна причина. Поневоле поверишь в роковое число: алюминий в таблице Менделеева стоит под номером 13. Чертежи года два просто лежали на полке, потом строители медлили, потом раскачивались и только в прошлом году впервые выполнили план. Пуск завода по сравнению с первоначальным сроком отодвинулся на три года — проект устарел, зачах на корню. Вот и делите теперь вину между проектировщиками, экспертами, строителями и, скажем, заказчиками (дирекцией строящегося завода), которые с удивительной щедростью оплачивают любые переделки. И за нашу трубу заплатили они — из государственного кармана. Я не ставил своей задачей, да и не смог бы разобрать все беды проектного дела — это тема особая. Но разве не ясно, что плохо, неверно срабатывает здесь сам экономический механизм. Когда выясняется такая «труба», можно и должно реагировать по-всякому. Можно критиковать виноватых, можно дать им выговор, понизить в должности, вовсе снять их с работы. Но главное должно произойти автоматически, само собой: они обязаны покрыть убытки. Вылететь в эту самую трубу.[5]
РАЗМЫШЛЯЯ обо всем увиденном, я все тверже укреплялся в мысли: задание рабочих надо выполнить до конца. При мне бригада перекладывала трубу, — я видел их в тоннеле. Будто и с усердием работали люди, а без яркости. И все у них что-то не ладилось, все чего-то не хватало, во время очередного перекура и вышел у нас разговор. Николай Григорьев, тот самый «досрочный», сказал: «По новой класть — другое ж дело!.. Если б еще один случай, а то всю дорогу: клади — вынай! Мотаем друг у друга нервы на кулак». Андрей Беличенко, веселый парень из Умани: «Я сюда идейно приехал. Братск! Если кто вам скажет, что рабочему человеку безразлично, где быть да что делать, — не верьте. Мы в самые морозы торчали здесь, потому — надо. А теперь кладем трубу, а веры нет. Может, и этот чертеж враный». Володя Ножкин, разбитной москвич: «Гори оно все синим огнем! Наше дело маленькое: бери больше — таскай дальше. Я лично усугублять свою жизнь из-за всяких агрегадов не намерен. Мне абы гроши платили». Но и он так не думал. Эта его бравада была как бы самозащитой от бессмыслицы. После он же, подсчитав заработки, сказал: «Цена одна, а товар разный… обидно все ж таки». Вокруг висели плакаты: «Товарищ! Экономь строительные материалы! Помни, что кубометр досок стоит 48 рублей. Килограмм гвоздей — 19 копеек. Кирпич — 4 копейки…» Ничего не скажешь, хорошие плакаты. Но спросим себя, только честно, как могут относиться к этой «наглядной агитации» рабочие из бригады Лузгина? Станут они, выкинув трубы, покорежив три тонны стоек, подбирать с земли гвоздь? Наглядная действительность действует в воспитании куда сильней. Трубу в конце концов можно переложить, и железо можно послать на переплавку, но кто переплавит обиду людей? Кто подсчитает цену усталости, безверию?.. Нравственные потери — они ведь самые невосполнимые. Вот почему письмо из Братска представляется мне особенно важным. Оно говорит весьма отчетливо о зрелости, сознательности, высокой идейности рабочих. Оно доказывает, что идеи экономической политики, которая выработана партией, овладели массами, что влияние реформы распространяется порой быстрее, нежели инструкция по распространению реформы. Рабочие, написавшие в газету, уже сегодня чувствуют себя хозяевами огромной стройки, отсюда их боль за напрасные потери, отсюда нежелание довольствоваться рублем. Правы они, когда хотят увидеть человека, растратившего их труд. Я поехал в Иркутск. Там, в филиале ВАМИ, я разыскал проектировщиков, которые чертили и перечерчивали злополучную трубу. Я говорил с ними, и теперь точно знаю: в высшей степени полезно было бы командировать хотя бы одного из них в бригаду Лузгина. Он рассказал бы рабочим, что эта труба — головная, что по ней пойдет тепло всему заводу, и нужно этого тепла вдвое больше, чем думали раньше. Почему? Потому что за время стройки разработан новый метод ремонта электролизеров, который резко увеличит производительность труда, — пришлось проектировать цех капремонта. Пришлось по-новому делать газоочистку, чтобы чище был воздух в городе Братске. Вышли новые государственные нормы по технике безопасности, новые санитарные нормы, пришлось усилить вентиляцию, больше дать душевых — старая труба просто бы захлебнулась. Конечно, перекладывать ее обидно, но потери эти не напрасны, в будущем они дадут большой выигрыш и людям, и обществу. Так примерно объяснял бы проектировщик, и уже это было бы полезно, бригада выслушала бы все со вниманием, а после кто-то из рабочих, тот же хитрющий Ножкин, сказал бы: — Постойте… Когда же вы успели все это пересчитать? Неужто за те дни, что мы тут клали старую трубу? М-да… Не желал бы я в этот момент оказаться на месте рассказчика. Пришлось бы ему признаться, что пересчеты эти заняли полгода, а новый чертеж был готов в Иркутске в тот самый день, когда в Братске бригада Лузгина начала укладывать трубу по старому чертежу. Такое странное стечение обстоятельств. Истина конкретна. Поэтому, войдя, так сказать, в положение проектировщиков, выслушав рассказы о всевозможных трудностях, мешающих им работать, я все же спросил, как это все вышло в нашем случае. — Неужели, — спросил я, — вы не знали, что старая труба не выдержит новой нагрузки? — Вообще-то эрудиция позволяла прикинуть, — отвечал мне один из них, главный специалист, чья подпись стояла на чертеже. — Но, как говорится, не зная броду… — Ну, хорошо. А когда вышел новый чертеж. Дали бы хоть телеграмму, ей цена полтинник. Я любого ждал ответа. Ну, замотались, скажем. Работы было много (действительно очень много). Забыли, наконец. — Что вы! — сказал он. — В предпусковой период? Это ж ответственность. Строители нам бы такого навесили! А так документация послана законным порядком, в смету это вошло, на шею строителям не ляжет… Привыкли. Отменить чертеж — им страшно. Сломать уложенную трубу — не страшно. Вместо разделения труда вышло разделение ответственности. Доктор Фауст в таких случаях восклицал:
1967 год.

Перед стартом
ОДНАЖДЫ я рискнул сделать предсказание.
Писал я о мальчике, которого обуяла страсть к астрономии. Отца у него не было, погиб на фронте, старший брат, слесарь, помог сделать трубу для телескопа и штатив, но линзы в этом городе не продавались, да и денег лишних не было в семье. Мальчик взялся сам шлифовать линзы подобно тому, как это делали астрономы XVII века. Первый диск лопнул у него в руках, но мальчика поддержали умные взрослые люди, стали присылать ему из Москвы книги, стекла. Снова он шлифовал, больше года, и все-таки навел свою трубу на звездное небо. А потом в Москву полетела ликующая телеграмма: ученик 8 «Б» класса средней школы города Сызрани Толя Черепащук открыл комету — Comet Tcherepastsuk, как она названа была в «Реферативном журнале» Института информации Академии наук СССР.
Меня не интересовала научная ценность открытия, кажется, она была и не велика, — меня интересовала судьба мальчика. Вся эта жизнь еще была впереди, но я написал, что он непременно станет ученым. Потом потерял его из виду, десять лет прошло, а недавно узнал из газет, что А. М. Черепащук не только стал астрономом, но и добился большого успеха: цикл его работ «Наблюдение звезды V 444 Лебедя» высоко оценен учеными.
Приятно писать о сбывшемся.
Но не к тому я затеял разговор. Вот истины, простые и не новые, которые стоит извлечь из этой судьбы. Первая: способные дети родятся не только в столицах. Вторая: природный дар нуждается в поддержке. И третья: плохи мы были бы, если бы упустили такого парня. Упущенный талант — ущерб для общества. Приняв это, мы можем тотчас обратиться к проблеме. Суть ее в том, что приток молодежи из рабочих поселков и сел в высшую школу растет у нас медленно. Это, к сожалению, факт.
Помню подсчеты физиков Дубны, сделанные еще в 1960 году. Они выяснили тогда, что кадры будущих физиков и математиков наши вузы черпают с территории, на которой живет около 20 миллионов человек. В других районах росло, по-видимому, не меньше способных ребят, но мы упускали их. Упускали резервы поистине неисчерпаемые… Впрочем, будем точны. Примелькавшаяся фраза о неисчерпаемости народных талантов справедлива не более, чем слова о неисчерпаемости природных богатств. Конец запасам золота или нефти все-таки есть. Число людей, из которых можно выработать тех же ученых, не беспредельно. И поскольку дарования граждан есть величайшее богатство общества, нужно и тут вовлекать в орбиту поисков все новые «месторождения». Что мешало и мешает этому?
Говорят о формализме экзаменов, о том, что они не позволяют оценить истинные способности абитуриентов и дают простор субъективным оценкам. Говорят о «позвоночниках» — юнцах, путь которых облегчен записками и звонками. Говорят о взятках: всем спекулируют шельмы, что в большом опросе, вот уж и на студенческие билеты наложили лапу. И надо бороться с ошибками и мерзостям объявить войну, но масштабы их преувеличивать не следует. Даже при самом честном конкурсе ребята из сел и рабочих поселков окажутся в худшем положении, чем их сверстники из университетских центров.
Разумеется, любой вуз с большой охотой примет юношу из самой глухой деревни. И пешком ему не придется шагать из Холмогор в Москву, но только псалтыря и арифметики Магницкого вузу мало. Вот причина, она проста, да преодолеть ее не просто. Наука в наш век развивается бурно, высшая школа не может отстать, требования ее растут, средняя школа тянется за высшей, не зря в больших городах появились спецшколы — английские, физические, математические. Заметьте: в больших городах. Различие в уровнях подготовки, которое по идее должно бы стираться, углубляется.
Делать вид, что этого нет, — ханжество. Мириться с этим — безнравственно. Умы бестрепетные, ищущие давно задумались над этой проблемой.
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД в газетах десяти областей — Калужской, Владимирской, Тульской, Брянской, Тамбовской и других — появились хитрые задачки. Не только подготовленность ребят проверяли они, но и смекалку. И было объявлено, что восьмиклассники, которые решат задачи, будут приняты в Заочную математическую школу при МГУ. Пришло 6 тысяч ответов. Зачислили в ЗМШ (так стали называть заочную школу) 1345 учеников. В течение двух лет они получали задания, решали, отсылали ответы, а затем получали оценки и наставления «из самой Москвы». Так это выглядело для ребят. В Москве это выглядело иначе. Штат ЗМШ был мизерный: директор, завуч, три методиста и машинистка. Горы ребячьих тетрадок проверяли студенты университета. Научно-методическую работу вела группа ученых во главе с членом-корреспондентом АН СССР И. Гельфандом, который и выдвинул идею заочной школы. Ни ученые, ни студенты не получали за это ни копейки сверх своих стипендий и зарплат. На второй год пришло уже 10 000 ответов. Само собой получилось так, что ЗМШ стала школой Российской Федерации. Этому помог ректор МГУ академик И. Петровский, помогло и Министерство просвещения РСФСР, заместитель министра М. Кашин сразу разглядел перспективу нового дела и активно его поддержал. Потом сотнями пошли тетради из других республик… Тут я должен заметить, что все это было лишь частью большой работы, которую советские ученые развернули в 60-х годах. В Новосибирске трудами академика М. Лаврентьева и его коллег был создан интернат для способных детей из далеких районов. Пришлось даже разграничить «сферы влияния»: до Урала ребят искала ЗМШ, за Уралом — Новосибирский интернат. Появилась заочная физическая школа при Московском физико-техническом институте. Большой интернат в столице организовал академик А. Колмогоров. Появились школы-интернаты на Украине, в Армении, в Грузии, шла работа в Иванове, Казани, Свердловске, Горьком — в сущности, мы можем говорить о новом явлении. Думаю, поначалу ученые занялись этим только потому, что заботились о реальных нуждах своей науки. Но то, что истинно выгодно обществу, — то и справедливо. Первый выпуск ЗМШ был в 1966 году. Лучших своих учеников школа пригласила сдавать экзамены в МГУ;многие и не помышляли об этом. Одна мама из Калужской области прислала письмо: «Уговорите моего дурака не ехать в Москву, ведь провалится…». Приехало 250 парней и девушек. Их заботливо встретили, для них устроили семинары и даже «пробный экзамен»: вызывали к доске, сбивали трудными вопросами. Женя Власов из поселка Шиморское сказал мне: «На пробном я схватил двойку. Времени не хватило. Но понял, что надо записывать не все, а главное. И на конкурсном получил пять». Ставилась, кроме всего, задача психологически уравнять приезжих с москвичами. В ЗМШ столичных жителей вообще не принимали (за все годы было одно исключение: взяли мальчика, прикованного к постели). Правильно ли это? Решайте. Но учтите, что там, откуда приехали эти ребята, не было ни спецшкол, ни подготовительных курсов, ни Политехнического, ни Ленинки. И не было рядом с ними в пору экзаменов мамы, которая приготовит вкусный обед… Я за равные стартовые возможности. А дальше — по мотору. Дальше — у кого какие способности. Дальше — честное соревнование без подтасовок, без скидок. Первый же конкурс показал, что питомцам ЗМШ льготы не нужны: более 400 поступили в вузы, 87 — на мехмат МГУ. Я давно слежу за этой работой, она нравится мне. Духом бескорыстия, чистотой намерений — и сверху, и снизу. Я спрашивал, как контролируют ребят. Вдруг да кто-то решает задачи не сам. Пусть, отвечали мне, на экзамене-то он будет сам. Это троллейбус без кондуктора. Погони за отметкой нет. Конкурса родителей нет. Есть здоровая тяга к познанию. Потому что ЗМШ не дает ученикам никаких прав, а только знания (всего лишь?). Ученик не вырван до времени из своей среды. Отсев, достаточно большой, — не брак. Ошибся — нет трагедии. Зато испытал свои силы, попробовал науку на ощупь, что-то узнал полезное, что пригодится на любом поприще. А вкусы в этом возрасте чрезвычайно изменчивы. Я говорил со многими студентами, которые вышли из ЗМШ. «География» уже ко второму курсу неразличима, разве что в одежде. Учатся все хорошо, в мыслях самобытны, в побуждениях серьезны. ЗМШ привела их в университет, и теперь они платят свой долг ЗМШ — работают «проверяльщиками», бригадирами, сидят над тетрадками, узнают себя прежних, пишут мальчишкам и девчонкам из самой Москвы. «Мы ведь для них боги, — сказал мне Володя Мотлохов. — Разве я знал в своем совхозе „Ворсино“, что мне студент пишет? Самое меньшее, думал, профессор…» Такова эта удивительная школа. Восемь лет назад в «Письмах из Казанского университета» я рассказывал читателям «Известий» о поиске талантов. Может показаться, что и сейчас разговор о том же. Но поиск предполагает, что они, таланты, уже существуют в готовом виде, и надо только не полениться, найти. Теперь я вижу, что это не так. Талант есть развитая природная склонность. Таланты надо образовывать — давать им образование и тем самым их создавать. Сейчас в ЗМШ учится 8490 ребят; 30 процентов — из малых городов, 60 процентов — из села. До полутора тысяч питомцев школы уже поступило в вузы, 355 — в Московский университет. И только? Да, это работа штучная. Но среди студентов первого курса мехмата в прошлом году четверть составляли воспитанники ЗМШ, а среди студентов иногородних — половину, а среди сельских — две трети. Количественно будто и не много, социальные сдвиги — огромные. Впрочем, можно, как оказалось, эту работу и не вести.
ЕСТЬ старая русская сказка о дураке, который на свадьбе плакал, а на похоронах смеялся. Мне иногда кажется, что никакой он был не дурак. Просто он боялся перегибов. Проблему можно, как оказалось, решить очень просто. Не мучиться, не искать, не учить, а сделать так, как сделали во Львовском политехническом институте: откровенно разбить абитуриентов на три группы — дети рабочих, дети колхозников, дети служащих, — экзаменовать их порознь и назавтра же отрапортовать, что достигнут «желаемый состав». Этот почин уже осудила «Правда», но, судя по письмам читателей «Известий», подобное делается и в других вузах, хотя там достало ума не вывешивать списки. Вот плодотворная идея! Министр высшего и среднего специального образования СССР В. Елютин в своей недавней статье писал: «Совершенно очевидно, что мы не можем поступаться требовательностью к знаниям абитуриентов». Увы, иные вузы уже поступаются. И если мы учтем, что ответственности за качество своей «продукции» они не несут и что просчеты на ниве образования сказываются не в один год, то ясно станет, сколько тут будет наломано дров. Следуя разным инструкциям, можно зачислить ребят из сельской местности, которые не прошли по конкурсу, а можно и не зачислять, можно, когда у них на один балл меньше, а можно, и на два, — создается нервозность, поле для слухов, для произвольных решений. Вот уж и в газете пишут, что некоего абитуриента с пятерками не приняли, предпочтя ему другого — с четверками и тройками, и это, мол, правильно, и так и надо. Вот уж другой автор доискался, что в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории треть учеников — дети музыкантов. Ужасное разоблачение! Остановимся, умерим наши нервы, поговорим спокойно. Без улюлюканья. Моцарт тоже был сын музыканта, и Бетховен тоже — куда их теперь? Что поделать, если музыканта-исполнителя надо учить с шести лет, с семи — поздно, с восьми — безнадежно (я не говорю о певцах, которых, кстати, эта школа не учит). Что поделать, если в семьях музыкантов раньше угадывают способности ребенка, пусть даже не выдающиеся, и, главное, вовремя начинают их развивать. Да и что предлагается? Конечно, есть в селах и рабочих поселках дети с музыкальным талантом, и надо, как это делают на Украине, в Прибалтике, их находить и учить, надо шире ставить эстетическое воспитание, начинать его с детских садов, больше строить музыкальных школ в селах, добиваться, чтобы уровень их был достаточно высок, но все это долго, а хочется поскорей, чтобы сейчас же был «нужный процент». Читатель понял, о чем идет речь. Перегиб почти всегда есть попытка искусственно опередить свое время, свою эпоху. Перегиб — это мечта о чуде, о «скачке», большом или малом, который вмиг разрубил бы все гордиевы узлы. Перегиб — это проявление субъективизма, — волевых решений, не основанных на анализе жизни общества. Потому перегиб, от кого бы ни исходил он, идет вразрез с линией партии, которая последовательно строит свою политику на твердой научной основе. Перегиб — это исконное стремление к простоте в пору, когда пора применяться к сложности. В чем кардинальное решение проблемы, которая заботит нас? В выравнивании образования — вот идеал культуры. Сельская школа должна давать такую же подготовку, как школа городская. Добьемся мы этого? Да, непременно. Но не сегодня и не завтра. Это одна из сторон сложнейшего процесса стирания существенных различий между городом и деревней, между умственным и физическим трудом. И если мы миримся пока что с тем, что в Барнауле нет МХАТа, а в Костроме Третьяковской галереи, то, ничего не попишешь, придется нам признать, что школа в малых городах и в селах не равна школе московской, ленинградской, киевской. В один год этого не переделать. Другое дело, что нельзя сидеть сложа руки. Другое дело, что партия, государство очень многое делают для того, чтобы ускорить процесс. Да и успехи наши общеизвестны. Напомню: в царской России было 112 тысяч специалистов с высшим образованием, у нас их 6 с половиной миллионов. В 50 раз больше! Сейчас в поре зрелости второе пореволюционное поколение. Другими словами, подавляющее большинство нынешних интеллигентов — дети былого «простонародья». Справедливое социальное устройство не в том, что через каждые два поколения дети будут менять профессии родителей, — это нереально. Сила примера ведет молодых, и ни один не впечатляет больше примера отцов. В этом нет ничего плохого. Плохо другое, плохо то, что стали исчезать династии учителей, династии доменщиков, династии земских врачей… Справедливость в том, чтобы не было пропастей между сословиями, чтобы каждый, кто способен и действительно хочет учиться, имел такую возможность. «Каждый человек неоспоримо имеет право на полное развитие своих способностей», — говорил Энгельс. О развитии бездарностей у него не сказано.
РАЗУМЕЕТСЯ, ученые, деятели народного просвещения, партийные и советские органы, занятые «образованием талантов», радикальных решений не предлагают. И если бы стояла задача всех выпускников школы, то есть с введением всеобщего обязательного среднего образования, всю молодежь принимать в вузы, то труды ЗМШ были бы каплей в море. Но поскольку высшая школа принимает лишь часть молодежи, притом далеко не бо́льшую, приблизиться к решению проблемы можно. Вновь я вернусь к опыту ЗМШ. Это лишь одна из форм, можно найти другие, можно лучше найти, важен принцип. Демократизм, массовость этой работы с детьми — вот что привлекает более всего. Можно ли увеличить охват? — Да, конечно, — отвечают мне. Когда ребячьи тетрадки захлестнули университет, возникла идея привлечь областные вузы: там тоже есть студенты, которые могут проверять учеников, есть профессора, которые должны готовить себе смену. Отныне заочная школа передает им методики, задания, всю литературу, передает ребят, живущих в этой области, держит с кафедрами постоянную связь, что и для периферийных вузов полезно, — так создаются «филиалы ЗМШ»; сейчас их 29. — Могло быть больше? — спросил я у В. Овчинникова, директора ЗМШ. — Да, конечно, — ответил он. — Но нужен штат. Всего не сделаешь на общественных началах. Дать полставки на область — и будут сотни филиалов. Появились группы «Коллективный ученик» — форма работы еще более заманчивая. Оказалось, что ЗМШ воздействует на школу в целом. Достаточно одного парня или девушки, получающих задания из Москвы, чтобы во всей школе возник иной климат. Интересуются другие ребята, учитель, который перестает быть единственным источником знаний, сам начинает читать эти брошюры, решает вместе с учениками эти задачи, — так возникают школьные кружки, работающие по программе ЗМШ; сейчас их 250. Назову хоть некоторых подвижников-учителей, которые из года в год посылают своих ребят в Московский университет: Т. Мариненок из поселка Идрица Псковской области, Н. Рытов из села Каменка Тамбовской области, И. Гун из Ртищева, В. Плетнев из Мстеры, Н. Шашков из села Гламаздино Курской области. Вот одно из писем учительницы К. Корневой из поселка Редькино Калининской области: «Задание по функциям и графикам мы задержали, так как пришлось работать со школьниками в совхозе. Теперь высылаю. Прошу зачислить в нашу группу ученика Белоусова, очень толковый…» — Могло быть больше таких кружков? — Да, конечно, — отвечает сотрудник ЗМШ П. Массарская. — Но надо, чтобы учителям хоть как-то оплачивали этот труд. Скажем, засчитывали за ведение школьного факультативного курса, на что средства уже выделены. Огромное дело упирается в мелочи. Главное сделано, что стоит дороже всего: разработаны программы, есть четкая организация дела, есть сборники новых задач, есть целая библиотека, созданная крупными математиками специально для школьников. Чего не хватает? Штатной единицы экспедитора, который бы надписывал адреса и относил пакеты на почту. Третий год идут разговоры о ротапринте для печатания изданий, надо хоть изредка собирать учителей или к ним в области посылать научных сотрудников, аспирантов, студентов… ЗМШ пока что баснословно дешева: двухлетнее обучение одного ученика стоит государству около 5 рублей. Но, может быть, хватит этим умиляться? Если мы не кампанейски, не ради кратковременной моды, а всерьез и надолго хотим решить проблему, то надо выделить средства — совсем не чрезмерные; выпуск дипломированных неучей обойдется стране куда дороже. Если мы действительно хотим помочь в учебе способным юношам и девушкам из сел и рабочих поселков, то надо и материально поддержать их.[6] Предвижу возражение, что можно, мол, обойтись и без затрат. Одно дело физики-теоретики или музыканты, могут мне сказать, — тут, каждому ясно, нужен особый дар, — и совсем другое дело профессии массовые. Выучить на зубного врача, наверное, любого можно. Так многие думают. Откровенно говоря, и я так думал. Пока у меня зуб не заболел. Нет таких специальностей, которые не требовали бы способностей, живого ума, настоящей любви к делу. И я в общем-то спокоен за ядерную физику: она защищена от некомпетентного вмешательства и особой сложностью своей и особым вниманием к ней. Но вот учитель — чего уж «массовей», чего уж «проще». А если мы сегодня снизим требования в наших педвузах и напечем плохих учителей, то на пенсию они выйдут где-нибудь в 2010 году и успеют продлить себя во многих поколениях учеников, — так мы увековечим отставание сельской школы. То же разумей об инженерах, агрономах, врачах. Убежден: движение назрело, оно будет развиваться и в ближайшие годы обретет у нас государственный масштаб. Во всех областях появятся заочные школы, интернаты, зимние курсы по подготовке в вуз и летние учебные лагеря; заводы и колхозы станут направлять в высшую школу самых достойных своих представителей — сознательных, зрелых, действительно желающих учиться; студенчество по-настоящему, с целинным размахом возьмет шефство над сельской школой; в движение включатся все вузы страны, представители всех наук — не только физики и математики, но и биологи, и гуманитарии. Тогда высшее образование останется высшим, тогда не придется нам снижать требования к будущим специалистам. Это еще имело бы какой-то смысл, если б не было в селах и рабочих поселках способных ребят. Но они — в сотый раз повторю — есть! И задача состоит в том, чтобы найти их и образовать. А перегиб, что ж, он обязательно «разогнется», опыт у нас в этом отношении есть. Такое предсказание мы вполне можем сделать, а вот от предсказаний о судьбах людей я воздержусь — все-таки рискованны они. В этом году на первый курс механико-математического факультета МГУ из числа питомцев ЗМШ были приняты Василий Гаврилов из деревни Гривы Псковской области, Саша Деев из села Мяча Пензенской области, Саша Сорокин из совхоза «Серковский» Куйбышевской области, Борис Урсу из молдавского села Липники и многие другие из далеких деревень, из рабочих поселков, из малых городов. Заочная школа начала свой новый учебный год. Пришла телеграмма с Севера: «Принятый ЗМШ ученик Ямальской школы-интерната Владимир Малико задержал высылку документов тчк Очень способный просим учесть не отчислять тчк Директор Ямальской школы — Почекуев». Мой блокнот полон именами ребят. Кто из них кем станет? Поживем — увидим.
* * *
Да, проблему надо решать. Этого требует справедливость. А то, что социально справедливо, — то выгодно обществу. Этого требуют интересы государства. Весь вопрос в том, какой избрать путь. Творческий, указанный партией коммунистов, требующий времени и труда, или путь канцелярской сметливости. В основе первого — уверенность, что в гуще народной зреют замечательные таланты. В основе второго — такой уверенности нет. В основе первого — деятельная забота о будущем державы. В основе второго — заботы всего лишь конъюнктурные. Вот два пути. Давайте выбирать.1968 год.

Курбака и другие
«КУРБАКА взял над нами шефство», — слышал я в одной московской клинике. «Нас снабжает КУРБАКА», — сказали в другой. Но Курбака — это не учреждение. Это — человек.
Он белорус, родился на Украине (отец его был донецкий шахтер), учился в Москве и долго работал врачом, а потом срок его службы вышел. «У меня пенсия сто двадцать, у жены шестьдесят, денег хватает, живем одни…» — «У вас отдельная квартира?» — «Нет, — сказал Курбака. — Семнадцать соседей. Очень милые люди».
Надо было как-то отдыхать. Он записался в спортивную секцию для престарелых — ради здоровья. Стал радиолюбителем — по давней склонности. Еще он мечтал играть в оркестре народных инструментов — для души. Мандолину купил, повесил на стенку, но заболел и был помещен в больницу. А мандолина, раз она повешена в начале рассказа, то в положенном месте «выстрелит».
Операцию делал доцент Айвазян. Сделал хорошо, но на третий день случилось нагноение. Курбаку выписали только через два месяца. «Понимаете, коллега, — сказал доцент Айвазян, — если бы катетер был из полихлорвинила, тогда совсем другое дело». «Понимаю, коллега, — сказал Курбака. — Я постараюсь достать».
Он узнал, на каком заводе могут это сделать, поехал на завод, рассказал о бедах больных людей, и ему дали два кило пластмассовых трубок. «Химики, — объяснил мне Курбака, — они ведь тоже болеют». Тут я задал первый бестактный вопрос: «Кто оплачивал счет?» «Никто», — честно ответил Курбака. Он бы и сам уплатил, цена небольшая — 60 копеек килограмм, но ему так дали, из отходов. А больнице этих трубок хватило на год.
Так начался заслуженный отдых Андрея Тимофеевича Курбаки.
Жена смирилась. На одно пеняла: концы большие. Та клиника — за Соколом, эта — на Серпуховке, та — в Балашихе, та — на Каширском шоссе. В день, жаловалась мне, тратит рубль на разъезды. И, конечно, диета срывается. Сперва возил одни трубки, а недавно по телевизору завод показывали, какие-то синтетические нити, он схватился: «Запишу. Может, пригодится». Она ему говорит: «Ты просто не от мира. Тебя и не просил никто». Он ей: «Так ведь они не знают, что я смогу».
Общий объем, так сказать, масштабы этой деятельности до поры были скрыты от меня. Курбака больше помалкивал. Должно быть, опасался, что писания мои помешают ему: как-то оно еще там обернется? Говорил: «Моя работа небольшая. Пошел, попросил, получил, принес — ничего интересного». Оправдывался: «Одного человека спасти тоже много значит. Считаю, ничего плохого тут нет». Объяснял: «Хирургам некогда — они у станка. Инженеры — тоже у станка. А я на пенсии. Считаю, надо им помогать. Тем более я коммунист».
О том, что он ездил во Владимир, мне сказал Арам Вартанович Айвазян. В тот раз дали Курбаке письмо: больница просит… крайне нужно для операций… заплатим по перечислению… Но что это для завода? Без приказа, сверх плана. А он привез отличнейшие трубки. И из Ленинграда привез очень нужные вещи. Значит, и там был Курбака? Да, конечно. А полиэтиленовую пленку нашел в Москве. И мастеров нашел, которые сделали из нее протез мочевого пузыря. Проведено уже девять операций. Чья идея? У нас это начали тбилисские урологи: Курбака и ездил за опытом в Тбилиси… Тут я задал второй бестактный вопрос: «Кто оплачивал командировочные?» «Никто», — честно ответил доцент Айвазян. К сожалению, по закону нельзя пенсионеру платить.
В Институте неврологии легенда о Курбаке рассказывается так. В один прекрасный день в кабинет заведующего нейрохирургическим отделением вошел высокий старик в соломенной шляпе, в белых парусиновых туфлях, с саквояжем в руке: «Могу я видеть профессора Канделя?» Профессор занимался со своими ассистентами и просил подождать. «Мне некогда», — сказал странный старик и раскрыл саквояж. Врачи ахнули: там было собрание трубок, о каких они могли только мечтать. «Это вам, — сказал старик. — Я слышал, вы начали оперировать аневризмы. Я беру вас на снабжение». И с той поры регулярно — это уже не легенда — раз в два-три месяца является со своим саквояжем в институт.
Его можно встретить и в Институте нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, и в Институте хирургии имени А. В. Вишневского. У него в блокноте, потертом, перехваченном резинкой, десятки телефонов и адресов — КБ, мастерских, лабораторий, заводов. В последнюю встречу мне дозволено было заглянуть в его саквояж: кроме трубок, пленок, спиралек, лежало в нем какое-то таинственное изделие из прозрачного пластика. «Это для Тюхтева, — объяснил Курбака. — Вот о ком вы действительно должны написать. Михаил Евтихеевич все делает для больных, замечательной души человек, хирург-новатор. И вот ему понадобился протез пищевода…»
Я умолкаю, боясь сбиться на высокопарный тон. Одно добавлю: Курбака занят этой своей высокополезной деятельностью уже пять лет. Пять лет! Что ни говорите, а он не просто человек Курбака — это учреждение.
ДАВНО мне хотелось рассказать о нем. Просто о нем самом, безо всяких проблем. Войдет такой Курбака в привычную нашу толчею, глянет из-под очков хорошими наивными глазами и напомнит о ценностях нетленных. Он ведь, кроме всего, бессребреник. За все пять лет не получил за свои труды ни гроша.
ВИДИМО, этот вопрос возникал и у вас: где люди, которые получают зарплату за то, что Курбака делает бесплатно? Что они делают?.. Я обошел в эти дни все ведомства, отвечающие за нашу индустрию здоровья. Убедился: очень многое делают. Понял: нужно делать еще больше. Медицинская промышленность по темпам роста вырвалась у нас в первую пятерку промышленных министерств. Но вот «беда»: здравоохранение сделало еще больший скачок вперед. Правительство отпускает на это огромные деньги, к бюджетным вложениям прибавились, чего не было прежде, средства заводов и колхозов — новые больницы, поликлиники, здравпункты строятся по всей стране. Это еще одно благодетельное следствие экономической реформы: общественные фонды растут и используются, как мы видим, по-доброму. В «Союзмедтехнике» мне дали справку: спрос на приборы и инструменты увеличился нынче на 48 миллионов рублей (на 19,6 процентов по сравнению с прошлым годом). И еще одна, менее приятная цифра: фонды, выделенные медицинской промышленности, не покрывают спроса на 51 миллион рублей. О чем это говорит? О том, что планирующие органы не были готовы к скачку. И потому реальная потребность в скальпелях удовлетворяется пока на 61,6 процента, в зажимах — на 46,3 процента. Даже стерилизаторов не хватает — металлических коробок, в которых кипятят шприцы: Госплан недодал в прошлом году 200 тонн нержавеющей стали. Этого Курбака, увы, не принесет. Новую медицинскую технику создают у нас примерно 2500 человек. (Для сравнения: новые виды мебели создают 2300 человек, торговое оборудование — около 3000.) В Министерстве медицинской промышленности мне сказали: только для того, чтобы поддерживать уровень выпускаемых, освоенных моделей, нужно удвоить число ученых и конструкторов. Стоит ли удивляться, что новые, мирового уровня разработки появляются туго. Вывод: индустрия здоровья не может стоять в общем ряду. Надо вспомнить, что медицина — отрасль оборонная; это понимал еще Петр Великий, который в одну пору закладывал в Туле ружейный завод, а в Питере — «медицинскую избу». Надо видеть принципиальную разницу между стерилизатором и соковыжималкой, между диваном-кроватью и аппаратом «сердце-легкие». (По методическим указаниям Госплана, все это — группа Б; исключение сделано для медикаментов и препаратов, применяемых, «как правило, только в ветеринарной практике», — они отнесены к группе А.) Надо покончить с заблуждением, что миллиардные расходы на медицину — есть безвозвратное вложение средств. Как-то мы стесняемся, касаясь этой гуманной темы, говорить о деньгах. А зря: бестактные вопросы иной раз бывают полезны. Медицина у нас бесплатна, в отличие от капиталистов мы не хотим наживаться на недугах людей. Но деньги считать все равно нужно. Считать потери в «человеко-днях» по причине болезней, считать выигрыш общества от профилактики заболеваний, от продления сроков трудоспособности. И тогда, может быть, станет ясно, сколько стали недовыплавили те сталевары, которых недолечили врачи из-за того, что недополучили двести тонн стали. Курбака всесилен, пока счет идет на килограммы, на копейки, на штуки. А Вера Петровна Зименкова, которая в Министерстве здравоохранения СССР курирует всю химию, не может считать на штуки. Когда я сидел у нее, дозванивалась по телефону, спорила, «выбивала» какую-то безузловую сетку. Оказалось, из нее хирурги выкраивают диафрагму, брюшную стенку — эти операции уже делаются. Но нужно, чтобы Ивантеевская трикотажная фабрика приняла заказ, нужно сырье, для начала полтора центнера лавсана, в саквояже его не унесешь, нужны фонды, нужно попасть в план… Критиковать легко, понять труднее. Я понял, что во всех этих ведомствах есть хорошие специалисты, энергичные, знающие, преданные делу. Конечно, они не могут развозить по больницам трубки (хотя бывает и это), но они добиваются большого — развития плановых исследований, строительства крупных заводов, которые дадут всю необходимую технику для всех больниц страны. Советское здравоохранение, бесплатное, общедоступное, народное, должно сделать новый шаг вперед. Возможно, тут необходима целая система мер, подобных тем, какие приняты были в свое время для развития атомных исследований. Первое в мире социалистическое государство должно занять достойное его место в медицине, самой человечной из наук.
А СТАРИК Курбака? Останется ли для него место?.. Боюсь, читатели, слушая о том, как помогают врачам электронщики, радисты, физики, нет-нет да и думали: беда, коль сапоги начнет тачать пирожник. Все упорядочить все выстроить, выделить фонды — и не надобно Курбаки. Пусть идет на заслуженный отдых. Что ж, головной институт медицинского приборостроения (ВНИИМП) сейчас растет, решено уже строить для него второй большой корпус, есть постановление правительства об удвоении мощности института медицинских полимеров, — это очень важно. Но современная медицина с такой скоростью впитывает достижения других наук, что «пирожник» тут совершенно ни при чем. И если операционные микроскопы создают оптики, то, видимо, действуют они по своей прямой специальности. Если диагностическую машину или систему непрерывного врачебного контроля для послеоперационных палат делают электронщики и кибернетики, то это их прямое дело. Если изотопной техникой или, скажем, лазерной (бескровные операции с помощью лазерного луча уже проводятся в стране) заняты физики, то кто сделает это лучше их? Отсюда следует, что, укрепляя научную и производственную базу индустрии здоровья, надо вместе с тем крепить содружество ее с другими отраслями. Видимая стихийность, случайность, кустарность этих связей не должна обмануть нас. Курбака и другие действуют по своему почину, но соединяют-то они передовую врачебную мысль с передовой инженерной, соединяют современные клиники, стоящие на переднем крае науки, с современными предприятиями, также стоящими на переднем крае. С этой «кустарщиной», которой при желании можно подобрать другое имя — энтузиазм, инициатива, я бы лично не спешил расставаться. Что же, оставить все как есть? Как-то Курбака бросил фразу странную и симпатичную: «Клапаны сердца пошли серийно, ими я не занимаюсь…» Это следовало понимать так: крупный завод освоил выпуск полимерных клапанов, и Курбака освобожден от этих хлопот, он пойдет дальше — туда, где создается что-то еще более новое. А новое будет создаваться всегда. Две могучие силы движут нас вперед. С одной стороны, плановое начало, которое было, есть и будет основой нашего роста. С другой стороны, инициатива масс, которая постоянно развивается и обновляет наши планы. В соединении этих двух начал, в диалектическом единстве их — великое преимущество наше. Значит, совершенствуя систему планирования, надо нам думать и о совершенствовании инициативных начинаний.
 Рисунок автора
Рисунок автора
Вы помните папки с чертежами, пришедшие в НИИЭХАИ со всех концов страны. Что же выяснилось? Портативный электрокардиограф (для скорой помощи) делают семь организаций, не ведая друг о друге. Импедансный реограф, крайне нужный прибор, делают 14 организаций. Усилитель биопотенциалов — разрабатывается в 44 местах. О чем это говорит? Об отзывчивости? Да. О бескорыстии? Да. Еще это говорит о беспорядке. С инициативой надо обращаться бережно, хуже всего если мы забюрократизируем это дело — ему тогда конец. Но вот Рустам Исмаилович Утямышев, заместитель директора НИИЭХАИ, собрал у себя всех разработчиков кардиографа. Приехали из разных городов, познакомились, посмотрели в глаза друг другу, поделились найденным и постановили: лучший прибор делается в Министерстве общего машиностроения, отдать ему другие находки, пусть делает. Видимо, это правильный путь. Конференции, печатные бюллетени, изучение зарубежного опыта, перечень того, что делается у нас, перечень того, что нужно сделать, выработка единого плана. А Курбака, что ж, ему дела хватит. — Тонкие трубочки меня попросил сделать рентгенолог Кучинский, из онкологии. Нейрохирургам я тоже возил. А сделали их в кабельной промышленности. — Почему же в кабельной? — Вот и видно, что вы не радиолюбитель, — сказал Курбака. — Оплетка проводов, она ведь и есть трубочка. И теперь эту трубочку нужно ввести в сосуды, глубоко. И надо для этого внутрь вставить спиральку из нержавейки 0,2 миллиметра, чтобы придать упругость. А где ее сделать? Я все думал об этом, думал, и вот как-то играю в оркестре… — Простите, в каком оркестре? — Самодеятельном, в красном уголке. Руководитель некто Сипкин, очень душевный человек. А я веду партию второй мандолины. И как только раньше не замечал: струны! Как раз спиралька намотана на них. Ладно… Фабрика щипковых инструментов находится за Преображенкой. Я съездил, рассказал, зачем это нужно, — они поняли. Там работница за смену тысячу струн наматывает на станке, что ей стоит еще десяток?.. Живет такой коммунист Курбака, а мы и не знаем о нем. В президиум не избираем, премиями не поощряем, по телевизору не показываем, не догадались даже дать ему проездной билет, чтобы не тратил рубль в день на разъезды. «Тебе и спасибо никто не скажет», — говорила ему жена. Он ей: «А зачем? Я сделаю — мне и хорошо». Но это он так говорит, а мы-то почему не заметили его?.. Какой-то привкус странности, необязательности, едва ли не запретности есть в его делах. Они как бы даже незаконны, поскольку не по приказу делаются, не по плану, не за деньги, а так, бесплатно. И опять в сотый раз приходится повторять: инициатива — она столь же законна, столь же необходима. Надо видеть всю стратегию развития промышленности, строить большие заводы, создавать научные базы, планировать их, финансировать — это, конечно, главное. Но рядом, параллельно с этим и в будущем останутся энтузиасты. Никакой канцелярией не заменишь Курбаку. У него есть великое преимущество. Курбака — это не учреждение. Курбака — это Человек.
1968 год.
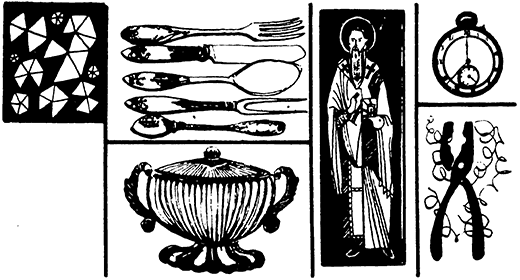
Золотой дым
— Я — на вокзал, — сказал Корейко… — Я поеду на вокзал сдавать чемодан на хранение, буду здесь служить где-нибудь в конторщиках. Подожду капитализма. Тогда и повеселюсь. — Ну и ждите, — сказал Остап довольно грубо.В ОБЛАСТНОМ городе N стоял в тот день страшный мороз. Старожилы говорят, что таких морозов не было с войны. Но он поехал в милицию через весь город — сперва в автобусе, потом в холодном трамвае. Дежурному сказал, что у него имеются ценности. Немалые, сказал он со значением. И он решил их сдать — на благо государства. Сам решил сдать. Сказавши это, он переступил некий порог в своей жизни, но дежурный удивления не выразил. Сказал только: «Изложите ваше заявление письменно». «Охотно». Позже мне показали эту бумагу. Почерк был аккуратный, конторский, каждая буковка выписана отдельно; графологи считают, что если в скорописи человек успевает бросить каждую букву отдельно, то это значит, что он высокого о себе мнения.И. ИЛЬФ, Е. ПЕТРОВ
Начальнику областного Управления внутренних делВнизу стояла затейливая с росчерком подпись. Пока дежурный читал этот текст, пришедший с затаенной усмешкой следил за ним. Спросил: «Небось не часто вам подают такие заявления?» — «Бывает…» — неопределенно ответил тот. Дело было в субботу, звонили телефоны, где-то уже начались пьяные происшествия, дежурный, майор Волков, был занят. Но минут через сорок он все же поднялся к начальнику следственного отдела: «Константин Михайлович, тут у меня странное заявление. И не менее странный заявитель». Подполковник Русинов прочитал. «Где он?» — «Я отпустил. Примерно в тринадцать тридцать. Особого доверия, конечно, не вызывает…» — «Обрисуйте внешность». «Старик, — сказал дежурный. — Он с 1894 года. Бритый. Лицо белое, морщин почти что незаметно. Холеное лицо. Одет опрятно, разговор грамотный… Что еще? Ходит тяжело. Впечатление: он больной. А так держался обыкновенно… Трезвый». Полчаса спустя опергруппа выехала из областного управления. Вместе с шофером было их пятеро. Возглавил сам Русинов. Вообще-то, он не верил. Скорей всего это глупый розыгрыш, или какой-то у старика скандал с домашними, или просто он не в себе. И тогда завтра посмеются над ними. Но если старик правду написал, то откладывать до понедельника рискованно. Может он заболеть, могут ограбить его (если еще кому-то объявил свое решение), да и просто может он передумать… Они миновали центр, в городе N — деревянный, потом потянулась многоэтажная окраина, они и ее миновали, впереди были заводы, гуднул поезд на железной дороге, они свернули направо, тут все было окутано снегом и тишиной, стояли приземистые частные строения. И ни души на улице — морозная, нерабочая суббота. Нужный им дом был в глубине участка, серый, заиндевелый. Забор поверху обтянут колючей проволокой. «Ого!» — сказал Волков. Они вдвоем вышли из машины, Русинов и Волков, оба в штатском. Подергали калитку, потом обнаружили, что изнутри на ней висячий замок. Начали стучать, залаяла в ответ собака, но дом молчал. Потом шел мимо какой-то человек. «Нет, — говорит, — эти не откроют. Особняком живут». — «А мы вроде договорились. Да вот не достучимся». — «Тут у них секрет, — сказал прохожий. — Сигнализация». И точно, среди сухих ветвей, торчащих над забором, словно замаскированный, висел комок проволоки. Они подергали, и зазвонил звонок в глубине двора. Послышался скрип отодвигаемых засовов, и показался старик… — Понимаете, — объяснял мне позже Русинов, — надо было сразу найти верный тон. Поскольку он явился сам, лучше всего было за ним оставить инициативу.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Хочу сдать мне принадлежащие ценности на усиление обороноспособности нашей славной Армии. Прошу прислать 20 января с. г. ко мне в дом по сообщенному адресу ответственных товарищей, которым я бы сдал.
ОНИ ВОШЛИ. Волкова старик узнал, Русинов ему представился. Назвал свой чин. Дескать, придавая его заявлению большое значение, счел необходимым лично с ним познакомиться. Старик говорит: «Присаживайтесь». — «Можно и раздеться?» — «Извольте». Дом у него большой. Справа, как войдешь, русская печь, за нею кровать, потом оказалось, старухина, над ней в углу икона в тяжелом окладе, и горит лампадка. А они прошли в зал. Все там было добротно, массивно. Два дивана, большой шкаф, большой ковер на полу, у окна письменный стол. И опять икона в углу. Сели, начали общий разговор, ни к чему не обязывающий. Как, мол, чувствует себя хозяин. Он ответил, что все бы ничего — ноги отказывают. «А что у вас?» — «Закупорка вен». — «По-медицински, значит, тромбофлебит?» — «Верно… Операцию собирались, но, спасибо один врач надоумил, спасаюсь мазью Вишневского». Так они сидели, беседовали, и вдруг он: «Ну, не будем терять времени. Пойдемте копать!» Все поднялись. «Скажите, а это далеко?» «Нет, — говорит. — Это у калитки». Между прочим, старуха с самого начала была в доме. Но даже не обернулась. Что-то она кипятила на плитке, так и простояла спиной весь разговор. Можно было подумать, что глухая. Но когда он сказал про «это», спина у нее стала напряженная. И еще момент: старик категорически отказался от понятых. Пойдут толки, суды-пересуды, эта слава лишняя для него. Ладно. Четверо оделись, вышли за хозяином. Русинов остался в доме. Шторку отодвинул: бьют мерзлую землю около калитки. Тогда он прошел на кухню. «Простите, хозяйка, ваше имя-отчество?» Молчит. «Дом у вас просторный, много ли людей?» — «Какие люди? — это она вполоборота. — Одни живем». — «А семья, дети?» — «Нету… Ему жена попала хворая, вскорости и померла». Тут только Русинов понял, что она старику не жена. «А вы?» — «Так… При нем живу — мучаюсь. Племянник был у нас, на войне убило». Тут он понял, что она старику сестра. «Скажите, пожалуйста, а ваш брат, он чем занимался раньше, до пенсии?» — «Какая пенсия? Нет у него пенсии…» Больше она ничего не захотела говорить, и он вернулся в зал. Посмотрел в окно: роют, по колено зарылись, и уже сумерки. На столе лежала толстая конторская книга, раскрытая. Записи каллиграфическим почерком; примерно такие: «13 января. Был у В. Д. По поводу Богом данного старого нового года. Угощение: пироги, чай. Отменное». «14 января. Навестил меня Б. И. Падает снег. Морозно»… Русинов понял, что это дневник, и больше читать не стал. Да тут как раз заскрипела дверь. Первым вошел старик. Какая-то, по словам очевидцев, торжественность была в нем. Мешок внес со словами: «В дар нашей славной Армии примите!» Русинов ответил: «Спасибо вам, Петр Иванович». Старик странно так посмотрел и сказал: «Это не все…» Теперь они снимают со стола скатерть, стелют газеты, сбрасывают мешок, а в нем жестяная банка, грязная, обмотанная проволокой. Старик принес кусачки, проволоку сняли, крышку сбили. Покатились золотые монеты… Сразу они увидели, что ценности вправду большие. Русинов наблюдал незаметно за стариком: спокоен. Обычно людей руки выдают, но у него и руки были в покое. А старуха вдруг задрожала, кинулась к нему: «Грабитель! Бог тебе не простит!» Он даже головы не повернул: «Ее тут ничего нет. Все мое, моим трудом нажитое». Зажгли свет. Дело длинное, надо все это хозяйство рассортировать, заснять. Выглядело оно, надо сказать, неэффектно. Послеювелиры чистили, извели бутыль нашатыря, а тогда золотые поповские цепи были в какой-то сальной копоти, слитки золота выглядели ржавыми кусками железа, камни были черны от грязи… Конечно, они не хотели шума, толпы на улице, но обошлось. За все время только один человек подошел к дому. Милиционер, стоявший у калитки, его не пустил, просигналил звонком. Хозяин сам вышел к нему: «Уходи, брат, без тебя разберемся». Тот повернулся и пошел. Работали дотемна. Порой старуха начинала бушевать: «Бессовестный! Бог все видит». Старик ей не отвечал. О серебре сказал, что оно фамильное, принадлежало английскому адмиралу Битти — уникальная вещь. Когда картину достал из-за шкафа, сказал: «Этой мадонне цены нет. Встретите американца, сто тысяч выложит не торгуясь». Русинов сказал: «Зачем? Если вещь стоящая, сами вывесим в музее. Для всех». Старуха (с кухни): «Бог тебя накажет. Жулик!» Старик (на нее не глядя): «Ах, я жулик? Хорошо же! Давайте ваших молодцов…» Вообразите, труба у него просто лежала во дворе, мятый, грязный обломок трубы — кто позарится? Смели снег, выбили тряпичные затычки, и выпал сверток. В хлорвиниловой клеенке. Сфотографировали, развернули, а там аккуратные, в целлофане пачки, а в них множество купюр — американские доллары. «Петр Иванович, вы что же, и за границей бывали?» «Нет, — говорит, — боже упаси. Весь век на Руси. Здесь нажито, этими вот руками… В дар нашей славной Армии примите!»
КОНЕЧНО, надо было и мне встретиться со стариком. Но я его не видел. Обидно… И тема для меня необычна, и писать о человеке, не говоривши с ним, я не привык. Вдобавок надо скрыть фамилию и даже город — он сам в милиции просил об этом.[7] В записных книжках И. Ильфа есть объявление: «Выигрыш в 50 000 р. пал на гражданина нашего города Ивана Самойловича Федоренко (Виноградная, 17, кв. 5). Выигравший пожелал остаться неизвестным». В данном случае законное желание старика будет уважено: город я не называю, фамилия скрыта. Чем же располагаем мы, чтобы судить об этой жизни? В областном управлении был с ним еще один разговор. За стариком послали машину, он приехал, вошел, опираясь на палку. На вопрос о происхождении богатства ответил так: «Ваше беспокойство понимаю… Не воровал, не грабил, занимался торговлей. Вместе с покойным старшим братом. Во время нэпа в Москве держали москательный магазин. На 2-й Мещанской. Был капитал, его обращали в ценности. Все по совести». Его спросили, как созрела у него эта мысль — сдать государству. «Я старик, — сказал он. — Мало вкусив от жизни и се аз умираю. Туда с собой не возьмешь». Спросили, как он собирается жить. Пусть возьмет обратно хотя бы ковры, если хочет, они сами свезут в комиссионный магазин, а он получит деньги. Старик это выслушал, достал большой платок, долго утирал глаза. «Решил, чего уж теперь… А сыт буду. Пчелки прокормят, они у меня с войны. Прошлый год собрал двадцать три пуда меду. Считайте: он на базаре три рубля кило». Спросили, нет ли каких претензий, просьб. «Нету, — сказал старик. — Вот только, если в ваших силах, помогите в дом престарелых. Невмоготу… с этой пилой деревянной. Но не сейчас, позже. Если обращусь». Ему обещали помочь; заместитель начальника УВД звонил потом в облисполком и заранее обо всем договорился. И еще старику предложили участвовать в комиссии по оценке «клада». Он отказался: «Увольте. Для меня не невидаль. Я ведь много лет с ценностями имел дело, когда служил кассиром в Новочеркасском банке… Это уже после нэпа». Такой разговор. Чем еще располагаем мы? Есть акт «взвешивания и оценки ценностей». В нем перечислены подробно бриллианты (38 штук), обручальные кольца и перстни (среди них старинные, редкие), дальше следуют: «запонки золотые с бриллиантами», «золотая цепь с платиной», «крест золотой», «крест Георгия I степени», «золотой слоник» и т. п. Бумажные купюры, выпущенные в 20-х годах, ценности не утратили, всего насчитали 13 650 долларов. Скупал старик и золотые монеты царской чеканки, золотой песок, слитки, зубные коронки. Между прочим, обманывали его: два бриллианта, купленные им за большие деньги, оказались отграненными стекляшками, портсигар, проданный ему как платиновый, был из серебра. Скупал старик японский фарфор. Все же я хотел поговорить с ним. Дом нашел, долго дергал проволоку, вышла старуха: «Вам кого, мил человек?» Я сказал. «А вы, простите, сами откуда будете?» Я назвался. «Вон до чего дошло! Из самой Москвы… Нету его». Я просил передать, что вечером буду снова, но и вечером вышла старуха: «Может, он в больнице? Еле ведь ходит…» На другой день: «Жаль мне вас, утруждаете себя. Он к знакомому ушел… Адреса, простите, не знаю. Далёко где-то». На третий день: «Может, он в молельном доме на Коммунистической?» У нее были цепкие глаза, очки у переносья связаны ниткой. «Зря ходите, мил человек! — сказала наконец. — Не застанете вы его». — «Почему так?» — «А если он не хочет! Можете вы заставить?» И пошла к дому, и черный пес, брехнув на меня для острастки, затрусил следом. Наверно, я мог бы, что называется в лучших традициях репортажа, подстеречь старика, ослепить фотовспышкой, взять врасплох. Но в конце концов, какое у меня на это право? Я знал, что старик жив-здоров. Уже после изъятия ценностей за домом вели наблюдение, опасаясь, как бы кто не обидел хозяина. Но все было спокойно. Просто он не захотел со мной говорить. Что ж, я вернулся к основной своей теме, ради которой приехал в этот город, но странный старик никак не шел из головы. Мелькнула газетная информация об этом происшествии «в одном из городов», теперь я мог говорить о нем и говорил со многими. Эпиграф мне подсказал монтер из трамвайного парка, молодой парень: «Это он после „Золотого теленка“. Чего улыбаетесь? Вполне могло быть. В кино посмотрел и решил…» Я подумал: а ведь основное нам известно об этом богаче, который пожелал расстаться с богатством. Разве не так?
ЖИЗНЬ его опирается на три точки: копил, таил, сдал. Период «первоначального накопления» известен нам в самых общих чертах. Тогда много было беспризорного золота в стране, драгоценности меняли владельцев. Меня покоробило, когда на одном из колец я обнаружил гравировку: «Наташе. 9.III.1923», фон накопления — разруха, голод, но это мой сегодняшний взгляд, а для него кольца были золотой лом, и только. Ежели крест золотой, так не то важно, что крест, а то, что золотой: «Все по совести». Он держал частный магазин, торговал, и, надо полагать, торговал умело; в ту пору это было дозволено и даже полезно стране. Вторая, бо́льшая часть его жизни — ждал. Как выразился один шофер: «У него голова работала нажить, а прожить не хватило ума». Я спросил: «А как он мог прожить?» — «Уж я бы не растерялся!» — «А все-таки как?» — «Ну купил бы машину…» — «У старика денег было на три десятка машин, а может, и больше». — «Ну прогудел бы, погулял вволю!» — «Так он непьющий». — «Н-да… — сказал шофер. — Если он с выпивкой в натянутых отношениях, тогда конечно…» Не ждите от меня сентенций типа «не в деньгах счастье». Я полагаю, напротив, что «без денег жизнь плохая, не годится никуда». Хождение у нас они пока имеют, на них очень многое можно купить. Я думаю только, что деньги — средство, чтобы сделать жизнь хорошей и удобной. И нелепо ради денег делать жизнь неудобной и плохой. Я думаю, что честно заработанные деньги дают человеку некое чувство самоуважения. И нелепо во имя денег терять самоуважение. Я думаю наконец, что более всего деньги нужны, чтобы украсить жизнь своих близких. И нелепо ради денег лишать себя близких. Обладание богатством не прошло бесследно для старика. Оно, подспудное, рождало страхи, требовало постоянных забот. Ценности ведь не просто лежали в земле: целлофан и хлорвиниловая пленка появились недавно. Возможно, именно деньги отъединили старика от людей, лишили его простых человеческих радостей, сделали то, что к исходу жизни он один как перст… Впрочем, остановимся, это уже из области предположений. Может быть, напротив, деньги грели его, давая ощущение собственной значимости: у других — нет, а у него — есть! Достоверно известно, что он свое золото так и не смог истратить. Его «наземное» имущество — дом, обстановка, ковры, столовое серебро (которое он тоже сдал) — вполне укладывалось в многолетние сбережения совслужащего. А ценности остались в земле. Почему?.. Можно найти житейские причины: сперва боялся, потом опасался (построишь дачу, а ее ни с того, ни с сего отберут), потом привык. Я предпочту искать причины социальные. Такой, каков он есть, старик не мог пустить богатство на распыл. Он видел в деньгах капитал. Он пустил бы их в дело, в рост, но просто так растранжирить, пропить — это, по его убеждению, безнравственно. Будь у старика дети, он скорей всего им оставил бы наследство. Но деньги все равно не стали бы капиталом. Решение проблемы сдвинулось бы в следующее поколение, только и всего. Вот о чем говорит случай в городе N. В толчее дней мы не задумываемся над тем, что вот прошло полвека, и сложились новые общественные отношения и утвердились в сознании большинства. Столь они прочны, что даже такой старик отказывает свое богатство обществу. Если же говорить о внешнем течении его жизни, то было оно тягучим и однообразным. Способности, может быть недюжинные, ушли в песок, энергия выдохлась, служил в конторщиках, боялся выйти за пределы сорокашестирублевого жалования и все ждал возврата к прежнему и на пятьдесят втором году революции понял, что вряд ли дождется. И отправился в милицию. Что послужило толчком? Не знаю. Даже если бы я встретился со стариком (я все жалею, что этого не случилось), вряд ли он захотел бы ответить на этот вопрос, а если бы и ответил, то не обязательно правду. В романе, в повести можно облечь плотью какую-то одну интересную версию. Скажем, отягчали эту душу какие-то грехи и вот — очистился. Или так ему было омерзительно думать, что достанется его золото кому-то одному, что он предпочел отдать всем, то есть, по его взгляду, — никому. Или самое простое: отдал назло сестре. А может, тут глубокий душевный перелом: всю жизнь жил неправильно, а под конец как ахнет — всему подвел черту. Вручил свое народу, освободился, вышел красиво из игры. Во всяком случае, он это сделал. Не будем бить по этому поводу в литавры. Он не отдал свое золото «славной нашей Армии» в год, когда немцы стояли на Волге, когда люди отдавали последнее. Но, с другой стороны, подводя итоги, сумел отбросить все, чему поклонялся. И этот его поступок заслуживает сочувствия и одобрения. Да и решил старик круто, по-булычевски, без мелочных расчетов — это тоже вызывает уважение. Тут можно поставить точку. Для чего рассказано это? Массового движения подпольных миллионеров по сдаче ценностей родному государству я не предвижу. Просто я подумал, что читателям будет интересно узнать и об исключительном случае. Курьез — он дает иногда пищу для серьезных раздумий.
1969 год.
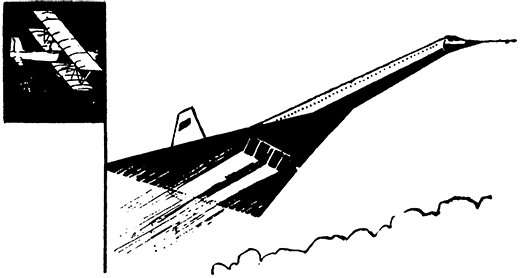
Рубеж надежности
САМОЛЕТ, притихший, стоял на полосе.
Он давно готов был к первому вылету, ждали только ясного неба, а погода стояла дрянь, облака давили землю, и все извелись, потому что трудно изо дня в день держать себя в готовности, но вот наконец в последний день года похолодало, развиднелось, ушел в небо разведчик погоды, а гигант вышел из ангара, встал на взлетной полосе.
Странен был этот самолет. Очень длинный, остроносый, с непривычным пакетом из четырех реактивных двигателей, прилепленным снизу. Стабилизатора не было вовсе. Треугольное крыло сдвинуто назад, к хвосту. Передняя кромка его остра (если надавить рукой — будет больно), а главное, оно не плоское, оно деформировано по особому закону. Когда смотришь спереди, впечатление такое, будто самолет раскинул, расправил птичьи крылья и голову опустил. Птица никогда ведь не взлетает с задранной головой.
Это никакой не высокохудожественный образ: «голова» у ТУ-144 сейчас действительно опущена. Скорость его огромна, он больше чем вдвое обгоняет звук, потому и понадобился ему длинный острый нос, а пилотам на взлете и на посадке надо обеспечить хороший обзор. Вот и сделали конструкторы носовую часть отклоняемой. В небе эта птица поднимет свою умную голову.
Вчера мне показали пассажирские салоны, там царил обычный аэрофлотовский комфорт, нейлоновый ковер, мягкие кресла (по пяти в ряд), полированные столики. Потом мы ходили по крылу, и тут я увидел границу между сегодняшним днем авиации и завтрашним, она была прочерчена зримо. Тело гиганта построено из алюминиевых сплавов, обновленных, более прочных, но все тех же старых добрых сплавов, которые столько десятилетий верой и правдой служили авиации. Однако на «сверхзвуке» наружная стенка самолета будет нагреваться уже до 130―150 градусов. А рули поворота, элевоны (здесь они играют роль и элеронов, и руля высоты) не просто скользят в потоке, но отклоняются, работают, — они попадут в зону еще больших температур. На ТУ-144 они сделаны из титана…
В сущности говоря, весь этот самолет стоял на грани двух авиационных эпох. Он венчал большой этап в развитии авиации и в то же время открывал в ней новую эру. Эру пассажирских сверхзвуковых полетов.
ЗАЧЕМ? Поставим перед собою этот простой вопрос. Куда мы все торопимся? Зачем нужна — не летчикам, не военным, не смельчакам-рекордсменам, а простым отпускникам и командировочным — эта немыслимая быстрота передвижения?.. Следуют обычные, не раз высказанные, интеллигентные (они же сермяжные) сомнения: из окна дилижанса больше увидишь, чем из окна поезда, зачем отрываться от природы, от земли — в прямом и переносном смысле, что увидишь, обгоняя звук? Что ж, отдыхать, путешествовать, изучать, как говорят сейчас, жизнь лучше пешим порядком. Но только не будем забывать, что ямщики вытрясли из Чехова душу по пути на Сахалин, что поездка Белинского (с актером Щепкиным) по югу России, предпринятая для поправления здоровья, отняла у великого критика последние силы. Му́ка были эти идиллические путешествия. И если художнику «полезны» тяготы, если неразделенной любви мы обязаны величайшими поэмами, то все же для простых смертных предпочтительнее любовь разделенная. За три часа этот удивительный самолет перебросит вас через всю страну, а там путешествуйте верхом, пешком, повторяйте шутливые строки поэта:
АЭРОДРОМ затих. Все другие полеты теперь запрещены. Только на соседней полосе приготовлены два истребителя, самолеты сопровождения. Уже прибыл экипаж ТУ-144. Четверо в кожаных костюмах, высоких ботинках, защитных шлемах с забралами. Командир корабля, заслуженный летчик-испытатель СССР Эдуард Ваганович Елян, второй пилот Герой Советского Союза Михаил Васильевич Козлов, ведущий инженер-испытатель Владимир Николаевич Бендеров и бортинженер Юрий Трофимович Селиверстов. Их четверо, но учтите: эту машину готовили к первому вылету больше тысячи человек. Ревут на старте четыре мощных двигателя. Голос Еляна по радио: «Разрешите взлет». «Взлет разрешаю», — говорит руководитель полетов. Все по регламенту, никаких лишних слов, слова придут потом, но крыши ангаров, служебных зданий облеплены людьми, а самолет бежит по земле, склонив к ней голову, быстрее, быстрее, вот носовое его колесо оторвалось от земли, нос уже не опущен, самолет как бы приподнялся, привстал — удивительно красиво! — взлетел. Пристальным, долгим взглядом провожает его 80-летний генеральный конструктор. Это удивительно, если вдуматься, что едва ли не все авиационные эпохи охватил своей жизнью Андрей Николаевич Туполев, старейшина советских самолетостроителей. Ведь он застал еще фанерно-перкалевые аэропланы, строил первые наши цельнометаллические самолеты, первые тяжелые самолеты (в ту пору — самые большие в мире); беспосадочный перелет экипажа В. П. Чкалова на самолете АНТ-25 из Москвы в США поразил мир (он продолжался «всего» 63 часа!); Туполев открыл своими машинами эру реактивных пассажирских полетов — и вот теперь он же перебрасывает нас за звуковой барьер… Право, если мерить эту жизнь масштабами развития морского транспорта, то это выглядело бы так, будто один и тот же строитель делал первые каравеллы, потом он же — атомоход «Ленин». В авиации века сжались до десятилетий, потому и смог человек своим умом, талантом, прозорливостью обнять почти все развитие ее. Как делался этот самолет? Всего не расскажешь, я постараюсь выделить поучительное — то, что может быть полезно всем, а не одним строителям самолетов. Люди ставили перед собой высокую задачу — вот первое, что хочется отметить. — Если хочешь сделать то же, что делают другие фирмы, у нас или за рубежом, то получится обязательно хуже. Это сказал мне главный конструктор самолета ТУ-144, профессор Алексей Андреевич Туполев, сын генерального конструктора. Разговор был по необходимости краток, мы ехали с ним в машине на аэродром, он сидел за рулем, но кое-что я сумел спросить и запомнить. Итак, высокая задача: сверхзвуковой пассажирский самолет с самого начала задумывался как машина принципиально новая, рубежная. Скорости транспортных средств растут всегда — от паровоза к паровозу, от автомобиля к автомобилю, от самолета к самолету — на 10―15 процентов. Это законный путь модификаций, постепенного накопления качеств, путь эволюции. «Новый дом собирают из старых кирпичей», — сказал мой собеседник. При этом большое количество деталей, проверенных в долголетней эксплуатации, идет в дело, и это создает уверенность. Но есть в технике и другой путь — революционный. Первые пассажирские реактивные самолеты дали прирост скорости не на 10―15, а на 250―300 процентов. Вот и ТУ-144 почти в три раза увеличит скорость — с 800―900 до 2500 километров в час. Чтобы добиться этого, и аэродинамическую схему, и конструкцию, и материалы, и технологию, и большинство систем пришлось делать заново. — Люди — оптимисты, — сказал еще А. А. Туполев. — Преимущества своих идей видят сразу и хорошо, недостатки — не сразу и хуже. Критическое отношение к собственным замыслам, открытое и принципиальное обсуждение всех острых вопросов, борьба мнений, докапывание до сути — без всего этого машины такого класса быть попросту не могло. Давно ведь сказано: мнения людей, создавшиеся самостоятельно, похожи на гвозди — чем сильнее по ним бить, тем глубже они входят.
КРЕЙСЕРСКАЯ скорость нового самолета объявлена — 2500 километров в час, высота полета до 20 000 метров. (А разбег на взлете и пробег при посадке — не больше, чем у ТУ-104). На первый, поверхностный взгляд, скорость такая военными самолетами давно превышена, и высота, и дальность. Что же тут принципиально нового? Прежде всего эти рубежи брались порознь: скорость — одним самолетом; грузоподъемность, дальность — другими. А тут все собрано воедино. Кроме того, новый самолет берет рубеж надежности. Может быть, это и есть самое трудное. Основа пассажирского самолетостроения — максимальная безопасность полета. Когда везут обыкновенных людей, бабушек и внучек, тут нет права на ошибку и даже на риск. Если до сих пор звуковой барьер брали профессионалы, если они вырывались вперед, прочерчивая острие прогресса, то теперь подтягивается весь фронт. И это качественный скачок. Чтобы возить нас с вами на «сверхзвуке», возить безопасно, да еще и недорого, надо было решить тысячи проблем. В пору работы над этим самолетом объем исследований был на порядок (в 10 раз) больше, чем во время создания других машин. Строились специальные стенды, лаборатории, конструировались специальные станки с программным управлением, и заняло все это не год, не два, а целую пятилетку. Сотни наших заводов принимали участие в оснащении ТУ-144, десятки НИИ и КБ, десятки тысяч рабочих, инженеров, ученых. Этот самолет был бы невозможен без новых сплавов, новых видов проката, освоенных металлургами. Был бы немыслим без деятельной помощи химиков: на нем 10 тысяч деталей из пластмассы. Не был бы выпущен без поддержки приборостроителей, радиоэлектронщиков: стоимость электронного оборудования составляет почти половину стоимости всего этого самолета. Умение наладить четкое взаимодействие многочисленных организаций и заводов, кооперацию их, ответственность за качество, за сроки — все это, обеспеченное руководством Министерства авиационной промышленности СССР, достойно и похвалы, и подражания. Сознаюсь, авиация — давнее мое пристрастие. Соединение расчета и риска, самых фантастических проектов с самой строгой реальностью, сложнейших научных разработок с быстрым (сравнительно с другими отраслями) внедрением их в жизнь, соединения энтузиазма с ответственностью — откуда это? Наверное, в авиации нельзя иначе: самолеты все-таки летают, и притом на большой высоте… Иногда думаешь: не плохо бы иметь высоту, пусть не такую большую, пусть поменьше, под какой-нибудь трикотажной фабрикой. А если без шуток, если всерьез, опыт таких отраслей, как авиационная промышленность, заслуживает самого пристального внимания, самого широкого распространения. Нынешний полет — это честная работа, новое большое достижение науки и техники, новый шаг в развитии мирового самолетостроения. Да, берется рубеж надежности, рубеж доверия… Разумеется, гигантский самолет строился в нескольких экземплярах. Один из них — жертвенный, его испытывали на вибрационных стендах, подвергали нагрузкам в лаборатории статиспытаний; те нагрузки, какие машина может испытать в сегодняшнем полете, давно уже испробованы. Был построен наземный стенд, на котором проверялась система кондиционирования, — он «налетал» уже свыше 10 миллионов километров. Впервые я увидел сегодня летящий самолет с таким крылом, по схеме «бесхвостка». А оказалось, по просьбе А. Н. Туполева в КБ А. И. Микояна был уже сделан «летающий аналог» — небольшой самолет той же схемы — и был испытан в воздухе. Силовая установка у нас тоже опытная, новая, но двигатели (конструкции Н. Д. Кузнецова) уже отработали тысячи часов — и на наземных стендах, и в летающих лабораториях. Что еще дает уверенность? Все жизненно важные системы не только продублированы, но основаны на «четырехкратном резервировании». Тут один отказ не создает неудобств, тут даже два отказа не приводят к аварийной ситуации. Использован принцип кворумирования (от слова «кворум»): если одна из систем даст неверный сигнал, умная машина не послушается, она тотчас примет решение «по большинству голосов». Она не только способна выдерживать заданный курс, но может рассчитать наилучшую траекторию, учесть ветер, делать развороты, докладывать пилотам, где находятся они, сколько осталось горючего, и даже вслепую заходить на посадку. Если что-то забудут летчики, то не только загорится лампочка, не только надпись вспыхнет на табло, но и голос услышат они: «Переключите радиомаяк!», или «Выпусти шасси!», или: «Вы уклонились от посадочной полосы». Кажется, здесь хотят записать на магнитофон голоса самих испытателей, тогда они услышат самих себя, так сказать, свой внутренний голос. И последнее, что мне хочется отметить: особенность пассажирских машин — долгий срок службы, большой ресурс. ТУ-144 рассчитан на 30 тысяч часов полета. Это десять лет верной службы. Именно на такой срок рассчитаны и прочность конструкции, и все прочее. А в эксплуатации гражданских самолетов есть твердые правила, я бы даже сказал, здоровый консерватизм, который здесь благо. Выделяется самолет-лидер, точная копия всех остальных, который всегда опережает своих собратьев на тысячу, на две-три тысячи летных часов. Пассажиров на нем возить запрещено, случись что непредвиденное — лидер столкнется с опасностью первым. Между прочим, лидер реактивных ТУ-104 летает по сей день, больше двенадцати лет…
ПОЛЕТ, первый, самый первый испытательный полет продолжается, мы ждем на полосе… Легко рассказывать о «рубеже надежности», но все это в будущем, а пока ведется осторожная, медленная проверка основных систем. Они летят сейчас, включили сотни самописцев, делают тысячи замеров, и эти данные с помощью радиотелеметрии передаются на землю, где исписываются километры пленки. Самолеты сопровождения следят за каждым движением ТУ-144, и кинооператор, сидящий в одном из них, снимает полет. Крутятся магнитофоны — Земля записывает голоса летчиков… Это профессионалы, мастера дела. Конечно, они убеждены, что все будет, как намечено, но это испытания, и случись что, их товарищи должны знать, что это было. Я успел хорошо познакомиться с экипажем. Самому младшему из них 43 года, самому старшему — 44. Летчики хорошо дополняют друг друга: Елян горячий, напористый, Козлов спокойный, на первый взгляд, даже флегматичный. Путь их схож: окончили в войну спецшколы ВВС, потом летные училища, оба хорошие спортсмены, охотники, работали инструкторами, потом добились зачисления в школу летчиков-испытателей, пройдя конкурс, который вузовцам неведом. Ясное дело, у них у обоих за спиной есть «эпизоды», несостоявшиеся аварии, прыжки с парашютом, подвиги, но здесь мы минуем это. А сказать я хочу о другом: оба они, уже работая на испытательном аэродроме, получили высшее образование. Они летчики-инженеры, тип этот укрепился в авиации, стал здесь привычен, теперь без этого нельзя. Елян начал готовиться к этим полетам еще три года назад. Встречался многократно с конструкторами, участвовал в дискуссиях, и к его мнению прислушивались. — Вы отметьте, — сказал мне Елян, — большую роль сыграл летчик-испытатель, кандидат технических наук Николай Владимирович Адамович, мне повезло с ним работать. Тут дело не только в новом расположении приборов, не только в том, что пульт мы расположили на штурвале (впервые). Создавалась, я бы сказал, новая идеология полета. Штурвальный вид вождения самолета, когда пилот таскает баранку, сведен до минимума. Но конструкторы оставили летчику возможность оперативного вмешательства в заданную программу. Козлов был долгое время занят испытаниями другого опытного самолета и в работу включился позже. Но тоже изучал ТУ-144 около двух лет и знает досконально. Сконструирован был специальный стенд-тренажер, где, сидя в кабине, пилоты вживались в обстановку, разыгрывали полет, и перед ними дрожали стрелки приборов, и надо было принимать решения, а на штурвале, педалях возникали те же напряжения, которые, по расчетам, возникнут в небе, и перед глазами летчиков были небо, горизонт, неслась навстречу бетонная полоса, — все это проектировалось на телевизионном экране. — Чувство уверенности, можно считать, пришло, — сказал мне перед полетом Козлов. — Будто знакомы с самолетом, будто не раз уже летали на нем. И инженеры Бендеров и Селиверстов — опытные испытатели; Бендеров, например, точно так же, как и сегодня, участвовал в первых вылетах самолетов ТУ-104 с летчиком-испытателем Ю. Алашеевым, ТУ-124 и ТУ-134 с летчиком-испытателем А. Калиной… Раскрою один секрет: в последние дни Владимир Николаевич побаливал и, чтобы врачи не отстранили его от полета, держал спину чрезмерно прямо. Кажется, у него начинался радикулит. А был у Бендерова дублер, как и у других членов экипажа, и я не скажу, что дублер с надеждой взирал на эту плохо гнущуюся спину, но все же участвовать в первом вылете был бы не прочь. Однако вчера вечером весь экипаж собрался на даче у Бендерова, привезли откуда-то змеиную мазь, и я видел, как летчики по очереди терли спину ведущему инженеру… Обошлось. Конечно, эти люди слетались давно. Они понимают друг друга с полуслова, они верят друг другу до конца, до последней черты — мастера в самом высоком смысле этого слова, патриоты, настоящие друзья. — Задание выполнил, — докладывает Елян. — Иду на посадку. Земля замерла в ожидании. Показалась в небе светлая точка, самолет идет на снижение, распластав крылья, опустив, словно всматриваясь, свой острый нос. Коснулся полосы, бежит — все! Задание выполнено. Испытания долго еще будут продолжаться, но ТУ-144 уже умеет взлетать и садиться. Бегут люди к стоянке, подхватывают на руки испытателей, качают, снова они взлетают к небу. Теперь видно, как много народу на аэродроме, и я понимаю смысл одного замечания генерального конструктора. «Ты не мудрствуй, — сказал мне Андрей Николаевич Туполев. — Напиши: это, мол, дело коллектива, заслуга всего коллектива…» В сущности, многим из тех, кто толпится вокруг самолета, совсем не обязательно было приезжать сюда, и дома их ждали накрытые столы и нарядные елки, но они пришли на первый вылет — заместители генерального, инженеры, механики, рабочие. Да, основа надежности — люди. Сегодняшний полет дал новое имя всем предшественникам новой машины, — завтра мы усвоим его. Они долго еще будут работать, им суждена большая жизнь, но отныне все эти лайнеры, гордо реющие, замечательные, могучие, стали дозвуковыми… Я знал многих летчиков, которые первыми взяли звуковой барьер, — не так давно это было. Я и тогда приезжал на испытательный аэродром и провожал их в немыслимые, трудно представимые полеты. Рекорды в ту пору не учитывались, и газеты о них не писали, но хочется мне сегодня назвать имена пилотов, которые на разных машинах первыми взяли этот рубеж, — И. Иващенко, В. Юганов, И. Федоров, А. Ершов, А. Тютерев, И. Эйнис, С. Аметхан, Г. Седов… Сегодня четыре испытателя подняли в небо и привели назад на землю гигантскую птицу, чтобы скорость эта стала доступной для нас для всех. Что ж, так оно и идет в жизни. Знаете ли вы, что мы уже чаще летаем, чем плаваем? В 1967 году Аэрофлот перевез 55 миллионов пассажиров, в 1968 году — больше 60 миллионов. Если же вести счет в «пассажиро-километрах», то, по данным 1968 года, морской транспорт перебросил 1,6 миллиарда, речной — 5,3 миллиарда, а воздушный — 53,5 миллиарда! В сущности, удивительно это. Не скрою, я хотел, чтобы читатель удивился, прочитав о последнем событии ушедшего года — первом вылете первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета.
1969 год.

Заводские письма
Былые заслуги
ЗАВОДЫ, как люди. Рождаются, учатся (чаще, как люди, на ошибках), вступают в пору зрелости, старятся, когда придет срок. Журналист застает мгновенье в этой долгой жизни. Ну, сколько я мог пробыть в Луганске? Неделю, месяц — много. Как говорится, что было, то прошло, а чему быть, того не миновать. Я вижу: чисто на заводском дворе — вот первое впечатление. Чисто и много цветов, и даже в цехах — белые цветы. Белые! Но они тут быть не могут. Это завод ячеистобетонных конструкций, я уже бывал на таких и знаю: бетон глушит живое, забивает серой пылью — это производство отроду грязное. И тогда мне хочется понять. Мне надо понять, я ищу старожилов и узнаю: тут тоже была грязь. В 1961 году, в декабре, пустили завод, и посыпались пусковые беды, и было им не до цветов. У меня записан рассказ Ю. Чумакова, первого директора, который давно уже не работает здесь: — Как-то зимой 62-го я пришел в формовочный и вижу: пролет завален до самых ферм. Замусорились, брак перемешан с годным, разобрать невозможно, пыль… То есть, я это и раньше видел, а тут вдруг увидел. Понял, что если вот сейчас не поломать это дело, навсегда будет так. И я остановил завод. Молодой был, сейчас бы, пожалуй, не решился. Ну, деньжата «пусковые» еще оставались, было чем кормить людей. О себе знал: выгонят — без работы не останусь. Других специалистов тогда в Луганске не было. Я сам, когда получил назначение на строящийся завод, о ячеистом бетоне одно знал: камень с дырками. Кто их будет высверливать? А уж к пуску подобралась у нас группа энтузиастов: главный инженер В. Тришин, химик Д. Дичанская, энергетик А. Дробница, начальник известкового П. Литвинов (он сейчас зам. начальника треста), и мы учились полтора года, какая-то уверенность пришла. В общем остановил завод. И сразу тишина, рабочие смотрят: что будет? Заводоуправление я вызвал в цех. Пригнали экскаватор, бульдозеры, и всю заваль — и брак, и годное — выгребли в отвал. Страх божий! Потом подметали, мыли. Навели линии желтой краской: здесь складывать панели, здесь — плиты. И быть посему. А кто нарушит, пусть уходит. В положении о премиях записали: 60 процентов — за чистоту рабочего места. Черт знает что, я тогда мастеров, инженеров домой отсылал, если являлись в сапогах. Иди на работу в туфлях, а грязно тебе — наведи порядок. Молодой еще был. Но, между прочим, поняли: может быть чисто. Азарт пришел: сделаем завод! Пусть на других грязь, а у нас будут цветы… Вот с той зимы 62-го и чисто. А это, добавлю я к рассказу директора, не только эстетика и совсем не показуха. Это и культура производства, и качество, рентабельность, сохранность оборудования. Формы, в которых твердеет бетон, выдерживают обычно два-три года — и на свалку. В Луганске парк форм работает все восемь лет. С какой-то особой ясностью я понял в этой поездке (видел и раньше, а тут увидел), что все или почти все нынешние успехи этого передового коллектива были заложены пять, восемь, десять лет тому назад. У заводов, как и у людей, есть родословная.ХОРОШО ЛИ, что существуют передовые заводы? Спешу ответить: да, конечно, еще бы. Что это, однако, значит? Передовой — значит, идет впереди, значит, кого-то он опередил, значит, есть и отстающие. Хорошо ли, что существуют отстающие заводы? На это отвечать не спешу, но про себя думаю, что, покуда есть движение, одни будут двигаться быстрее других. Покуда есть соревнование, одни будут побеждать других. И нет передовых без отстающих, и отставания не видно, если кто-то не вырвался вперед, — диалектика. Так что все правильно. Правильно, но почему-то обидно. Тут неизбежно сравнение. Допустим, я напишу теперь, что хороший этот завод поразил меня и обрадовал тем, с какой охотой здесь подхватывают новое. По проекту объемный вес панелей был 700 килограммов на кубометр. Удалось его снизить до 600. Объемный вес плит был меньше — 500. Снизили до 400, а сейчас, впервые в Союзе, — до 300; большие партии «трехсотки» уже отправлены строителям. Выигрыш для завода огромный, еще больше он для государства — на перевозках, на стройплощадках. Но мало этого, сэкономив горы сырья, они вдобавок освоили сырье местное, более дешевое. (Для знатоков: известь, шлак, гипс — вот их «вяжущее»). Завод давно сократил потребление цемента, а недавно выпустил первую партию бесцементных плит. И благодаря всем этим новшествам довел свою производительность в 1968 году до 256 тысяч кубометров (проектная мощность — 197 тысяч). Заметьте, я пока и словом не обмолвился об отстающих. Но если поразил меня этот завод, значит, не везде так. Если я привел эти цифры, значит, они видны на общем фоне. Уже в похвале таится сравнение. Оно в рассказах о передовиках подразумевается само собой. Оно, если и не в строках заключено, то между строк… Что ж, вставим в строку. Дело в том, что Луганский завод не один на белом свете, есть у него заводы-братья, а точнее говоря, заводы-близнецы. И вот — для сравнения и размышления — их цифры из сводного отчета 1968 года: Пензенский завод — 144 тысячи кубометров, Барнаульский — 161 тысяча. Павлодарский — 172, Ижевский — 126. А наш — 256 тысяч! Сравнение должно быть честным. Не надо ругать пилота ПО-2 за то, что он летает тише и грузов поднимает меньше, чем пилот ТУ-144. Пример более близкий: в цементной промышленности передовые заводы работают сейчас в 7,4 раза (по себестоимости) и в 9,5 раза (по производительности труда) лучше, чем отстающие. Такой разрыв я бы лично не спешил объяснять лишь тем, что там все сплошь энтузиасты, а тут — лодыри. Вполне очевидно, что речь идет о заводах разных. Одни на подъеме, другие отжили свой век, одни — гиганты, другие — фабричонки. Валить их в одну кучу — только обижать и тех и других. Сошлюсь, однако, на мнение специалиста:
«Для сравнения труда двух или нескольких коллективов, — писал мне профессор П. Р. Таубе, — необходимо наличие многих сопоставимых условий, чего чаще всего нет. Случай с ведущими, самыми крупными заводами ячеистого бетона, напротив того, вполне ясен. Лучшим в стране является Луганский завод (предприятие коммунистическою труда — первое в отрасли): отличное качество продукции, образцовая чистота в цехах, фонтаны и беседки во дворе, а главное, отличные люди — знатоки, влюбленные в свое дело. Возьмите некоторые другие заводы — это другой век. Выпускают продукции ровно вдвое меньше на том же сырье и том же оборудовании (Ижевск), редкое изделие соответствует стандарту (Пенза), хаос и бедлам в цехах (Набережные Челны Татарской АССР), дома из их панелей похожи после первого дождя на грязный халат мясника. А ведь это заводы-близнецы в полном смысле слова. Проектная мощность у них одна и та же: около 200 тысяч кубометров в год. Полагаю, тут мы имеем идеальные условия для сопоставлений. Так сказать, чистый эксперимент…»Позже я встретился с Петром Рейнгольдовичем. Он заведует кафедрой химии в Пензенском инженерно-строительном институте, он неизменный председатель оргкомитета по проведению конференций в этой отрасли, он серьезный ученый, и, конечно, я верил ему. Но тем не менее замучил вопросами. Может быть, луганский завод построен раньше других? Нет, ответил он, первым был пензенский. Может быть, сырье у нашего завода лучше? Опять-таки нет: в Пензе работают на цементе, а тут пришлось осваивать известь. Может быть, корпуса в Луганске побольше? Нет, заводы, все десять, строились по одному типовому проекту. А машины? Оборудование (польское) было одно и то же, до последнего болта… Так шаг за шагом мы отсекали объективные причины. Я понимал, конечно, что полного совпадения быть не может: города разные, население, дороги, климат. И все же прав профессор, сравнение тут возможно. О производительности уже сказано. О качестве тоже сказано. Теперь себестоимость (беру цифры 1967 года): в Луганске кубометр армированных изделий — 21 руб. 36 коп., в Пензе — 33 руб. 97 коп., кубометр теплоизоляции (соответственно) — 8 руб. 12 коп. и 25 руб. 30 коп. Выработка на одного работающего за год: в Луганске — 7500 рублей, в Пензе — 5549. Справедливости ради отмечу, что пензенский завод еще не самый плохой. В Ижевске произвели за год всего 126 тысяч кубометров. И есть очень хороший завод — в Ступино, под Москвой, — который больше дал продукции, чем наш (270 тысяч). Откуда эта разница? Должно же быть какое-то объяснение. Номенклатура… Сказав это слово, я просто вижу, как расходятся складки на челе критикуемых. Ну, конечно же! Слово найдено. Луганск знает всего два вида изделий, Пенза — множество. Луганск гонит их гигантскими сериями, Пенза — малыми. Луганску — легче, Пензе — тяжелей. Тут не сердиться надо, тут надо снисходить. Сравнение должно быть честным. Спросим себя, однако: а номенклатура откуда взялась? Разные хозяева у десяти заводов. Они построены в трех республиках, в десяти областях, они подчинены были десяти совнархозам, а теперь — пяти министерствам. Каждый хозяин лепил завод по своему образу и подобию. Ту продукцию требовал, какая ему в данной местности, в тогдашний «данный момент» была нужна. Разная география диктовала разную историю. Сейчас эти былые решения стушевались, и кажется людям, будто задания с неба свалились, будто планы заводам верстал сам господь бог. Но мы-то с вами помним о родословной.
БЫЛЫЕ ЗАСЛУГИ — вот о чем я хочу говорить. Как-то стали мы лишь там вспоминать о них, где нужно уязвить сбившегося с пути: хватит кичиться былыми заслугами! Согласен: хватит. В карете прошлого далеко не уедешь! Верно: не уедешь. Только если эта карета катила в нужном направлении, если совершенствовалась на ходу, то ее и называют в наш просвещенный век ТУ-144. Мне говорили в Луганске, что разговоры о ячеистом бетоне начались там еще в 1951 году. Вот когда это все закрутилось, а после десять заводов обдумывали, рассчитывали, размещали на карте страны, проектировали, финансировали, строили, осваивали… Очень долог у нас этот цикл — 10―15 лет. И ведь только теперь, когда вышли они на проектную мощность (а иные еще и не вышли), только теперь можем мы рассудить, кто ошибся, а кто верно решил. Тут возникают по меньшей мере два затруднения. Первое: нет инстанции, нет такого человека, который мог бы сделать все от начала до конца. Успех добывается силой и разумом многих людей, каждый из которых должен былэстафету подхватить, пронести, вручить в верные руки. А вот хватить в сторону, испортить все дело — это мог на своем этапе каждый. Второе: время упущено. Даже если явится желание (оно почему-то редко приходит) воздать людям за их дела, так поди разыщи их. За десять, за пятнадцать-то лет! Непременно выпала на этот срок какая-то реорганизация, кто в трест перешел, кто — в другое ведомство, кто — на пенсию. Вот и выходит, что, когда принимались решения, дать им окончательную оценку было невозможно. А когда стало возможно, то вроде бы и не нужно. Такая выходит история с географией. Но ведь работать так нельзя! Шкаф построить можно на таких основаниях, да и то лучше бы не на таких, штаны так можно сшить, да и то лучше бы не так, а лес не вырастишь, реку не спасешь от загрязнения, город не воздвигнешь. И если все-таки есть у нас новые хорошие города, электростанции, мосты, дворцы, заводы, то, стало быть, были и есть люди, которые умели и умеют смотреть дальше «данного момента». Вернемся в Луганск. Наш завод — классический пример того, что может дать специализация. Открытия тут нет, во всем мире производительная сила труда на таких заводах вдвое и втрое выше, чем на универсальных, — об этом пишут все учебники. Но разве не «проходили» их в других городах? Сегодня, ввиду полной ясности, найдутся, пожалуй, охотники сказать, что и с сырьем Луганску повезло. Оно местное, перебоев в снабжении нет, а есть постоянство исходных, а значит, и однородность продукции, о чем тоже пишут учебники. Так ведь надо было этого добиться! Бог мой, сколько было шуму, когда в самом начале вдруг выяснилось, что панели не морозостойки! Сколько было доброхотов: бросьте возиться с известью, дадим вам цемент, только освойте — быстрей, скорей! Завод устоял. Одно время, как говорят здесь, была линия, перевести их на тяжелый бетон, в легкий мало кто верил. Потом была линия делать опытные дома из ячеистого, потом боялись брать эти панели на стройки химии… Завод устоял и теперь пожинает плоды. Это заслуга (былая) инженеров, рабочих, экономистов завода, ученых, которые пришли к ним на помощь, партийных и советских работников области. Это заслуга первого директора Юрия Михайловича Чумакова, который заведует сейчас строительным отделом Луганского обкома партии. Сменились за это время многие директора, но что было при них, то не прошло без следа, а чему быть, то закладывается сегодня, и нужно помнить добро, иначе как отличишь его от зла. Мне нужно отметить в этой статье заслугу А. Дыкина, бывшего заместителя бывшего председателя бывшего совнархоза. Это он в самые трудные годы становления курировал наш завод. — Глубокоуважаемый Алексей Иванович! — обращаюсь я в связи с этим к товарищу Дыкину. — А вы ведь удивительно точно угадали путь луганского завода. Поддержали толковых людей. Знали, кому можно верить. Умели самое трудное: признавать чужую правоту. И на заводе о вас говорят хорошо, вот и мне не забыли сказать, приезжему журналисту. Вы уж уехали давно, а память о сделанном вами живет.
НАДО ПОМНИТЬ о родословной. Слишком многое зависит от людей. Соображения конъюнктурные и ведомственные никак не возведешь в ранг объективных причин. Они субъективны. Автор отдает себе отчет в том, что одно дело — «субъективное» слесаря, другое — «субъективное» директора, третье — «субъективное» министра. Но, как ни крути, а техническую политику заводов определяли в нашем случае люди. И вот одни из них при любом чине были рабами обстоятельств, другие — творцами обстоятельств. Одни берегли будущее, другим думать о будущем было недосуг. Одни были расчетливы в высоком, инженерном смысле этого слова, другие тоже были расчетливы — в самом низком, житейском смысле: умели вовремя поддакнуть, опасались вовремя возразить… Нельзя, чтобы различие меж ними стерлось. Равнодушие в оценках есть величайшая несправедливость. Вот еще один факт, последний — тоже для сравнения и размышления. В итоговой сводке 1968 года есть графа: «Выполнение плана по валу». В цифрах реально произведенного разница между десятью заводами огромна, в этой графе — ничтожна. Мало того. Ступинский завод, который сделал больше всех (270 тысяч кубометров), выполнил план на 102 процента. Ижевский, который сделал меньше всех (126 тысяч), выполнил план на 106 процентов. Похожи они, по выражению одного хорошего писателя, как колесо на уксус, а мы их привечаем одинаково. Глядишь еще, тот, кто меньше сделал, скорее доложит о выполнении обязательств, поскольку берутся они, как и план, «от достигнутого». Чего и чего не придет в голову, глядя на это! Обезличка — она только с виду нейтральна. Будто все перед нею равны, будто все безразличны ей: «Добру и злу внимая равнодушно…» На самом деле, в проигрыше от нее всегда порядочные люди, на самом деле, она ведет счет в пользу дурных решений, в пользу плохих работников, в пользу всяческой скверны на земле. У каждого человека должна быть уверенность, что добро, сделанное им, не будет забыто. И зло — тоже. Это не только им нужно, отдельным людям, это нужно нам всем вместе, обществу. Я еще помню споры о кибернетике — «наша» она наука или «не наша», о генетике — «советская» она или «не советская». Те споры, слава богу, отошли. Но вот о доме, обыкновенном жилом доме, я точно знаю, что он может быть «наш» и «не наш». Если стены похожи на грязный халат мясника, если ветер дует в щели, то он антисоветский, ибо «выступает» против того, за что борется Советская власть. И я хочу, чтобы на доме, в котором я живу, висела табличка с именами строителей. Если хорош мой дом, я буду благодарен им. А если плох, пусть будет им стыдно и через десять, и через двадцать лет. Плохая работа — это не просто плохая работа. Разговор идет о нравственном облике поколения. Беспамятство — само по себе зло и любезно злу. Память о былых заслугах людей — сама по себе добро и служит добру.
Стержень
— ПОМОГИТЕ нам сдвинуть вопрос с мертвой точки зрения. Так говорил мне один из луганских сбытовиков; вопрос был частный, хотя для завода важный, но выражение запомнилось. А попал я к сбытовикам не случайно. Три года назад, одним из первых в отрасли и в области, этот завод перешел на новую систему хозяйствования. Тогда и появился отдел сбыта, а прежде не было. Значит, рассудил я, мало теперь произвести плиты и панели, а надобно их сбыть, и это, видно, не простое дело. Я пришел в отдел и увидел толкачей. Да-да, тех самых, «дореформенных», сто раз в фельетонах осмеянных. Они прибыли сюда из многих городов, они шумели, толклись, просили за ради бога сбыть им эти самые панели и плиты. «Артиста» я приметил сразу. (Этот анекдот не совсем в духе моего рассказа, но чем-то поучителен.) Он был первым у стола начальника отдела, сидел вольнее других, закинул ногу на ногу, и был на нем пиджак с разрезами. Меня кольнул глазами — дескать, не лезь без очереди, — а сам продолжал выпрашивать что-то для какого-то химстроя, и я не стал мешать, а вечером, идя с завода, встретил его на троллейбусной остановке. Все же он не выглядел заурядным снабженцем. — Ну как, добились? — спросил я. — Пока нет, — сказал он. — Но договор есть, наряды есть, куда им деться?.. А вы сами откуда будете? — Из Москвы, — сказал я. — Тоже выбиваете? Я кивнул; в конце концов и я «выбивал» — материал для своих статей. — А я с Киева, — сказал он. — Это так… по совместительству. Я администратор филармонии, вожу концертную бригаду. Ансамбль «Мрия»… Ну, повсюду заводы, стройки, время у меня есть, заключил договор с трестом. — Командировочные берете? — Боюсь, — сказал он. — С этим у нас строго. Но платят прилично. Заодно билеты распространяю на концерты… Для поощрения передовых рабочих. И еще он спросил у меня: — А что оно такое, за чем я приехал? Конец квартала, последний день календаря. Главный бухгалтер завода А. К. Сабельников с утра в отделении Госбанка. Волнуется: не хватает для плана 50 тысяч. То есть продукция эта есть, выпущена и даже продана давно, да только оплачена не вся. И выходит, плана реализации нет. До скольких работаете? — спрашивает главбух. В банке говорят: до полтретьего. Он через дорогу, на почту: когда понесете? В три. Скандал! А документы уже разложены, вот и счета заводу, как раз 55 тысяч. Дайте, я сам отнесу. Не положено. Ну отнесите, милые девушки, умоляю, сам пойду рядышком… Так передовой наш завод выполнил план. Теперь скажите, подумав, что тут действительно плохо. А то, уважаемые граждане, плохо, что возникают сами эти коллизии. То плохо, что все еще нужны толкачи, и покуда они будут нужны, они и будут ездить, и сам главбух будет превращаться в толкача, а по совместительству или без — это дело десятое. Жалуются сбытовики: чем они виноваты, что железная дорога срывает договор. Почему рабочий формовочного цеха должен отвечать за финансовое положение строек? Помогите сдвинуть вопрос с мертвой точки зрения. А я о другом думаю. Не то беда, что завод наводит порядок в расчетах — дело это важное, — а то беда, что препятствия, забирающие силы людей, пусты, недостойны. Ну что изменилось от дежурства бухгалтера? Больше выпущено? Реализовано? Отправлено? Оплачено, наконец? Да нет, одна видимость. Нуль. Как у Гоголя в «Носе» — пустое, гладкое место. И вот люди, множество людей (сбытовиков на заводе вдвое больше, чем конструкторов) бьются над тем, что по-правильному должно бы делаться само собой. Правы они: новый, нежданно возникший вопрос надо решать. Но как? Все та же у них мрия — мечта о чьем-то всесильном распоряжении. Пусть им считают план, как раньше, по произведенному, в крайнем случае по отгруженному, а финансовые расчеты — это пусть где-нибудь «наверху». Выход видят в возвращении назад. А он — в движении вперед.ИСТИННО передовой завод — вышка, с которой далеко видно. Он приносит пользу ближнюю, измеряемую тоннами, кубометрами, рублями. И дальнюю, которую измерить трудно, — он указывает путь всем. Идя впереди, он первым сталкивается с проблемами, которые для остальных еще неведомы, невнятны… Я не мог объехать все предприятия газобетона. Но, скажем, в Ленинграде, на Автовском, побывал. Я увидел крупный домостроительный комбинат, который не только производит детали, но строит из них дома, и строит, надо сказать, хорошо. Весь наш завод для комбината — цех, притом не главный. Но все же цех этот равен заводу. И вот, вообразите, стоят десять гигантских автоклавов, они такие же точно, как в Луганске, а загружены едва ли наполовину. На нашем заводе вагонетки давно уже подают цепной передачей — там все еще скрипят тросы. У нас в самые последние дни взялись повышать борта форм (до 320 мм), что сулит новый рывок производительности, — в Автове и этого нет. Почему? А комбинату больше не нужно. И все, и точка. А Луганску нужно! Облицовочной стеклоплитки и вовсе не было в плане. Но наши передовики ездили по институтам, по заводам, искали машины, печи и освоили новую технологию, и метод этот — прокатки, а не штамповки, — применили в заводских условиях первыми в стране. Стеклоплитка принесла им около 400 тысяч рублей в год, всего 6 процентов обшей прибыли. Но эти деньги нужны заводу. Как говорит Г. Вилинов, заместитель директора по экономике, они тоже на земле не валяются. Сработала система. Новая система планирования и экономического стимулирования. Заводу дан долговременный норматив отчислений от прибыли — на всю пятилетку. (К чести его хозяина, Минтяжстроя УССР, норматив пока действительно прочен). Те заводы боятся сорвать порученное — этот стремится сделать как можно больше. У них стимул сзади — у него впереди. То есть их он подталкивает — его тянет вперед. И это далеко не одно и то же Все хорошо, но я выпишу сейчас ряд цифр, и вы увидите еще одну нежданную проблему. Вот как выглядит в Луганске прирост реализации (по сравнению с предыдущим годом): 1965 год — 8,1 процента, 1966 — 12,1, 1967 — 8,5, 1968 — 11,1. А на 1969 год они запланировали всего 3 процента… Почему? Потому что есть пределы количественного роста. Ясно же, что наращивать «проценты» (и получать за это премии) нашему заводу тяжелее, чем заводу-близнецу, который вдвое меньше дает продукции. — Сами виноваты! — сказал мне один луганский товарищ, выразив мнение достаточно распространенное. — Их, понимаешь, бьет эта жадность до премии. Ну, получат они ее под завязку, а дальше? Как им дальше жить? Выходит, зря старались передовики. Выходит, рост свой им надо было растянуть на долгие годы. Выходит, куда умней поступили «не жадные», которые попридержали резервы… Но что тут можно сделать? Недавно головной институт НИИЖБ Госстроя СССР изучил состояние дел на этих предприятиях, вот выводы ученых:
«…Большинство заводов ячеистого бетона не загружено полностью. Объясняется это не столько производственными, технологическими причинами, сколько конъюнктурными, ведомственными соображениями. Заводы рассредоточены между различными министерствами и их территориальными управлениями, и каждый завод получает задание только в соответствии с интересами (потребностями) своей вышестоящей организации. А эта потребность во многих случаях ниже мощности завода. Необходимо заставить организации, владеющие заводами, загрузить их в соответствии с имеющимися (в проекте и фактически) мощностями. А у тех организаций, которые не в состоянии полностью использовать заводы, отобрать их и передать Министерству промышленности строительных материалов СССР».Предложение это сразу понравилось мне. В нем была чарующая определенность, была решимость: велик тебе завод — отдай другому! Но потом я как-то нечаянно вспомнил, что два завода из десяти уже принадлежат этому министерству, и они не самые лучшие. И тогда мне почудилось, что и в этом подходе есть черты старого мышления. Того самого, когда думали мы, что стоит только «переподчинить» завод или главк, и тотчас все изменится. Разве дело в том, что данному ведомству хватает продукции? Разве только в этом! Будто им деть некуда лишние панели. А сельские стройки, а жилье, а легкая индустрия? О каких «излишках» может идти речь, когда прирост в этой отрасли едва ли не на последнем месте. Возьмите последнюю сводку ЦСУ: электроэнергия — 11 процентов, нефть и химия — 10,5, машиностроение — 12, а стройматериалы — всего 2 процента, ниже лесной промышленности, то есть уж дальше некуда. Конечно, можно и отобрать завод у нерадивого министра. Но все надежды возлагать на это — пустое. Точка зрения, что сегодня, на четвертом году экономической реформы, можно хоть что-то всерьез решить с помощью одного, пардон, голого администрирования, — она ведь и впрямь мертва.
МНОГОЕ уже рассказано, еще больше осталось в блокнотах, а стержня, я чувствую, нет. Нет его в этом моем письме, как нет и в тех попытках решить проблему, о которых я успел написать. Факты рассыпаются. Слишком многое должно было сойтись, чтобы луганский завод стал таким, каким он стал. Тут и «былые заслуги», и тяга к новаторству, и дисциплина, порядок, и определенный уровень руководства. Поневоле начинает казаться, что успех и неуспех — дело случая. Вот я не писал об этом: в Луганске у большинства рабочих и отцы были рабочими, и деды. Это ведь Донбасс, завод вырос на почве его традиций — трудовых, революционных, нравственных. И хотя другие заводы тоже строились не в деревне, я отдаю себе отчет в том, что, скажем, в Павлодаре или Набережных Челнах сложить коллектив было потрудней. Только легковерные публицисты полагают, что вчерашний колхозник или юнец, не попавший в вуз, вмиг становятся рабочим классом. Везло нашему заводу и на директоров: и первый был хорош, и нынешний, В. Михайловский — знающий инженер: год назад он участвовал в конгрессе бетонщиков в Англии. А одним из «близнецов» руководит товарищ, который окончил техникум по лубяным культурам. Прежде чем взять под свою руку бетон, он командовал пенькотрестом… Впрочем, где причина, а где следствие, не сразу и разберешь. Я думаю, в Луганске такой деятель не попал бы в директорское кресло, а если и попал, не усидел бы долго. А на предприятии слабом — ничего, «тянет». И все это надо учесть, все обязательно взвесить, и я не хочу простоты, и все-таки стержень есть — это система в работе. Если в первом письме я говорил преимущественно о личных заслугах людей, об их деловитости, активности, преданности, то теперь главное внимание мы должны уделить самой системе хозяйствования. Опыт луганского завода показывает, что экономическая реформа, если не ставить ей палки в колеса, если следовать честно решениям партии, отлично делает свое дело. Она работает уже на этом своем этапе. И надо двигаться дальше, развивать ее не только вширь, но и вглубь, думать о втором ее шаге. С этих позиций мы и вернемся к нашим проблемам. Откуда берется толкач? Его порождает нереальное планирование, его гонит министерский просчет. И заменить его могут только экономические рычаги — санкции за срыв договоров, выплата неустоек и прочее. Мне скажут: есть санкции, да действуют слабо. Правильно. Они тогда обретут силу, когда отвечать за ошибку будет тот, кто ее совершил. Речь идет о повышении ответственности работников ведомств. Чтобы они отвечали карманом за реальность планирования, за стыковку планов. Пойдем дальше: многие предприятия не загружены, а «со стороны» заказов не берут. Что тут поможет? Прежде всего перевод всех заводов на новую систему. Но мало этого, важен следующий шаг — включение в реформу производственных объединений, главков, министерств. Чтобы «лишние» автоклавы и у них висели на шее, чтобы «лишние» кубометры им стали нужны. Как жить дальше? — эта нас занимала проблема. Что ж, норматив у луганского завода долговременный, но не вечный. И это хорошо, что не вечный. Экстенсивный рост имеет пределы, в какой-то момент увеличение объемов производства (на тех же площадях) становится невозможным. Но ту же продукцию завод может выпускать дешевле, лучшего качества, меньшим количеством рабочих рук. Интенсивный рост беспределен, и, стало быть, норматив на следующий обозримый плановый период придется строить так, чтобы направить поиски коллектива именно в эту сторону. Выход во всех случаях — в движении вперед. Не только и даже не столько в организационных мерах, сколько в экономических. Успехи луганского завода, конечно, не бесплатны. В первый же год работы по-новому отчисления в поощрительные фонды возросли в четыре раза. Только на премии потрачено было 270 тысяч рублей. Сразу же, чтобы утешить примитивных меркантилистов, добавлю, что расход зарплаты на один рубль реализованной продукции снизился в то же время на 3,5 процента. И завод, который за год давал казне 1,7 миллиона рублей, в первый же год после перехода на новые рельсы отчислил в государственный бюджет 2,7 миллиона. Тут уместно будет еще раз — опять же для сравнения и размышления — заглянуть в сводную таблицу десяти заводов. Вы помните: наш работает намного лучше других. Как говорил А. С. Макаренко, наш — найкращий. А вот как выглядит среднемесячный заработок (включая премии): Луганск — 124 рубля, Ижевск — 122, Новосибирск — 121, Темиртау — 127… Так обстоят дела. Стало быть, разговоры о «жадности до премий» основаны на очень старых предрассудках и на очень слабом знании предмета. Скажу прямее: разговоры эти обывательские.
ЗАБОТА у нас такая, забота у нас большая: каждый нормальный человек думает о благе страны. Хочет, чтоб она была богаче, болеет ее бедами, а случись что, встанет на защиту ее. Может, не всякий день мы говорим об этом, но это так. Проверено. И каждый человек думает о своем благе, о своих близких, чтобы они жили лучше, — это тоже норма. Но далеко не всегда и не везде умеем мы высокую заботу — о Родине и малую — «о себе любимом» связать с заботой о заводе, о колхозе, о стройке. В Луганске сумели найти эту «золотую середину», и если говорить об этической основе успехов завода, то она именно здесь. Речь идет не только о сочетании моральных и материальных стимулов, это разумеется само собой; стена, которой иные хотят их разделить, — китайская. Речь идет о сочетании стимулов личных и коллективных. Не «я» больше сделаю — я больше получу, а «мы» больше сделаем — мы все больше получим. Различие принципиальное. Проще и яснее всех выразили эту мысль два пожилых автоклавщика: Василий Алексеевич Раков и Федор Андреевич Дукин. Говорили мы о жилье. Когда завод построил первый дом, сказали они, то распределяли, грех жаловаться, гласно. Теперь второй затеяли на 129 квартир, совсем будет хорошо. Вот только место предлагают со сносом и магазины в первый этаж — не надо бы давать согласие. И тут я услышал нижеследующие замечательные слова: — Мы свои деньги убьем, а квартир не получим. Своими они назвали казенные деньги. Зарплата выросла, по сравнению с другими заводами, несильно: за три года — на 14,3 процента. Но общественные фонды увеличились существенно. Прежде всего на свои деньги они могут развивать производство, внедрять новшества — работа стала интереснее, люди узнали себе настоящую цену. На свои деньги они строят жилье: первый дом (я проверял) наполовину исчерпал список очередников, второй вовсе закроет список. На свои деньги они строят большой детский сад (к сожалению, долго строят), оборудовали медпункт, зубоврачебный кабинет, питание ночной смены сделали в столовой бесплатным, завели турбазу на Северном Донце, хотят строить спортзал… Вы понимаете, по законам нашей жизни все и так должно делаться — и детсад, и жилье, и турбазы. Но тут все блага привязаны к итогам труда каждого в отдельности и всех вместе.
* * *
И, ах, как было бы прекрасно, кабы повсюду так! Вот мысль, неизбежно приходящая на передовом заводе. Но я умеряю свои порывы, я не хочу взбираться на самый верх высоких стремлений, потому что успел понять: быстро это не сделается. И если мы хотим, чтобы такой завод не остался всего лишь отклонением от среднего, флюктуацией, как говорят ученые, то надо и дальше совершенствовать систему хозяйствования. Потому что успехов его, как ни заметны они, нам мало. Потому что в конечном счете все решит повышение среднего уровня. Передовик, если он честно заслужил свое место, если не пользовался особыми условиями, если работал, как все, а достиг бо́льшего, то самим фактом своего существования он делает невозможной, обидной, если хотите, безнравственной иную работу. Что ни говорите, а мы с вами убедились: можно! Можно так работать, доказано уже, что можно, зачем же хуже? Можно, и все тут.1969 год.

Техника без опасности
ЛУЧШИЙ и пока единственный способ продлить жизнь — это не укорачивать ее. Моя тема: техника безопасности. Шире: проблема охраны труда. Мы рассмотрим ее на примере сельского хозяйства. Почему? Труд крестьянина — самый здоровый труд; лучше всех знают об этом горожане. Но вот цифра: в 1968 году уровень травматизма в деревне был у нас в 1,3 раза выше, чем в среднем по народному хозяйству страны.
Оборотная сторона прогресса: нынешний пахарь не слышит пения птиц. Ни один трактор не снабжен глушителем, шум в кабине чрезмерен, на тракторе Т-40 он находится, по вежливому определению врачей, «у порога болевых ощущений». Выше допустимой нормы и температура, загазованность, тряска. Мощь техники колоссально возросла, и, стало быть, охрана труда отстала.
Мы сидели недавно с Борисом Павловичем Кашубой, главным конструктором Харьковского тракторного, и считали, что́ нужно, чтобы выполнить все требования врачей. Сколько потребуется «лишнего» металла? Глушитель — 10 килограммов, охладитель — 30, подрессоренное сиденье — 30 и так далее, и получилось, что вес пахотного трактора (сейчас более 6 тонн) пришлось бы увеличить всего на 3 процента. Почему же не делают этого? Бог мой, как просто: без двигателя его не пустишь, без колес или гусениц тоже как-то неловко, а без удобного сиденья авось обойдутся. И обходятся, вот причина в самом коротком и, значит, неглубоком изложении.
Но простоты в этой теме не выйдет. Легче всего требовать: дай то, дай это, вынь да положь! Во имя гуманизма. Так ведь все во имя гуманизма — и надежность, и мощность, и количество тракторов; они, между прочим, нас кормят. Может быть, сегодня важнее облегчить бо́льшую часть работ: очистка ферм крупного рогатого скота механизирована пока на 21 процент, раздача кормов — на 8 процентов. Может быть, важней задача экономии: дешевая техника — это дешевый хлеб, а он дешевле у нас, чем в других странах, и надо это сохранить. Конечно, не так уж дорого обойдется глушитель или охладитель для одного трактора, да ведь их миллионы в стране, и значит, строй специализированные цехи, и тут уже не килограммы нужны, а тысячи тонн, и есть на то расчет, есть план, есть очередность… По всему видно, придется нам глубже вникать в проблему.
ОТЧАСТИ она странна: спора, в сущности, нет. Когда тот же Кашуба сделал первую свою кабину, простую, но уже спасавшую тракториста от дождя и ветра, он получил за это взбучку от начальства: «Будуар затеял! Ты еще занавесочки повесь!» Сегодня такого не услышишь. Найдите, укажите мне человека, который заявил бы открыто, что миллиардные, растущие затраты государства на охрану труда (за десять лет они увеличились вдвое) не нужны. Вы не найдете таких. Все согласны, все признают, все — за. Трудно спорить, когда заранее все на твоей стороне. Начну с обычного. Приходит на завод, на тот же тракторный, молодой специалист. Спрашивают, где он хотел бы работать. Отвечает: «В бюро гидравлики». Или: «По трансмиссиям». Или: «В группе двигателя». А как насчет техники безопасности? «Что! За что?» Юноши рвутся на передний край: сперва труд, потом охрана труда, сперва техника, потом безопасность; всегда в этом было что-то вторичное. Смельчаки лезли в горы — осторожные снабдили их веревкой. Смельчаки добивались скорости — осторожные думали о тормозах. Смельчаки придумали чудо электросварки — осторожные дали им защитные очки. Смельчаки изобрели подъемный кран — осторожные прибили табличку: «Не стой под стрелой». Но ведь это нужно! А кто же спорит? Обязательноскучная, слитно произносимая эта самая «техникабезопасность» давно уже ни в ком не вызывает возражений. Сама бесспорность проблемы сделала ее уязвимой: так бывает, увы. Все «за», отстаивать нечего, и если честно, если исключить до поры энтузиастов, то идут сюда специалисты не самые сильные и не самые смелые. — Мы, конечно, сидим в центре внимания, — сказал мне один такой инженер. — Но нас обходят по сторонам. В ЦК профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок узнал я такую историю. В Львовской области при перевозке сена в одном из колхозов произошло три несчастных случая. В один сезон, в одной бригаде, на одном и том же поле. И хотя последний из них окончился трагически, районный прокурор А. Отришко (надо думать, он тоже «за») в возбуждении уголовного дела отказал. В той же области управляющий отделением «Сельхозтехники» П. Галат взял вдруг да отменил на два месяца все выходные. Рабочие пожаловались в профсоюз, приехал инспектор и нарушителя оштрафовал. А после этот штраф (50 рублей) нарсуд отменил. И снова лежит передо мною ответ прокурора, заместителя областного прокурора Е. Старикова, который в принципе тоже «за», а в частности пишет, что это было, мол, не нарушение трудового законодательства, а трудовой почин. Делая нечто, чего бы надо стыдиться, некоторые твердят, что это их долг. Что-нибудь в этом роде скажет теперь и прокурор. Скажет, что радел о благе общества. Между тем не выходит в таких случаях блага. Из-за штурмовщины, из-за травматизма, из-за того, что без законного отдыха люди попросту наработают меньше. Будь это не так, нашлись бы охотники и вовсе отменить все выходные по всей стране. Эка прибавилось бы рабочих дней! Очень это важный момент, и я не хочу объяснять странную податливость юристов (как и робость иных профсоюзных работников или уступчивость иных санитарных врачей) одною беспринципностью. Напротив, тут принцип особого рода. Заботу о человеке они, конечно, признают — как девиз, как лозунг. Однако, по их убеждению, охрана труда мешает росту производительности труда. А коли это так, то можно «проявить понимание», можно ради главного и отступить. На самом же деле охрана труда всегда помогает росту производительной силы труда. Разумеется, бывают ситуации, когда люди не считаются со временем. Скажем, стихийное бедствие, или война, или подлинный почин — это часы (и дни, и месяцы) высокого душевного подъема, который помогает забыть усталость. Вдобавок человеку свойственно принимать существующую технику как данность: этот трактор — такой, и я буду работать на нем, покуда сила есть. Люди у нас замечательные, они не берегут себя, и тем больше оснований их поберечь. Мы толкуем пока о морально-правовой стороне проблемы, и тут, скажу я вам, происходит сейчас важный поворот. Одно то, что работники ЦК профсоюза занялись расследованием «львовской истории» и сочли нужным обнародовать ее (для чего и сообщили журналисту), о многом говорит. Совсем не случайно приняты у нас в последнее время Закон о земле, Законы об охране природы (республиканские), Основы законодательства о здравоохранении. Сегодня мы обращаемся к истокам, к ленинским первым декретам, вопрос выходит за пределы кабинетных обсуживаний, становится темой всенародных обсуждений — вот ясная, подчеркнуто ясная линия партии.
МОЖНО ЛИ обеспечить безопасность? — перейдем к технической стороне проблемы. На одном из совещаний опытный тракторостроитель, заместитель министра Н. Н. Тарасов просил: «Хотелось бы, чтобы, подгоняя нас, критики учитывали наши возможности». Что ж, это резонно. Будем доброжелательны и учтивы. Учтем возможности. Искусственный климат — вот идея, которая применительно к чумазому трактору казалась самой фантастической, дикой. Рад доложить вам, что харьковский могучий Т-150 уже прошел испытания в климатической камере: его закатили туда, включили двигатель, снаружи — жара, внутри — норма. Еще раньше применили охладитель (вентилятор, бак с водой и простой радиатор) волгоградцы, ташкентцы. Уж объявлено, что новый трактор «Ташкент» будет выпускаться с охладителем. А на волгоградском опытном ДТ-75С я и сам ездил летом: в кабине было прохладно, окон мы не открывали, и, значит, шум был меньше и песок не скрипел на зубах. Наконец, есть, испытан и даже получил медаль на ВДНХ кондиционер локального типа: свежий воздух он подает в зону дыхания тракториста. Я нарочно начал с задачи наиболее сложной, прочие казались мне проще: глушитель есть на любом автомобиле, нет особой хитрости и в каркасной кабине, которая спасает человека при опрокидывании трактора. Такие кабины давно делает Кулдигское отделение «Сельхозтехники» в Латвии (цена им 95 рублей, колхозы берут нарасхват), делают их и в Белоруссии, а в Ставропольском крае совхозные мастера взялись ставить под сиденье отработанные клапанные пружины. Значит, можно? — Трудно, — сказал мне главный конструктор Минского тракторного Петр Иванович Бойков. — Понимаю… — возразил я с некоторой даже долей сарказма. — Освоить мощный двигатель или сложнейшую систему гидравлики, конечно, проще для вас, чем какое-нибудь сиденье. — Сегодня проще, — сказал он. И повел меня из кабинета в экспериментальный цех, и показал мне гордость конструкторов — уникальные, годами собиравшиеся стенды. — Если нужно обеспечить надежность, — сказал Бойков, — то все для этого есть — методики, формулы, установки. Любой узел я поставлю на испытания и дам гарантию: пять тысяч часов. Четыре года жизни трактора! А по шуму, по вибрациям — темный лес. Ни формул, ни стендов. Вопросами охрана труда заняты в системе ВЦСПС, в отраслях нашей индустрии 450 научных учреждений; в угольной промышленности, где работает 1,8 миллиона человек, есть два традиционно сильных института. А в сельском хозяйстве, где работников 30 миллионов, такого института нет. Делом этим заняты в разных городах страны пять десятков человек; в сущности, я почти всех знаю. Ну, говорил мне Владимир Николаевич Козлов из Саратова, что пробивает для своей лаборатории две штатные единицы: будет, значит, на двоих больше. Надо видеть благие перемены: по сравнению с тем, что было, тракторостроители делают сегодня многое. Строже стали профсоюзы, настойчивей заказчики, есть обязательные для заводов «Единые требования» по технике безопасности. И как только взялись они по-настоящему за дело, тотчас и выяснилось отставание науки. Но вот странность: даже то, что сделано, внедряется туго. В Минске с этого года пустили в серию торсионное сиденье, первая серия — 25 тысяч штук. А знаете, когда готов был первый экземпляр? В 1962 году… Да что сиденье — это все-таки агрегат, — простой термос не могут осилить. Десять лет говорили о нем врачи, пять лет создавалась сверхсложная конструкция, до сих пор термоса нет. Вывод: решить эти задачи можно, факт. Если мы смогли обеспечить «охрану труда» на сверхзвуковых самолетах, в атомных подводных лодках, в космических кораблях, в открытом космосе, то уж на обыкновенном земном тракторе — тут уж, как говорится, извините. — Ладно, — сказал Бойков. — Давайте начистоту. Допустим, мы прибавили скорость, мощность, долговечность. Тут легко выявить экономический эффект, и заводу за это платят. А если я снижу запыленность на 27 процентов, какой будет эффект? То-то и оно. Все во мне противится денежному расчету, когда речь идет о здоровье людей, но, что поделать, возьмем счеты. Мы с вами подошли к экономической стороне проблемы.
ТОЛЬКО уговор: считать, так уж все считать. Потери от травматизма составляют в год до 3,5 миллиона рабочих дней, выплаты по больничным листам — свыше 19 миллионов рублей. Это данные по совхозам; в колхозах травматизм не учитывается и статистики нет. Хотя по новому уставу выплаты эти даны отныне и колхозникам. Надо учесть и тот ущерб, который считать мы не научились, — ущерб от недоработки. Ну, грубо говоря, в самую горячую пору (больше всего происшествий в страду) хозяйство лишается и работника и машины, ибо каждая авария — это еще и поломка, ремонт, простой. Государство наше никого не может бросить в беде, добавьте, стало быть, расходы на бесплатное лечение, добавьте пенсии по инвалидности, пенсии сиротам, вдовам; если инспектор профсоюза даст заключение о «прямой вине» предприятия, то оно выплачивает разницу между пенсией и средней зарплатой… Говорить об этом тягостно, но кто-то должен и эти деньги считать. Вы понимаете, затраты на охрану труда — они видны, они «висят» на заводах, главках, министерствах, а эти горькие затраты — они как бы из другого кармана, они заботят органы социального обеспечения, соцстрах, профсоюз. Но ведь это те же народные деньги, в конечном счете карман-то у нас один! Я был в последнее время на двух совещаниях по технике безопасности; хорошие люди уговаривали друг друга, что она рентабельна, говорили: «интуитивно мы ощущаем», говорили: «это же очевидно», а цифр привести не могли. Недавно утверждена Госпланом новая методика определения эффективности капиталовложений: в ней даже слова нет об охране труда. Вместо расчетов — эмоции, вместо резонов — восклицания, поспорили — будто и дело сделали, а люди, которые планируют ассигнования, они не публицисты. Им цифры нужны. Будем говорить прямо, сейчас тракторостроители должны добиваться экономии. И вот уже снова (обобщать не стану) иные инженеры нарушают подчас отдельные требования отдельных врачей. Но ведь такая бережливость — за счет работника, за счет человека — она хуже воровства. Считать, так считать: ежегодно у нас сменяется 25―30 процентов механизаторов. Я не могу доказать, что это впрямую связано с условиями труда (как не могу доказать, что, скажем, желудочные заболевания зависят от тряски или от того, что термоса нет). Но известно: трактористы, в отличие от шоферов, работают обычно до 40―45 лет, а после ищут себе другое дело. Значит, мы теряем мастера в самую золотую пору его зрелости, каждый год сажаем на трактор мальчишек, а в последнее время и девчонок, — кто учтет «накопленные издержки» на образование, кто учтет потери от неопытности? И не стоят ли на приколе те тракторы, которые сделаны из «сбереженного» металла? Экономическая наука дает на это точный ответ: неизвестно. Что неизвестно? Все неизвестно. Даже в первом приближении не могут оценить, насколько возрастет производительность труда от улучшения условий труда. А ведь она растет — и от снижения запыленности, и от уменьшения нагрузки на рычагах, и от лучшего обзора. В Минске, когда, как говорится, подперло, ухитрились все же сделать подсчет: после установки подрессоренного сиденья люди увеличили рабочую скорость трактора (того же самого) на 20―30 процентов. Проблема обрела сегодня особую остроту. Первый наш 15-сильный «Путиловец» пахал со скоростью лошади — 3―3,5 километра в час. В ту пору, при той нехватке тракторов, не только возможности не было улучшить условия труда, но и нужды особой не было: сидел тракторист на железной «выдавке», и ничего. После войны мы увеличили скорость до 6―9 километров в час, и стало трудней. Сейчас готовится новый скачок — до 9—15 километров в час. (Напомню: в авиации скорость была удвоена, когда на смену поршневому мотору пришел реактивный двигатель.) Грядет еще одна революция в сельском хозяйстве. Я видел новые, 150-сильные тракторы на Кубани, на полях института, который испытывает их. Видел и в колхозе имени В. И. Ленина, где создана единственная в стране скоростная бригада. Уже выросли трактористы второй формации, которые «старых» (то есть распространенных повсюду) скоростей вовсе не знали. Ушел, скажем, Алексей Андреевич Турлюнов с трактора на скоростной комбайн, а свой трактор передал Саше Турлюнову, сыну. «На скорости лучше!» — сказал Саша. — «Чем лучше?» — «Оглянешься, есть на что посмотреть». — «А на старых пробовал?» — «Черепаха!» — сказал он. В общем, можно считать, что машины выдержали экзамен — и по энергетике, и по агротехнике, и по расходам топлива, и по запасам прочности. Но тракторист-испытатель кубанского института Виктор Дмитриевич Горбов, который проверял один из вариантов Т-150, сказал, что поперек борозды он мог идти только на малом газу. Как дашь полные обороты, кидает аж под потолок, выйдешь после смены — все жилки трусятся. Но если машина может, а человек не может, то зачем это нужно?.. Вернувшись в Москву, я то же самое услышал от теоретика новых скоростей, академика ВАСХНИЛ Василия Николаевича Болтинского: скорость — не спорт, нас интересует эффективность агрегата, управляемого одним человеком; ежели он не может реализовать мощность, заложенную в машине, то дальнейшее увеличение скорости, которое стоит недешево, попросту лишается смысла. Так обстоит дело с экономической стороной проблемы.
ЧТОБЫ умно поступать, одного ума мало, заметил Ф. М. Достоевский (и эти его слова выписал в свой блокнот А. П. Чехов). Мало расчетов, даже самых убедительных. Ну, докажем мы, что вложение капитала в охрану труда выгодно. А если б оказалось невыгодно, что тогда?.. Хочу познакомить вас с людьми, которые независимо от веяний, мод и кампаний бьют в одну точку. Забота о человеке нужна потому, что она нужна человеку, — вот что знают они, и этого им предостаточно. Мечту их легко осмеять с позиций житейского расчета, но трудно подняться до их мечты. Я верю, что пришло время этих людей. Во всяком случае, я повсюду встречал их, заводы ищут знатоков, переманивают из автопрома, из авиационных КБ. И надо бы особо рассказать о ташкентском конструкторе A. А. Фролове, у которого десять авторских свидетельств; о В. Н. Кошмане, который сочинял и пробивал в Минске торсионное сиденье; о кандидате технических наук Е. Я. Улицком, который руководит лабораторией техники безопасности ВИМа; о кандидате медицинских наук B. Н. Козлове, который стал соавтором волгоградской кабины; о волгоградце О. А. Ширяеве, имя которого не без зависти назвали мне харьковчане: такого специалиста по технической эстетике у них пока нет. Чем-то они все друг на друга похожи, как это часто бывает, когда знатоков в какой-то отрасли мало, и собираются энтузиасты, и каждый из них лично известен. «Осторожные»? Что ж, смельчаки придумали самолет — осторожные начали прыгать с парашютом, смельчаки подошли к звуковому барьеру — осторожные изобрели катапульту; я писал о ней и знаю, что на земле первыми «выстреливались» инженеры и врачи. Нет, смелости, гражданского мужества тут нужно не меньше, чем на самом переднем крае прогресса. Не следует думать, что проблема эта возникла только в нашей стране. В США сельское хозяйство перегнало по смертельному травматизму даже горную промышленность; во Франции «коэффициент частоты» травм значительно выше, чем в СССР; во многих странах отмечается рост детского производственного травматизма, чего нет у нас. Но как-то меня не утешает то, что «у них еще хуже». Потому что у нас и должно быть лучше, потому что в области охраны труда именно мы должны указывать путь, потому что где-где, а уж в развитии техники безопасности мы обязаны быть впереди. В сущности, рассказ мой окончен. Конечно, хороший трактор — это еще не все. Попади он в дурные, пьяные руки, все равно превратится в смертоносный снаряд. Мы не говорили о профессиональном отборе трактористов, о системе их обучения, об организации труда (даже в самой удобной кабине нельзя сидеть 12―14 часов подряд, нужна двухсменная работа), мы не говорили о тракторах, предназначенных для женщин, для девушек, которым быть матерями. Но всего не скажешь в одной статье, да и лучше, я полагаю, ясно очертить вопрос, нежели давать неясные ответы. Но вот о чем надо сказать под конец. Вновь мы подтвердили сегодня старую истину: то, что противоречит идее социализма, то, что идет вразрез с заявленной открыто линией партии, — то и практически вредно. Какие бы ни возникали «временные» обстоятельства, какие бы ни приводились «реальные» соображения. «Человек дороже машины» — это в наших условиях не просто лозунг. Действительно дороже — и в философском смысле, и в нравственном, и в социальном, техническом, политическом. И в самом простом, денежном — тоже. 1970 год.

Успех
ПРОСТО ему везло. Он и сам не отрицает: везло. Улыбается: в науке без этого трудно. А чтобы внедрить научное открытие в практику, тут уж везение просто необходимо.
Садыков удачлив, потому я и пришел к нему. Такая была назначена в редакции тема: взять интервью у ученого, который многое сделал для производства. Я знал, что экономический эффект от предложений Садыкова и егоучеников уже превысил 50 миллионов рублей.
И вот мы сидим с ним, пьем узбекский чай, беседуем. Интервью несколько затянулось, первый раз мы встретились еще полгода назад, летом. Но тут одного разговора мало. Собеседник он подвижный, веселый, острый, к чужой мысли чуткий, к расспросам терпеливый. А мне надо понять.
— Абид Садыкович, значит, все-таки случай… Ну, скажем, если взять историю с итаконовой кислотой.
— Конечно, — говорит он. — Даже не один случай, а несколько. Цепочка счастливых случаев.
История такая (мне легче начать с примера). Лет двенадцать назад стране потребовалась эта самая кислота. Нам совершенно не обязательно знать, что она представляет собой. Важно, что тогда она нужна была для производства искусственной шерсти. И что ее не было у нас. Англичане предлагали лицензию, но запросили больше миллиона золотом. Об этом случайно узнал Садыков (в «Союзглавреактив» он приезжал за другим) и рискнул взять проблему, и ему повезло: в почвах Узбекистана был открыт новый штамм Asperqillus terreus — продуцент итаконовой кислоты. И это было полдела. «Меньше, чем полдела, — уточняет Садыков. — Вы, пожалуйста, обязательно напишите: тут главная заслуга завода». Опять повезло теоретикам: на другом конце страны, в Латвии, нашлись великолепные практики, которые захотели и сумели пройти путь от пробирок до заводских цистерн. Авторское свидетельство они получили общее — узбеки и латыши. Лицензия не понадобилась.
— Абид Садыкович, но если случай, то почему вы сразу сказали в главке, что сделаете?
— Я сказал, что попробую.
— А это почему сказали?
— То есть была ли четкая надежда на успех? Нет. Скорей, интуиция. Конечно, вкус пищи узнают, когда она во рту. Но ученый без фантазии — не ученый. В лучшем случае честный исполнитель… Что у нас было? Был социальный заказ общества науке. Был научный задел: знали, что искать, где искать, как искать. И были люди — химики, микологи, микробиологи. Мы ведь взяли пять тысяч образцов, мы три года вели исследования.
— Н-да… — сказал я. — Теперь убедили: конечно, вам просто повезло.
Садыков смеется.
— И все-таки есть какие-то законы везения. Что нужно, чтоб везло? Я всерьез спрашиваю. Кто ищет, тот найдет — мораль известная. Без труда не вынешь рыбку из пруда — тоже. Мне этого мало. Почему вам везло?
— Долго придется вспоминать… — сказал Садыков. — Если с самого начала.
В УНИВЕРСИТЕТ он пришел в 1932 году. Был сыном сельского сапожника, сам был сапожник, но до второго курса ходил босиком. Галстук справил к четвертому курсу, когда собрался в Москву. Тогда и сел впервые в поезд. Но это еще не «самое начало». Для того чтобы Садыков мог поступить в университет, нужен был, как минимум, этот университет. Он появился в Ташкенте в 1920 году. — Вы слышали об эшелоне? — спросил Садыков. — О нем много писали, и о том, что посылал его Ленин, и студентам мы говорим, они слушают, молчат, принимают как должное. Как сберечь удивление?.. Двадцатый год, война, разруха, а из Москвы в Ташкент отправляется поезд. В нем 86 профессоров и преподавателей, с ними книги, 20 тысяч книг, они 56 суток едут по неспокойной стране. Зачем? Я иногда спрашиваю у нынешних молодых. За деньгами? За покоем? За славой? Вот профессор Сергей Николаевич Наумов, его я хорошо помню. Ученик Зелинского, был он талантливый химик, а в науке не преуспел. Ему не могло «повезти»: в лучшие свои годы он остался без лаборатории, все ему пришлось создавать заново. Между прочим, реактивы, которые он привез в 1920 году, сохранились, ибо расходуются помалу. И мы ими пользуемся до сего дня. Наш химфак носит имя профессора Наумова — вот его след в науке. Он не просто первый декан, он основатель химического образования в Средней Азии. Хотите понять, что это значит? Я пришел в университет на двенадцатом году его существования. И попал в первую группу студентов-узбеков. До этого группу не могли собрать, учились единицы. А нас было уже 33 человека. То есть надо было сперва подготовить школьных учителей (моим первым учителем химии был студент Дубовицкий), но мало этого, мы должны были пройти рабфак, пройти «нулевую группу», но и этого оказалось мало: год нам читали высшую математику, а на втором курсе пришлось вернуться к школьной алгебре. И все-таки из тридцати трех нас окончило восемь. Вы это, пожалуйста, напишите с красной строки: на ниве культуры нельзя сегодня принять постановление, а завтра доложить о выполнении. Увы! Профессор Наумов читал нам курс органической химии. Читал, как я теперь понимаю, в классическом духе, доступно… Знаете, мне было легче, чем другим деревенским парням. Все-таки мой отец был сапожник. Все-таки мы жили у самого города; сейчас на земле нашего колхоза «Саноат» стоят новые здания университета. Все-таки отец не был неграмотным, а был полуграмотным. И я действительно хотел учиться, но на лекциях половины не мог понять. Просто я плохо понимал по-русски. И вот профессор ввел порядок: вместе с нами его слушали преподаватели, а на семинарах все нам разжевывали. Тоже был подвиг: специально они выучили узбекский язык. С нашей группой занимался Георгий Васильевич Лазурьевский. И я помню, как приходил к нему сам Наумов и о каждом из нас — это вы, если можно, подчеркните двойной чертой — о каждом выспрашивал. Потом на практику я попал к академику Александру Павловичу Орехову. Сам ему написал в Москву: хочу, мол, исследовать алкалоиды, он разрешил приехать и я попал в лабораторию не то чтобы столичного, но мирового уровня. И были у меня замечательные шефы, две женщины — доктор химических наук Раиса Абрамовна Коновалова и Нина Федоровна Проскурнина. А когда Орехов собрался в отпуск, он на два месяца поселил меня в своей квартире. Первый раз я увидел: стена книг в доме! У него я Пушкина начал читать, Чехова… В образовании мы навсегда кустари. Я сам впоследствии 25 лет читал университетский курс и понял: сколько бы ни было студентов, видеть надо каждого. Набрать молодых людей при нынешних конкурсах — не проблема. А вот довести их до диплома, причем честно, без скидок, — проблема. Но учителям нашим было в сто раз труднее, а они требований не снижали. Потому что фундамент знаний должен быть из гранита. Если он из необожженного кирпича, ничего на нем не выстроишь. Разве что карьеру… Запишем такую мысль: взяв дело не по способностям, заняв не свое место, трудно, а может быть, и невозможно быть честным человеком вообще. — Записали? — спросил Садыков; порой в нем сказывался опытный лектор. — Будем теперь заключать. Обычно химическую промышленность «привязывают» к источникам сырья. Диктует география природных богатств. Но есть заводы, для которых не это главное, а квалификация, культура людей. Их «привязывают» к кадрам. Так вот, в следующей пятилетке одно из предприятий такого класса, завод чистых химических веществ, намечено строить в Узбекистане. Ясно? Наша республика стала страной развитого химического образования. Вы спросили о везении: оно начинается в школе, в вузе. Если человека верно вели в науку, то должна быть отдача. Успех — сегодня норма. Неуспех — отклонение. Я хочу сказать, что сегодня нам должно везти.
СЛЕДУЮЩАЯ встреча с доктором химических наук, профессором, членом-корреспондентом Академии наук СССР, президентом Академии наук Узбекской ССР А. С. Садыковым случилась у нас в Москве, куда он прилетел по своим делам, в редакции «Известий». Теперь меня занимала сама механика везения. «Должно везти» — хорошо сказано. Да ведь не всегда оно так. И не у всех. И нельзя сказать, что только бесталанным не везет. Как это бывает в натуре, в жизни? — Но я буду исходить из своего опыта, — сказал Садыков. — Разумеется. — И вы не станете частный случай возводить в закон природы, обязательный для всех. — Постараюсь. — Бывает так, — сказал он: — ученый начинает с решения чисто практической задачи. Это не зазорно. Если она сто́ит того, если решается на современном уровне, то из этого может вырасти нечто фундаментальное. Следует пример: в годы войны госпиталям нужен был витамин PP для лечения пеллагры; она бывает при недоедании, нехватке мяса. Витамин удалось сделать из яда, которым убивают вредителей полей, из анабазин-сульфата. Производился он на заводе в Чимкенте. («Отметьте, — попросил мой собеседник, — анабазин, первый наш алкалоид, открыл Орехов, он и внедрил это производство на заводе еще в 30-х годах».) Теперь с заводом связался Садыков, метод был найден, больные лекарством обеспечены. Что же из этого вышло? Вышло то, что через несколько лет Садыков выпустил большую монографию по химии алкалоидов (он посвятил ее памяти А. П. Орехова). Вышло то, что создан был совхоз «Дармана», который на 30 тысячах гектаров выращивает алкалоидоносные растения. Вышло то, что Чимкентский завод меняет всю свою технологию, это содружество длится вот уже… да, 26 лет. Как летит время! — Бывает и так: ученый начинает с решения чисто теоретической задачи. Если направление прогрессивно, то рано или поздно промышленность найдет свое. Узбекистан стал одним из признанных центров химии природных соединений. Вообще-то наука не терпит границ. Об этом хорошо у Чехова (Садыков запомнил): «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука». Иное дело — предмет изучения. Узбекские ученые изучают хлопчатник, а не мхи и не хвойный лес. Это многолетний труд. Удалось выделить десятки новых веществ, в частности в листьях хлопчатника нашли 17 органических кислот, в том числе — яблочную и лимонную. И вот первый итог: завод, производящий эти кислоты, перешел в 1960 году на новый вид сырья. — Хорош и тот путь и этот, — заключил Садыков. — Плохо одно: когда ученый — не ученый. — Абид Садыкович, а неудачи у вас бывали? — Конечно. Вам опять пример?.. Что ж, возьмите ту же историю с лимонной кислотой. — Очень любопытно… — Еще бы! — сказал он с жаром. — Надо вам знать, что хлопкового листа в год бывает до трех миллионов тонн. Это отход, притом пожароопасный. И вот на 54 хлопкоочистительных пунктах мы сумели наладить сбор листьев (отметьте заслугу исполнителя этой темы А. В. Турулова), отгружали их на завод в город Бабушкин и там благополучно делали из «мусора» лимонную и яблочную кислоту. С 1960 года по 1965 год. Потом их перевели на выпуск другой продукции, и делу конец. — А кислота? — Ее сейчас в основном получают из сахара. Нам объяснили, что это выгодней. Узда ишака дороже ишака: слишком дорого обходилась перевозка сырья. Спорить было трудно. Тем более что сырье давало одно ведомство, перерабатывало другое, потребляло третье… Я, грешным делом, и теперь думаю, что это психология самогонщиков: куплю в магазине сахар и буду гнать из него спирт. Дешевле! Прибыль надо считать, сообразуясь с интересами страны, а не одного министерства. — И вы смирились? — Слушайте, чего вы еще хотите? Работу мы сделали. Опубликовали. Диссертацию один из моих учеников защитил. Авторское свидетельство мы получили. Работа даже внедрена, это ведь факт! И на ВДНХ была представлена, есть медаль. Наконец, я докладывал об этом — в Москве, в Индии, во Франции. Чего еще?.. Ученый не может и не должен превращаться в технолога, в снабженца, в толкача. Его дело идти дальше, вперед. Хочу напомнить: мы живем в век научно-технической революции. Остановиться сейчас — значит, отстать. Отстать сейчас — значит, отстать безнадежно. Садыков помолчал. — Вы все-таки не пишите, что мы смирились. Уже есть проект: будем строить в республике завод по производству лимонной кислоты. Узда станет дешевле ишака.
КАК ВСЯКИЙ серьезный ученый, он много думал о связи с практикой; вот некоторые его соображения. Успех (или неуспех) заложен уже в самой научной работе и зависит от ее участников. От многих: одной рукой в ладоши не хлопнешь. Садыков называет имена своих учеников, без которых «ничего бы не было», — докторов наук О. С. Отрощенко, X. А. Асланова, кандидатов наук А. И. Исмаилова, Б. Л. Леонтьева, О. К. Кушмурадова; всего с ним работает 150 человек. Есть зрелый коллектив единомышленников — вот первый секрет везения. Но этого мало, тут одни химики. Садыков ярый сторонник комплексных групп. Колхозов, как он их называет. Был у него такой колхоз по итаконовой кислоте, есть — по вилту, есть — по госсиполу (это лекарственный препарат). По-старому было бы так: химики его синтезируют, потом передают фармакологам, те передают врачам — это все годы! А можно собрать всех в группу. Хлам-люди в таких научных колхозах не удерживаются, результат виден сразу, форма гибкая, Садыков часто прибегает к ней — вот второй секрет везения. Дальше связь с практикой, тут свои проблемы. Первая из них — экономическая. Никакого внедрения не выйдет, если нет ведомства или, еще лучше, завода, которому это необходимо. Можно еще грубей: которому это выгодно. Легче внедряются те предложения, которые не требуют больших затрат. Трудней — которые требуют. Легче — когда прибыль, пусть небольшую, можно взять быстро. Трудней — когда прибыль, пусть на порядок бо́льшую, быстро не возьмешь. Легче — когда все решается в одном министерстве. Трудней — когда сталкиваются интересы разных министерств. Вот и выходит, что труднее всего даются нововведения крупные, которые в наибольшей степени содействуют прогрессу. К сожалению, у лиц и учреждений, которые должны по идее координировать и направлять научно-технический прогресс, либо денег нет, либо прав нет, либо смелости нет. Придя к этому вполне научному выводу, Садыков большой пользы в хождениях по инстанциям не видит. Почти все свои удачи он добыл, в сущности, там, где сумел напрямую, без посредников связаться с заводами, — вот, стало быть, третий его секрет. И есть проблема моральная. Что дает ученый заводу? Теорию, идею, принцип. Можно сказать, что это главное. А можно, что все еще впереди: технико-экономическое обоснование, полупроизводственная установка, заводская технология. И вот технологи скажут: «Подумаешь, академики! Намешали в пробирках, а мы внедряй!» Кто автор?.. Садыков знает, как трудно заинтересовать людей в работе над чужой темой. И стремится сделать ее для них своей. Дело тут не в дипломатии, не в умении вписать в заявку «нужных товарищей», а в трезвом признании ценности чужого труда. Читатель, видимо, помнит, как часто просил мой собеседник «отметить» и «подчеркнуть» чьи-то заслуги. Вообще-то это норма — быть благородным тому, что помог твоему успеху. Но я всякое видел: простая «забывчивость» по отношению к учителям, ученикам, коллегам — это еще не худший вариант. Между прочим, один крупный московский химик, член-корреспондент АН СССР, рассказал мне такую историю. Несколько лет назад их пути с Садыковым пересеклись: на выборах в академию обоих выдвинули в «членкоры»; всего было девять кандидатов, а место одно. Выбрали того, кто говорил мне об этом. И лишь один из соперников поздравил его — Садыков. По-видимому, и это важно. То, что нет в нем мелочности, нет чванства, а есть достоинство, есть широта, что он разумный, милый, интеллигентный человек, — вот еще один простой секрет его везения.
* * *
— Мы много с вами говорили, — сказал, прощаясь, Садыков. — Много часов. Вот вы исписали целый блокнот… — Понимаю, — сказал я. — У журналистов есть право отбора. Мне жаль будет терять подробности, но главное я постараюсь сохранить. — А не получится так, — сказал Садыков, — что вы напишете только об успехах? Сейчас у нас год Ленина, и хочется говорить об успехах, и есть они… А помните, как об этом у Ленина? Лучший способ отмечать юбилеи — сосредоточить внимание на нерешенных задачах. Пусть будет и об этом тоже. Я обещал.1970

Последние комментарии
1 день 12 часов назад
1 день 16 часов назад
1 день 18 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 20 часов назад
1 день 22 часов назад