Мой ГУЛАГ. Личная история [Людмила Садовникова] (fb2) читать онлайн
- Мой ГУЛАГ. Личная история 6.34 Мб, 405с. скачать: (fb2) читать: (полностью) - (постранично) - Людмила Садовникова
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
МОЙ ГУЛАГ Личная история
Книжная серия видеопроекта Музея истории ГУЛАГа
.МОЙ ГУЛАГ Титры
.…
На обложке размещены фотографии: Валерий Эстеркес (в возрасте двух лет). Каргопольский ИТЛ. 1939 год. ГМИГ КП-3846. Женщины на лесозаготовке. 1940-е годы. ГМИГ КП-301....
Автор идеи, руководитель проекта «Мой ГУЛАГ» — Людмила Садовникова…
Мы благодарим всех, кто помог подготовить это издание: Артема Готлиба, заместителя директора Музея истории ГУЛАГа, исполнительного директора Фонда Памяти, Галину Иванову, доктора исторических наук, заместителя директора по научной работе Музея истории ГУЛАГа, Илью Удовенко, старшего научного сотрудника Музея истории ГУЛАГа, Анну Стадинчук, заместителя директора по развитию Музея истории ГУЛАГа, Кристину Танис, PR-специалиста Музея истории ГУЛАГа, Варвару Усаневич, руководителя Социально-волонтерского центра Музея истории ГУЛАГа, Диану Дзис, координатора Социально-волонтерского центра Музея истории ГУЛАГа. Особая благодарность волонтерам, работавшим над расшифровкой видеоматериалов, а также участникам проекта на planeta.ru.…
«Мой ГУЛАГ» — это книжная серия видеопроекта Музея истории ГУЛАГа. В первую книгу вошли 26 историй, 26 свидетельств выживших и переживших систему ГУЛАГа, сталинские репрессии. Это воспоминания бывших узников лагерей, каторжан, ссыльных, спецпоселенцев. Среди наших героев есть и те, кто родился в лагере, побывал в детских домах «особого режима», кто всю жизнь прожил с клеймом сына или дочери «врага народа». Видеопроект существует в Музее с 2013 года. За это время мы записали около 300 интервью в разных регионах страны — от Москвы до Магадана, провели съемки в Германии, Казахстане, Беларуси, Латвии и Литве. Каждое интервью длится не менее пяти часов, а порой занимает и несколько дней, с некоторыми из наших героев мы беседуем годами. Весь записанный материал хранится в архиве Музея истории ГУЛАГа, но к нему есть открытый доступ: mygulag.ru…
Мы начали проект «Мой ГУЛАГ» в 2013 году. На момент подготовки книги героями проекта «Мой ГУЛАГ» стали 300 человек, среди них — бывшие заключенные лагерей, дети расстрелянных родителей, дети, рожденные в лагере, отнятые у семей и нашедшие родных только спустя десятилетия. Нам интересны и воспоминания людей, которые работали в системе НКВД, — конвоиров, вольнонаемных сотрудников лагерей, их детей и родственников. С героями проекта записываются объемные биографические интервью, порой они длятся несколько дней. Для всех групп респондентов разработаны программы опросов, при подготовке которых сотрудники музея опирались на уже снятый материал, монографии ученых о депортации репрессированных народов, работу исследователей, записывающих воспоминания жертв Холокоста, исследования устной истории и мемуары узников лагерей. Снятые интервью становятся частью музейного архива, из них монтируются фильмы, которые мы размещаем на сайте проекта (mygulag.ru), показываем в экспозиции музея и на передвижных выставках. Для нашей первой книги мы отобрали 26 историй. Это рассказы свидетелей эпохи об абсурде, несправедливости, жестокости, но также и об удивительной силе человеческого духа, вере и любви. Роман Романов, директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда ПамятиМОЙ ГУЛАГ В кадре
.ИГОРЬ БЕРНАКЕВИЧ

Игорь Бернакевич (слева), Юра Плишкин, Витя Чебыкин в детском доме № 20 (№ 3), Кировская область, город Советск, 1940-е годы
Интервью записано 16 января 2015 года. Режиссер и оператор Людмила Садовникова.
Игорь Алексеевич родился в 1930 году. В 1937 году после ареста родителей вместе с сестрой был отправлен в детский дом особого режима. Отец — Бернакевич Алексей Николаевич — арестован в 1937 году и расстрелян в 1938-м. Мать — Бернакевич Мария Федоровна — арестована в 1937 году и отправлена в Акмолинский лагерь жен изменников Родины (АЛЖИР)[1]. Игорь Алексеевич не стал железнодорожником, как его отец. Социальная комиссия, как он говорил, не допустила детдомовца из детдома особого режима, сына врага народа, к сдаче экзаменов в железнодорожный техникум им. Сталина. Но он с успехом поступил в Федоскинское художественно-промышленное училище в 1946 году. Отслужил в армии, в артиллерийских войсках. После демобилизации окончил вечернюю школу и поступил в педагогический институт им. Ленина на художественно-графический факультет. Потом еще были двухгодичные курсы дизайна в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшем Строгановском). Работал Игорь Алексеевич в конструкторском бюро им. С. А. Лавочкина, в опытном конструкторском бюро А. И. Микояна.
«Я был воспитан НКВД, я любил нашу советскую власть и НКВД больше, чем родителей»
Мой отец был инженером-железнодорожником. Он в 1930 году окончил харьковский институт и работал на железной дороге. Сначала на Украине, в Казатине. Я родился там. А потом из Казатина его перевели в Пермь, затем в Уфу. И до 19 февраля 1937 года он работал инспектором Южно-Уральской железной дороги, пока его не арестовали. Как-то я играл на улице, около дома, ко мне подошли два человека и сказали: «Нам нужен Ермаков». Я им ответил, что Ермакова арестовали. Он был папиным начальником. А они говорят: «Проводи нас в дом». И я повел их. Но они не в ту дверь стали стучать. «А здесь Бернакевич живет». Отца дома не было, и они поехали за ним на работу. Когда начался обыск — стоял отец или сидел? Я не помню. Мы рядом «прищемились» на стульях. Шкафы трясут, белье, книги. Отец же инженер. Везде валяются его рабочие книги с таблицами. А таблицы, я помню, были тогда цветными. Миллиметровка очень красивая была. Сейчас она оранжевая, сама сетка, а тогда была глубокого синего, очень приятного цвета. Книги о паровозах с цветными вкладками, с цветными сигнальными огнями… Я любил рассматривать эти книги. И вдруг они под ногами, по книгам незнакомые люди ходят. Отца увезли ночью. Он только успел сказать: «Я невиновен, Марусенька, я невиновен». Обнял и поцеловал нас? Не помню. Может, не дали. Когда Ермакова арестовывали, я слышал у нас дома разговор: «Знаешь, оказывается, с нами рядом жил враг, и мы ничего не замечали за ним». А теперь мы сами оказались в таком положении. Но у нас тогда вера была в то, что НКВД не ошибается. И начались наши хождения по тюрьмам. В тюрьму, чтобы отдать передачу отцу, нужно было выстоять громадную очередь. Сначала передачи брали, а потом перестали, появилась информация о том, что его куда-то отправили. Вышел из тюрьмы Ермаков и сказал матери: «Алешка зря поддался». Ермаков стоял на своем: ему сломали ребра, выбили зубы, но он вышел живой. Он ничего не подписал. Разговор шел о том, что уничтожат детей, семью уничтожат. И Алексей Николаевич, мой отец, видимо, думал о семье. Вот поэтому он подписал. И ровно через год его расстреляли, но мы об этом узнали только через много лет. Маму тогда часто вызывали к следователю. Мы ходили вместе с ней. Они добивались, чтобы мать оформила развод, но она любила отца и отказалась. Жизнь свою она не устроила. И вот уже в октябре нам стали присылать документы с предложением освободить квартиру. А квартира у нас была в центре Уфы. Помню я веселые праздники, которые проходили там. Отец неплохо пел, мать вообще прекрасно пела. Она должна была учиться в консерватории, но дед ей не разрешил, говорил, что там нехорошие женщины-артистки. И у мамы было только среднее образование, она была домохозяйкой. Но перед арестом отца она работала в Наркомпросе инспектором, после ареста ее оттуда «попросили». И мама стала работать в универмаге кассиром. Но вскоре и ее ночью арестовали. Опять был обыск, опять трясли вещи и так далее. Ее рано утром увели под конвоем. И уже в начале дня нас выкинули на улицу. Это было 30 октября. Я стоял с узлами, а бабушка с сестрой пошли искать угол. Ко мне подходили люди, называли «троцкистом»[2] и забирали из наших вещей все то, что им больше понравилось. Потом мы нашли какое-то жилье, на одной кровати втроем стали жить. В школе нас с сестрой сторонились, называли троцкистами, за одной партой сидеть никто не хотел. А сразу после ареста матери исключили из кружков. А я только поступил в авиакружок, моя сестра занималась балетом. Что случилось с бабушкой, я не помню. Может, бабушку тоже посадили? Но мы остались с сестрой одни, и нас отвезли в закрытый детский приемник по оперативному приказу 00486[3]. «Два ноля» — это говорит о том, что приказ был совершенно секретный и касался детей и жен «врагов народа». Не хотело наше правительство афишировать, что детей подвергают репрессиям. Нас забрали в Даниловский приемник. Сейчас в этом здании патриарх располагается. Тогда там на вышках стояли часовые, никаких связей с внешним миром. Намордники на окнах, ты ничего не видишь, только какой-то слабый свет сверху. Кровати трехэтажные с соломой. В детский дом особого режима нас уже везли сопровождающие — две сотрудницы НКВД за тысячу километров. Плыли на одном пароходе, пересадили на другой, на буксире. 100 км ехали в кузове машины. Везли нас в Кировскую область, город Советск, бывшую слободу Кукарка. Между прочим, там родился Молотов[4]. Очень красивое место, река, бор. Часовых не было, но территория хорошо огорожена высоким плотным забором и два дома — один девичий, другой мальчишечий. Однажды, когда мы сидели после обеда, уроки готовили, вдруг пришел мой товарищ-одногодка Слава Грика весь в крови, плачет. Я побежал за воспитательницей. Бегу, а мне с сеновала говорят: «Подойди! Лезь!» А я не могу залезть. Подсадили, я залез. И сразу удар. И начали лупить меня. Долго били. Раздели, а мою новую одежду, видимо, пропили эти великовозрастные уголовники. Очнулся я ночью, слез с сеновала. Воспитательница меня поджидала. Она уже знала обо всем и увела к себе домой. Я полмесяца у нее отлеживался, потом пришел в себя. И потому что я молчал о случившемся, не стал сексотом, особо меня после не били. Затрещины каждый день давали, да. Развлекаться они любили. Допустим, я дружу с вами, а они говорят: «Ко́сайтесь!» — на их языке значит деритесь. А мы с вами друзья. Драться нужно до крови. А они сидят и смотрят, ну, как на гладиаторов, им интересно. Что еще делали? «Отбивали часы». Брали шкета маленького, ставили на четвереньки, за руки и ноги раскачивали и как тараном били, а в стене были гвозди. Вот я так и не знаю, жив этот Слава Грика или нет после такого «тарана»? Был у меня такой товарищ. Заставляли нас собирать окурки, бутылки, кости, тряпки, металл. Если удалось, допустим, латунь содрать откуда-то, на кладбище найти какие-то украшения, сдавали старьевщикам, те платили деньги. Деньги отдавали старшему, тот покупал водку. Всем полагалось по глоточку. Потом пинок — ты счастливый убегал. Этих великовозрастных уголовников специально содержали в детских домах. Они ежедневно должны были избивать «детей врагов народа». Накануне войны жизнь стала более или менее терпима. А так каждый день били. Старшую сестру мою звали Зоя. Она очень активная и ответственная, отличница круглая — была для меня примером всегда. А еще по возможности нянькой. Сестра так выполняла просьбу матери. Когда маму арестовали и уводили под конвоем, она сказала: «Береги брата!» Вот мы были, допустим, в летнем детдомовском лагере, типа пионерском, «Борок» назывался. Я хочу, например, искупаться. А уже конец августа, вода в речке холодная. И только я ногу над водой заношу, как с высокого берега Зоя кричит: «Иго-о-орь, не ходи на речку, а то как залимоню!» А потом, в какое-то время, когда уже сестра не видит меня, точно так же — только-только я подхожу к речке, и мне уже другая какая-нибудь девочка кричит: «Иго-о-орь, не ходи на речку, а то как залимоню!» Сестра для меня была маяком и защитником, наверное. Жили мы в нашем доме на втором этаже. Спали на одной кровати по трое: один — в одну сторону, а два — в другую. Матрацы были соломой набиты. Утром подъем и завтрак на первом этаже. В основном была пшенная каша, довольно крутая. В этой каше сделано ложкой углубление, в котором льняное масло или конопляное и сахар. Ешь это и идешь в школу. В школу мы ходили с торбами (такими полотняными сумками) с учебниками. После занятий возвращались в детский дом и обедали. А потом шли в мастерские работать. Поздно вечером делали уроки — и спать. Как только началась война, все мальчишки стали собираться на фронт. Мы ножи купили, я и один товарищ. И револьвер на 16 патронов — «монтекрист», однозарядный. Стали мы запасаться хлебом, сухарями. Об этом нашем намерении узнала директор. Она очень мудро поступила. Построила детей и нас, «будущих фронтовиков». И говорит: «Посмотрите, ребята, вот эти наши товарищи хотят убежать на фронт, помогать Красной армии. А что мы будем делать? Печки надо истопить, дрова заготовить, сено накосить для лошади, ваши отметки проверить. Кто это будет делать? Папы ваши там воюют, и они спокойны, что в детском доме за детьми присматривают. А вы уйдете — и все». И поручила нам по пятерке подшефных ребят, посильнее привязала. И все, мы смирились. А уже с этим купленным пистолетом я потом ходил в лес, к старшим, которые там работали, дрова рубили, я им продукты носил. В лесу ведь и дезертиры могли встретиться. Так что и ножи, и револьвер этот были к месту. Но мы и до войны уже работали. Привлекали нас заготавливать сено для лошадей. А когда война пришла, то мы стали косить. Мужики ушли на фронт — косить некому. Все лето мы косили. А осенью убирать урожай тоже некому. Мы помогали соседним колхозам: картошку копали, морковку убирали. А когда враг подходил к Москве (самолеты стали долетать до Кирова — дальняя авиация, бомбили недалеко от нас заводы, где автоматы делали), мы стали дежурить по ночам на крышах. Город же в основном деревянный. Мы натаскали песка, сделали в кузнице клещи для зажигательных бомб и сидели там, на крышах, спали там же, не отлучаясь, пока было тепло и пока снег не выпал. Зима была снежная и холодная, поэтому с чердаков мы ушли. И вскоре немцев отогнали от Москвы, самолеты не стали долетать, осадное положение сняли. В первый год войны нашего директора забрали на фронт и лошадей взяли. А из Москвы приехали эвакуированные дети и директор детдома вместе с ними новый. И растащили все наши продукты. Мы голодные. Дров нет, помещение не отапливается, спим одетые по три человека, но еще накладываем на себя матрацы, и все равно холодно. Но недолго продолжались наши мучения, сняли этого директора с должности. Пришла энергичная и сравнительно молодая, высокая, красивая женщина — Николаева Александра Петровна. Она в валенках пошла по весеннему снегу, по весенним дорогам по колхозам и стала просить зерно, хотя бы по пуду зерна, и у нас появилось немножко каши из пшеницы вареной, которая в принципе не жуется, — полба, которую ел Балда из сказки Пушкина. Александра Петровна собрала по городу санки и весь детский дом в воскресенье отправила в лес за дровами. И после этой операции печки истопили, отогрели спальни. Вскоре она взяла участки земли в аренду и заставляла их обрабатывать. Дети сами боронили, впрягались в бороны. Ввела строжайшую дисциплину. Запретила воровство. Мы раньше всегда бегали по городу и воровали. Знаете, что такое «сидора калечить»? Это привычка такая воровать у крестьян. Вот везет он сено, палка — бастрык называется — прижимает сено на телеге, чтобы оно не рассыпалось, и еще на этой палке висит мешок с продуктами. Сам крестьянин сидит наверху, высоко, ему мало что видно. «Сидор» — это значит мешок. И срезали вот этот мешок с продуктами — «сидора калечили». Я немножко по-другому жил, мне не приходилось так воровать. Я зарабатывал в детском доме рисунками. Нарисую девочку, или спасательный круг, или чайку — и мне кусок пирога отламывают или шаньги. И в этом отношении я был привилегированный. Или картошку дадут, уже веселее. А ребята в большинстве своем бегали, «сидора калечили». Постарше которые — «дергали сено». Потом это сено продавали, получали что-то съестное или деньги. Так и жили. Все летние каникулы, когда только мы чуть-чуть окрепли, стали больше работать в лесу. Мы заготавливали дрова и для себя, и для города. А для того, чтобы эти дрова доставить в город, нужно было связать плоты и сплавить по реке. Это можно сделать только поздней осенью, когда реки наполнялись и плоты могли пройти. Поэтому мы все лето пилили двухметровые кряжи, складывали их в клети метр на метр. То есть получается в каждой клети два кубометра дров. Строили деревянную дорогу, также шпалы — но не рельсы, а жерди, возили деревья из лесу к реке, складировали, а поздней осенью уже вязали плоты и сплавляли. В город путь по реке — приблизительно полсотни километров. Летом еще уборочная: поспел клевер — его надо скосить. Появилась, допустим, пшеница — ее сжать нужно, а сжать — значит серпами, комбайнов не было. А потом срезанную пшеницу в снопы связать и во двор детского дома привезти. Потом цепами колотить, зерно выбивать. Тяжелый труд. О военном времени у меня есть еще одно очень тяжелое воспоминание. Это 1943–1944 годы. Прошла битва под Курском. Ну, мы об этом слышали, что наши победили. И вот в город привезли несколько барж обмундирования. Обмундирования, снятого с погибших. Это громадные баржи. Белье с раненых и убитых раздали городским женщинам. И вот вдоль берега реки Пижмы стояли сплошной линией, локоть к локтю, женщины, стирающие белье. Им надо было его выстирать, зашить и заштопать. И все женщины ревели. Рев стоял над рекой страшный. Каждая могла «увидеть» в этой гимнастерке своего мужа. Иногда находили части тел в этой одежде. Это ужасное зрелище. Но, как говорится, бабы все сделали, выстирали белье, заштопали и отправили обратно на фронт. В военное время мы все мечтали стать офицерами, ходили по городу и пели:«Мы в нашу артиллерию служить пойдем,
Мы глазом ворошиловским прицел возьмем».
«Над тобою плачет маршал Польши,
Твой никогда не плакавший солдат».

Репрессированное детство Массовый террор 1937–1938 годов не только оборвал жизнь сотням тысяч человек, так называемых «врагов народа», но и искалечил судьбы членов их семей. 15 августа 1937 года нарком внутренних дел СССР Н. И. Ежов подписал приказ № 00486 «Об операции по репрессированию жен изменников Родины», в соответствии с которым жены «врагов народа» подлежали аресту и заключению в лагеря на 5–8 лет, а их дети отправке в детские дома. Для женщин было создано специальное отделение в системе Карагандинского лагеря, расположенное недалеко от поселка Акмолинск (Казахстан). В этом лаготделении отбывали наказание мамы Маргариты Андрющенко, Георгия Каретникова, Нелли Тачко. В 1938 году число заключенных Акмолинского отделения достигло 8 тысяч человек, что сделало его крупнейшим женским лагерем в СССР. Женщины-заключенные дали лагерю неофициальное название «АЛЖИР» — «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». Дети арестованных родителей подлежали направлению в приемники-распределители, а затем в детские учреждения. За год действия приказа было репрессировано свыше 18 тысяч жен «изменников Родины», в детские дома помещены более 22 тысяч детей. Юлии Пашаевой было два года, когда ее навсегда разлучили с родителями и она оказалась в детском доме. Судьба Игоря Бернакевича была еще труднее, в семилетнем возрасте он был признан «социально опасным» ребенком и отправлен в детский дом особого режима. В приказе № 00486 давалась подробная инструкция, как следовало поступать с такими детьми:
«Социальноопасные дети осужденных, в зависимости от их возраста, степени опасности и возможностей исправления, подлежат заключению в лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД или водворению в детские дома особого режима Наркомпросов республик».Георгий Каретников и Лидия Чюринскиене провели первые годы своей жизни в лагерных домах ребенка. По закону осужденная женщина могла взять ребенка в возрасте до 1,5 лет с собой в тюрьму или лагерь. Во всех крупных исправительно-трудовых лагерях действовали дома ребенка, куда помещали детей, как рожденных в неволе, так и привезенных матерью с собой. Как только ребенку исполнялось четыре года, его передавали под опеку родственникам или отправляли в детский дом. Георгий стал одним из первых детей, рожденных в Акмолинском отделении Карлага. Лидия в годовалом возрасте попала вместе с мамой в Волголаг и содержалась в лагерном доме ребенка. По официальным данным на 1 января 1946 года в местах заключения содержалось 10 217 женщин с детьми. В середине 1930-х годов в лагерях ГУЛАГа появилась новая группа заключенных — «малолетки». Так называли несовершеннолетних, 16–17-летних узников лагерей. Нинель Мониковской было 16 лет, когда ее арестовали вместе с мамой. В лагере она столкнулась с жестокими правилами выживания среди уголовников, и только неиссякаемая сила духа позволила ей не просто выжить, но и сохранить свой внутренний мир.
ВЕРА АНДРЕЕВА

Вера Андреева, Москва, 1937 год
Интервью записано 4 июля 2015 года. Режиссер и оператор — дочь Веры Сергеевны — Людмила Садовникова.
Вера Сергеевна родилась в 1929 году. С трех до семи лет воспитывалась в семье своего деда Жучкова Дмитрия Ивановича и стала свидетелем его ареста. Дмитрий Иванович родился в 1878 году. Принимал участие в Первой мировой войне, затем в Гражданской войне в рядах армии Деникина. В 1937 году был арестован по доносу соседей и родного сына. В 1939 году предстал на открытом судебном процессе, на котором был оправдан и освобожден в зале суда. В 1940–1950-е годы Вера Сергеевна была членом подпольного детского христианского кружка, базировавшегося в квартире ее матери. В конце 60-х годов, после поступления в аспирантуру Научно-исследовательского института пушного звероводства и кролиководства, Вера Сергеевна вступила в партию. В начале 80-х годов вышла из партии и вернулась к религии. В. С. Андреева — доктор сельскохозяйственных наук, автор ряда монографий и научных статей по разведению и селекции пушных животных.
«Такая была сильная агитация!»
Наш дом располагался в Съезженском переулке, семья деда занимала второй этаж. Я жила там с трех лет и до восьми — пять лет. И деда в 1937-м отсюда забирали, со двора, туда въезжала машина. Было часа четыре утра. Дед мой родился в 1878 году в дворянской семье. Учился он в Германии, в Лейпциге. Вернувшись, женился на моей бабушке, и у них было трое детей. Старшая — моя мама, 1902 года, затем дядя Ваня — брат моей мамы и младшая сестра — тетя Шура, 1907 года рождения. На Первой мировой дед был офицером. Воевал на южном направлении, житомирском, до конца войны. А когда была организована Белая гвардия, дед был у Деникина. А вот после распада армии Деникина (все эмигрировали, уезжали через Одессу) дед остался. У него здесь было много родни, о которой он должен был заботиться. И до 37-го года, а я и хочу о нем рассказать, он жил в этом доме, я начала с него свой рассказ. Я с трех лет все время гостила у деда и бабушки. Хоть я и родилась в Большом Каретном переулке в 1929 году и детский сад у нас буквально был во дворе, мама категорически была против него. Она говорила, что там одинаковое для всех воспитание — всех точно штампуют — и что мне в детском саду делать нечего. Мама меня отправила к деду и бабушке, и я там фактически жила. В 37-м году получилось так, что на деда написали донос соседи (которые вселились в наши четыре комнаты), и они привлекли к доносу дядю Ваню (маминого брата, сына дедушки). Дядя Ваня меня очень любил, часто брал на руки, подбрасывал вверх и все говорил: «Андрей-воробей». Я против него ничего не имела. Вообще в нашей семье никогда никаких ссор не было. До этого дядя Ваня поступил на завод «Серп и Молот» и вступил в партию, но никогда никаких речей ни против деда, ни против бывшей власти царской я от него не слышала. Донос был о том, что дед вел контрреволюционную пропаганду. Но ведь дед мой был очень осторожным человеком. Я помню, у нас стоял приемник, большой, принимавший все станции, но дед ни разу при мне его не включал, я не слышала. Или, например, на его именины всегда собиралось очень много гостей — родня деда, но я тоже ни разу не слышала, чтобы он что-то говорил против революции, против власти, которая у нас все отняла. Все это было удивительно. И еще один момент. Дело в том, что мамина сестра, тетя Шура, была замужем за следователем НКВД, а он как раз и предупредил нас о том, что на деда написан донос. И как только это известие пришло, сразу разожгли печь голландскую в большой комнате (тогда у нас во всех комнатах стояли высокие, до потолка, голландские изразцовые печи), я это хорошо помню. Я помню этот огонь, и туда стали бросать все документы, в печь летели даже старые бумажные царские деньги. Их еще раньше мне бабуся показывала и говорила: «Смотри, какие были деньги». Все ушло туда, в печь, и мы остались совершенно без документов, только с паспортами. И буквально в ту же ночь нас разбудил стук в дверь, вошли трое военных и еще понятой — дворник. За дедом. Ну, и тут началось… Начался обыск. Я сидела в большой комнате на стуле молча, мне было уже семь лет, и я, конечно, понимала, что творится. Я сидела как парализованная или загипнотизированная, смотрела, как выдвигались ящики, открывались шкафы, комоды, как все выбрасывалось на пол. Потом помню еще дедов письменный стол, вот сейчас он тут у нас стоит. Все ящики стола тогда были вскрыты, замки все взломаны. В общем, рыли, рыли, ворошили, ворошили. Потом сказали, чтоб дед выходил, а это была ночь, но уже рассвело. Я помню, когда его вывели во двор, сопровождали эти, пришедшие, бабуся и я. Во дворе стоял «ворон» черный — машина, похожая на крытый автобус. И дед вот в чем был, в том и пошел. Когда он стал садиться в эту машину, там сбоку была дверь, то дед сказал нам, оборачиваясь, что это ошибка и что завтра он приедет домой. На другой день доносчики и дядя мой написали протест о том, что они обратно берут заявление, которое написали на деда. Я до сих пор так и не знаю, отдали ли им его обратно, но деда так и не отпустили, и это обвинение так за ним и осталось. Деда на следующий день так и не выпустили, и на второй. А на третий день мы с бабусей отправились в Матросскую Тишину. Там был двор громадный, где собирались все, у кого были арестованы родственники. И было такое окошечко, через которое давали сведения. Я помню во дворе очень много народа, так много, что даже стоять трудно, но была тишина. Все люди говорили шепотом. Бабуся меня подвела к этому окошечку, помню три ступенечки. И нам сразу выдали сведения. Оказалось, что деда забрали в Таганскую тюрьму. После этого мы уже с бабусей стали ходить туда, носить передачи. Конечно, этого было мало, и бабуся сразу наняла одного из лучших адвокатов Москвы — Левина. Левину очень хорошо заплатили, но он как человек честный сказал прямо: «Я, — говорит, — ознакомлюсь с делом, и если увижу, что дед не виноват, то я его возьмусь защищать, в противном случае я откажусь». Дед, конечно, был не виноват, тем более что и заявление доносчики взяли обратно. Бабуся связь держала с дедом через Левина. Левину были разрешены свидания с дедом, и он рассказывал, что когда дед сообщал ему про свое житье-бытье, про допросы, то даже плакал. Допросы были страшные по ночам, только по ночам, изнуряющие. Это все дед рассказывал, хотя с него взяли подписку, когда он уже освободился, что он ничего, что там было, не расскажет, но как было не рассказать. На допросе деда сажали на стул, а ему тогда было уже 60 лет, выбивали стул, и дед падал. Или, например, ставили в комнате, один следователь в одном углу стоял, другой напротив, и швыряли старого человека то туда, то сюда. А дальше уже были зверства, били в пах, да так, что пробили деду пах, и он вышел из тюрьмы уже с грыжей. Такие издевательства длились год, но потом они прекратились и о деде вроде как забыли. Чего они добивались? Чтобы дед подписал бумаги, что он выступал против революции. Дед говорил: «Если бы я подписал, меня бы расстреляли, но мало этого, расстреляли бы и вас». Тогда забирали и жен, и детей, поэтому дед и не подписывал несмотря ни на что. В 39-м году наконец назначили суд. Суд был. Деда вывели в зал судебного заседания с конвоем по бокам, с шашками наголо, как какого-то ужасного злодея. На суде были Левин и бабуся, больше никого не пустили. И на суде деда оправдали, и прямо из зала суда его отпустили на волю. Я в это время была дома, гуляла во дворе, я ничего не знала о суде. Вдруг смотрю, а у нас громадный был двор и посредине стоял корпус, и вот из-за угла этого корпуса с левой стороны появляется мой дед. Я его не узнала, потому что он был очень седой, совершенно опухшее лицо, отекшее, но все-таки я уже почувствовала, что это дед, и побежала навстречу. Мы обнялись, встретились. Дед стал жить у нас в Большом Каретном. Что случилось потом с дядей Ваней, сыном деда? Я точно не знаю, но, по-моему, его исключили из партии за то, что он написал донос на своего отца. Он ушел с этого завода и уехал в Севастополь, там его застала война, он служил на катерах. Дядя Ваня погиб с десантом в Севастополе в 1942 году. Что сказал тогда дед? Вот сейчас они, конечно, там примирились. А тогда он его еще не простил, это же был 1942 год. Ну, я не буду это говорить, но общий смысл такой: якобы он сказал, что сын достоин смерти был… Вот так. Ну, конечно, не в детстве, а уже потом, если сказать простым человеческим языком, я ненавидела всю эту систему. Как же я вступила в партию? Не знаю. И все равно и в партии я была против этого режима. Я вот что скажу: когда мы в 1976 году хоронили бабусю, тетя Вера у меня спросила (я тогда была еще в партии): «Как же ты могла, когда у нас все отняли, перейти на их сторону?» Я не знаю, я ничего не ответила, я не знаю почему. Вот так вот — агитация такая была сильная, такая была сильная агитация. Но о деде эту тему никогда не затрагивала в партии, и мне кажется, если бы меня кто спросил тогда, то я бы тоже сказала: «Я не простила, я не умею, не могу такое прощать».
За недонесение На протяжении всех лет сталинской власти советская пропаганда призывала граждан страны к бдительности и своевременному разоблачению врагов народа. Большинство людей искренне верили этим воззваниям, что и стало одной из причин массового доносительства. Кроме того, печально знаменитая 58-я статья УК РСФСР устанавливала уголовное наказание «за недонесение». Страх стал питательной средой для политического доносительства. В 1937–1938 годах тысячи граждан отправляли в НКВД доносы на своих сослуживцев, соседей, знакомых, были случаи, когда дети доносили на своих родителей. Дедушка маленькой Веры стал жертвой доноса своего соседа и сына. Большинство доносчиков рассчитывали на вознаграждение за свои «заслуги» в виде освободившейся квартиры или должности. Вопреки распространенному мнению доносы не играли решающей роли в эскалации террора. Механизм массовых репрессий не предусматривал широкого использования доносов как основы для арестов. Характер террора, его сугубая централизация и проведение на основе заранее определенных «контрольных цифр» оставляли мало места для активности «добровольных помощников» НКВД. Основой обвинительных материалов в следственных делах были признания, полученные во время следствия. Доносчиков, преследующих личную цель, ждало лишь разочарование, так как желаемой награды за свой труд они не получали.
МАРГАРИТА АНДРЮЩЕНКО

Маргарита Андрющенко с отцом. Крым, Ялта, 1937 год
Интервью записано 15 марта 2017 года. Режиссер Мария Гуськова. Оператор Денис Гуськов.
Маргарита Даниловна Андрющенко родилась 7 мая 1932 года в Москве. Когда ее отца арестовали, ей было пять лет. Даниил Федорович занимал должность начальника отдела по производству биопрепаратов в Наркомате земледелия. 3 ноября 1937 года он был приговорен по трем пунктам статьи 58 УК РСФСР[9] и вскоре расстрелян. Мать Маргариты, Клавдию Афанасьевну, арестовали как «члена семьи изменника Родины» 27 декабря 1937 года, приговорили к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и направили в АЛЖИР — Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Маргариту, оставшуюся без родителей, должны были забрать в детприемник, но бабушка Маргариты, осознав угрозу, накануне бежала из квартиры вместе с девочкой. Жили у родственников, однако многие опасались или просто не хотели держать у себя дочь «врага народа». Маргарита окончила школу с золотой медалью, в 1951 году поступила на экономический факультет Московского государственного университета. Когда она училась на втором курсе, ректору поступил донос о том, что при поступлении в МГУ Маргарита Андрющенко умолчала о своих репрессированных родителях. Окончательное решение об исключении Маргариты из университета и из комсомола не было принято из-за смерти Сталина. Родители Маргариты Даниловны были реабилитированы в 1956 году. В 2015 году была опубликована книга ее воспоминаний «1937: Жизнь до и после: Судьба одной семьи».
«Пришли за мной, чтобы забрать в детский дом»
Самый яркий эмоциональный след того времени — это наша семья: мама, отец и бабушка — мать отца, она жила с нами в Москве. Я прошла весь этот тяжелый путь, но возвращаюсь в те дни, чтобы восстановить в памяти 1937 год, когда и случилось несчастье с нашей семьей. Я помню три события того года. Первое — мы поехали в гости к маминой сестре, тете Нине, в Дом на набережной[10]. Они с мужем останавливались там, когда приезжали в Москву из Токио. Муж тети Нины работал торгпредом СССР в Японии. Я помню, мне тогда подарили куклу Намико-сан, очень я ее любила, много лет она была со мной. Еще запомнилось, как мама отвела меня в музыкальную школу. Для поступления нужно было пройти три тура. И первые два я прошла. А на третий меня уже не повели, потому что он приходился на конец августа, а 20-го числа арестовали отца, и маме было не до музыки. И третье, самое яркое событие того года — наша поездка на Черное море. Каждое утро, пока мама еще спала, отец меня будил, и мы вместе шли на море. Это были очень увлекательные похождения, потому что отец всегда много и интересно обо всем рассказывал. Потом мы возвращались, и по пути он обязательно покупал букет, я запомнила, что цветы всегда были белые. Я потом уже узнала, что это был любимый мамин цвет. Отец поднимал меня высоко, и я старалась просунуть эти цветы маме в окно… А как только мы вернулись в Москву, буквально через несколько дней произошло то, что произошло. У отца на работе среди коллег сложилась такая традиция: периодически они встречались у кого-то дома. Телевизора не было — надо же было обменяться новостями, что-то обсудить. В тот раз принимающей стороной была наша семья. Я, конечно, этого не помню — все это со слов мамы и бабушки: уже накрыли стол, ждали гостей, должны были приехать несколько человек, но никто не явился. Это было удивительно. Мама очень расстроилась, мудрая бабушка молчала и тяжело вздыхала. Конечно, никто не предполагал худшего. Отец маме объяснил — он всегда мог все объяснить, — что это неудачное стечение обстоятельств, а так все нормально. А на самом деле через несколько дней ночью во всей нашей квартире зажегся свет. Квартира у нас была трехкомнатная: в одной комнате жили мама с отцом, в другой — мы с бабушкой, и третья была гостиной. Люди, которые ходили по квартире, были в военной форме. Вели себя бесцеремонно, как у себя дома, хотя была глубокая ночь — три, а может, четыре часа. Они снимали с полок книги, листали, бросали на пол. Открывали ящики письменного стола, вытаскивали бумаги. Забрали папку с документами — это я знаю из личного следственного дела отца, которое позже увидела. В квартире было очень тихо, только топот их ног, звук падающих книг и шелест разлетающихся бумаг. Мне было пять лет, у меня в голове четко закрепилось, что на папином столе ничего трогать нельзя, поэтому меня происходящее просто возмущало: пришли какие-то ночью, все берут, бросают, хотя я знаю, что этого делать нельзя! Не меньше трех часов все это продолжалось. В это время бабушка зачем-то собирала чемоданчик: я помню, как она положила туда легкое одеяло. Я тогда уже неплохо рисовала, образная память была хорошо развита, и позже я маме нарисовала это одеяло — там были прямоугольники, сочетание трех цветов: коричневый, бежевый и белый. Это было, наверное, японское одеяло — тетя часто привозила нам какие-то интересные вещи. Бабушка сложила в чемодан зубную щетку в футляре, что-то еще… Я даже и не поняла, что это отцу. Она отвечала на какие-то вопросы, разговаривала, а мама не могла, она плакала. Она вообще ничего не понимала. Кроме военных в квартире находился наш комендант по дому. Такой громоздкий человек, очень мрачный. И он все время стоял, прислонившись к притолоке двери, следил за тем, что и как происходит. И я почему-то в какой-то момент присела на его огромный ботинок. Я тоже следила, но я должна была куда-то присесть. А куда? Войти внутрь страшно. В комнате родителей стояли стеллажи с книгами, письменный стол, кровать и платяной шкаф со стеклянным окошечком наверху. Помню, что в ту ночь на полу лежали мамины фотоаппараты, они были очень крупными. Мама увлекалась фотографией. И рядом с этими фотоаппаратами на полу почему-то былабольшая банка с яблочным вареньем, бабушка всегда варила яблочное варенье. Стояло необычное общее напряжение, какая-то тревога. Поэтому я не сводила глаз с отца. И помню, как он выходил из квартиры, два человека его вели — такое впечатление, что это какой-то преступник. Он оглянулся. Я запомнила его глаза. На момент ареста отцу было 42 года — самый творческий возраст для мужчины. Мама была второй его женой, а я — единственным и поздним ребенком. Ну, конечно, он меня очень любил. Он посмотрел мне прямо в глаза. Но это было мгновение, когда он оглянулся, и его увели. И потом я смотрела в его спину. Вот так я и осталась с открытым ртом. Что было с мамой и бабушкой — ничего не помню. Когда я стала взрослее, я пыталась восстановить и прочесть этот взгляд. И как будто он мне говорил, что я должна знать, что он ни в чем не виноват. Но это только мои представления. После ареста отца в доме многое изменилось. Я тогда ничего не понимала, а вот теперь, когда уже прожила жизнь, я знаю, и знает все мое окружение, что мне всегда не хватало отца. Конечно, я любила маму, но мама — это аксиома, а для меня особенно важен был отец. Его я любила как никого. Все говорили, что я в его породу, да и внешне похожа на отца. Папиной дочкой считалась. Он заполнял всю мою жизнь. Несмотря на занятость, отец дарил мне много ласки, да и времени уделял больше, чем мама, — она не работала, но много занималась собой, своей внешностью. Папа носил меня на руках. Мама меня на руки никогда не брала. Она была всегда идеальная, красиво одетая, от нее неизменно исходил запах хороших духов. И у меня остался в памяти мамин ограждающий жест: я бегу к ней навстречу, но я могу испачкать ее платье, помять. И вот этот жест, наверное, много определил для меня. Если у отца всегда было «к себе», то у мамы было не так, хотя, конечно, мама меня любила, и я ее, но теплых воспоминаний у меня больше об отце. Он был старше мамы на 10 лет, был такой… мудрый. Я помню, что года в три родители возили меня в Оренбург. Там умирал от онкологии мой дедушка, отец мамы. Он был ветеринарным врачом и имел большую клинику, которую построил на свои средства. При ней была аптека, библиотека, комната для занятий детей. В этом же доме жила их многодетная семья: одиннадцать своих детей и трое приемных. Клинику у деда экспроприировали — он же собственник, и у него наемные работники, а значит — эксплуататор. Взрослые дети разъехались, а бабушку с дедушкой и одним сыном выселили в какую-то двухкомнатную квартирку. Дед остался не у дел, душа у него болела: он часто приходил к своему дому, смотрел, что там происходит, и видел, как все рушится. Он надеялся, что сохранят клинику, — ну ладно, пусть она будет социалистическая или коммунистическая, но она будет работать. Ничего подобного. Вначале растащили оборудование, потом аптеку, и клиника прекратила свое существование. Дед сильно переживал потерю своего детища, тяжело заболел и вскоре умер… Так вот, в Оренбурге меня укусил малярийный комар. Когда мы возвратились в Москву, меня лечили инъекциями хинина. Вероятно, повредили глазной нерв, и у меня началось косоглазие. Надо было его исправлять, и мне на лицо надевали сложное сооружение. Правый глаз был нормальный, и там было темное стекло, а на левом глазу красовалось большое блюдце, чтобы закрыть обзор к боковому зрению, а посередине была дырка. Это было сделано для того, чтобы я прицельно смотрела прямо в эту дырку. Но для этого еще требовалась быстро меняющаяся панорама. И отец после работы шел со мной гулять: брал меня на руки и быстро носил по скверу. Мы жили на Малой Тульской, вокруг были в основном деревянные дома, а наш уже кирпичный, пятиэтажный. На следующий же день после ареста мама отправилась на поиски информации — где отец. Нигде не давали никаких справок! Узнать, где сидит человек, чтобы ему отвезти передачу, записку передать, было невозможно. Отец работал в Наркомземе начальником отдела по производству биопрепаратов, это Главное ветеринарное управление, и мама пыталась связаться с его руководством. Ей несколько раз назначали срок: позвоните тогда-то, зайдите тогда-то, но все это было напрасно. Ни одна встреча не состоялась, нигде! Поскольку аресты шли по всей стране, в каждой тюрьме выстраивались очереди, чтобы получить какие-то сведения о родных. Мама с бабушкой стали объезжать московские тюрьмы, их было достаточно. В очередях говорили, что там, где возьмут передачу, там и есть, кого ищешь. Но это было не совсем так. Потому что для папы брали передачи и в Лефортовской тюрьме, и в Бутырской, и в Таганской. А где-то не брали. Но на самом деле отец все время был в Лефортове. Также они узнали, что если после ареста мужа возьмут и жену, то тогда уже точно заберут и ребенка. Уходя на поиски отца, меня оставляли дома одну. Иногда просили соседку из квартиры напротив, если их долго не будет, зайти посмотреть, чем я занимаюсь. Говорили мне, что пошли в магазин. Или мама повела бабушку в поликлинику. Я не чувствовала особенно их отсутствия: я была самодостаточным ребенком в том смысле, что дома всегда была чем-то занята. У меня были игрушки, много книжек, альбом, краски, карандаши. Я любила рисовать, мне этого хватало. Я очень любила животных, поэтому дома всегда была какая-нибудь маленькая живность. В общем, мне было чем заняться. Конечно, возвращались домой они вымотанные, но при мне старались поддерживать более или менее благополучную обстановку. Рассказывали, как и что было, что-то сочиняли. Я как ребенок все принимала на веру, безусловно, и была вполне всем довольна, только ждала отца. Ведь когда в ту ночь его увели, мне сказали, что папа просто уехал в командировку. Я восприняла это нормально, потому что отец и раньше довольно часто уезжал в командировки. Я поверила, но не успокоилась, потому что мне было непонятно: зачем дядьки повели отца? Если он в командировку поехал, зачем вот это сопровождение? Был такой эпизод: меня пригласили на день рождения. В нашем же подъезде, на другом этаже, к какой-то девочке. В песочнице мы вместе играли, дружили, это называлось «водились». Вначале мама не хотела меня туда вести. У нее у самой не было настроения: она моталась по тюрьмам, искала, где отец… А я хотела. Да и бабушка говорила, что ребенок столько времени уже ждет, стих выучила. Хоть маленький праздник ей надо устроить. И мама меня повела. Позвонила, дверь распахнулась, я сразу увидела детей, они все столпились у входа: новый гость пришел! И мы же все знакомы. Я сразу прыгнула к ним туда. Но в ту же секунду мама девочки обхватила меня и вынесла на лестничную клетку. Дверь захлопнулась. Она не сказала ни слова. И тут уже я, как дорогой гость, стала лупить ногами и руками по этой двери, требуя открыть. Ну, сами пригласили? Пригласили. А чего же не пускаете? Конечно, я плачу, ну как же, обида такая! Бант у меня был большой, и подарок какой-то мне всунули, не помню, что там было, но все уже разлетелось по полу. На этот шум прибежала бабушка. И они вдвоем с мамой стали пытаться отвести меня домой. Я брыкалась, но все-таки они меня затащили. Ничего не понятно, в чем дело-то. Помню, я еще долго бушевала дома, плакала и сердилась. Очень были расстроены мама и бабушка. Они понимали, что находятся в глубокой изоляции. Соседи отвернулись, кто-то перестал здороваться. Мама говорила, что вот Марья Ивановна сегодня при встрече с ней перешла вообще на другую сторону улицы. Никто не хотел разговаривать, встречаться. Я это помню, потому что кто-то из ребят во дворе со мной перестал дружить, им запретили. И не потому, что так уж видели в моем отце врага народа, люди просто боялись, что они могут быть следующими. Вскоре пришли и за мамой. С момента ареста отца прошло около двух месяцев. За это время какие-то люди предлагали маме забрать меня и уехать из города. Потом, когда мама уже вернулась из заключения, мы говорили с ней на эту тему: «Мама, ну почему ты не уехала тогда, когда тебе предлагали?» Она отвечала: «Потому что я была убеждена, что меня никто не тронет». Она была в полной уверенности, что это ошибка и скоро во всем разберутся, все будет в порядке. Мама никак не предполагала, что ее могут забрать. И вот через некоторое время в нашем доме появился молодой военный и попросил маму проехать с ним на Лубянку по делу мужа. Мама была только рада: наконец она хоть что-то узнает. Потому что до сих пор никакой информации не было. У бабушки внутри что-то екнуло, она забеспокоилась. А мама — нет. Она была уверена, что это к ней не имеет никакого отношения. Очень быстро оделась. Высокий каблук, темно-синий английский костюмчик — она всегда очень элегантно одевалась, с большим вкусом. И сумочку взяла с собой маленькую. Военный сказал ей: «Возьмите с собой что-нибудь еще». Ну, а что еще взять? Мама ответила: «Ну, документы у меня с собой». Тогда он шагнул в ближайшую от входной двери комнату, снял со спинки стула какую-то невесомую вещь, это было мамино шифоновое платье, свернул его туго и молча запихнул маме в сумочку. Он же понимал, что он ее арестовывает, но не имеет права ничего говорить. На самом деле ей предстоит не один год. Конечно, это платье не сделает погоду в любых условиях, но будет хоть какая-то связь с домом, память, что ли. Молодой человек, может, еще неопытный, а может быть, с поэтической душой. Если б мама сообразила, что это уже конец. Она задала ему вопрос: «Зачем? Вообще, что это такое?» Он сказал: «Идемте, у нас мало времени. Внизу ждет машина». Позже мама рассказывала, что у нее промелькнула мысль: возможно, этот человек или ведет дело отца, или общается с ним, и, передав ему с воли ее вещь, он как бы успокоит отца. Такая благостная мысль у нее была. Маме был 31 год… И они ушли. Бабушка сказала, что мама ко мне даже не подошла: ненадолго ведь уходит. Я играла, чем-то была занята и не заметила, как она исчезла. Мама не пришла ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день. Бабушка поняла, что придут и за ребенком, поэтому надо спасаться, убегать из дома. По документам наша семья проживала в квартире втроем: папа, мама и я. Бабушка к нам приехала из Оренбурга и жила безо всякой прописки. Никто не знал, есть бабушка, нет. Получалось, пятилетний ребенок остался в квартире один. Я не помню никаких объяснений бабушки, помню лишь, что после исчезновения мамы за мной пришли, чтобы забрать в специальный детприемник. В дверях появился пожилой человек и сказал, что на основании документа — он предъявил бабушке какую-то бумагу — должен меня забрать. Я вцепилась в бабушкину юбку и заревела: «Бабушка, не отдавай! Не пойду, не надо!» А куда «не отдавай», я же не знаю, куда меня пришли забирать. Страшно было! Уже папы нет, мамы нет, не пришла она ночевать сегодня, и теперь за мной пришли. Бабушка, она была украинкой, начала кричать: «Ратуйте, люди добрые! Не отдам детину». Это значит: помогите, люди добрые, не отдам ребенка. Она кричит, я, естественно, плачу. И в это время к нам зашла соседка, ее бабушка позвала: «Помоги, Феклуша, помоги отбиться от официоза!» Феклуша, видя эту картину, все поняла. Говорит мужчине: «Не забирайте ребенка! Только недавно взяли сына, увезли невестку, не забирайте ребенка прямо сейчас, помрет старуха, приходите завтра…» И он ушел, пообещав прийти завтра. В тот же день бабушка убежала со мной из дома. В Москве у нее были еще две дочери, родные сестры отца. Она пошла к старшей, более благополучной. Но та сказала, что не может принять ребенка: «Вы, мама, можете остаться, а ребенка, как это и положено, надо отдать в детский дом». Она партийная, читает газеты, она вообще шокирована тем, что мой отец оказался врагом народа. Я слышала, как она говорила, что и меня надо отдать в детский дом. Это наложило отпечаток на мои взаимоотношения с ней в дальнейшем: я всегда ее боялась. И тогда бабушка развернулась и ушла со мной к другой дочери, у которой мы и остались до весны. Она жила с мужем и маленьким сынишкой лет двух в бараке, у них там была комнатка. Общая кухня, общий туалет, все дети играли в длинном коридоре. Через какое-то время и я влилась в этот поток, тоже стала играть. Никто и не знал о моем происхождении: в гости приехала девочка. Родителями интересовались, безусловно, но я и сама наговорила лишнего. Например, когда меня гладили по головке, говорили доброе слово, я чувствовала расположение, теплоту и сразу спрашивала: «Вы не знаете, где мой папа?» А ведь шли аресты, и скоро поползли слухи, что ребенок-то с изъяном, интересуется, где папа. Поэтому весной 1938 года тетя сказала бабушке: «Мама, надо Ритусю куда-то девать. Я не могу ее здесь оставить, у меня могут быть неприятности». Она член партии, очевидно, что нигде не указала, что родной брат арестован. Они с мужем работали в аэропорту, как и муж старшей сестры, и я очень портила им картину. И вот тогда бабушка, заранее созвонившись, повезла меня к родной сестре мамы, Елене Афанасьевне, у которой я и задержалась на многие годы. Она жила в трехкомнатной квартире на улице Палихе. Тетя с семьей располагались в одной большой комнате, а две другие занимали еврейские семьи, очень интеллигентные люди. Они все понимали, относились ко мне прекрасно. Знали, что в любой момент сами могут оказаться в такой ситуации. Один сосед вообще не закрывал свою комнату для того, чтобы я могла там играть. Его целый день не было дома, а у него на полу лежала шкура белого медведя с головой, зубами, лапами с когтями. Она была на специальной подкладке, но создавалось полное впечатление, что это настоящий белый медведь. Животных я любила всегда и этого воспринимала как живого, думала: а может, он еще и будет живым. Я его гладила, разговаривала с ним, так и засыпала на нем часто. Бабушка приезжала ко мне на Палиху и водила гулять под стену Бутырской тюрьмы. Она бросала мячик вперед по тротуару и громко кричала: «Ритуся, беги скорее, принеси мячик!» У нее был специфический хохляцкий выговор, и она рассчитывала на то, что кто-то — или мама, или отец — могут быть в этой тюрьме, услышат ее и будут спокойны за то, что я с ней, а не в детском доме. Мама действительно была там, но раньше. В то время, когда бабушка проводила эту операцию, маму уже отправили этапом в Казахстан, а отец был расстрелян. Тогда я не понимала, что это тюрьма. И конечно, что мой отец или мама в принципе могут быть в тюрьме — в голову не приходила такая мысль! Ну да, куда-то исчезли родители… Но я же всегда фантазировала. Я жила в атмосфере своих представлений и мечтаний. Отца и маму я ставила в разные жизненные ситуации. То они у меня в Африке, кого-то ловят или обезьянок опекают. Папа же ветеринарный врач. Или они на Северном полюсе что-то исследуют, изучают. На что моя бабушка мне говорила: «Дурень думкой богатеет» — то есть сама придумает, сама радуется. Я все время приставала к бабушке: почему родители не взяли меня с собой? Ну как же они могли так надолго уехать? Бабушка не отвечала прямо на вопрос, отделывалась вот этой фразой. А я представляла, как они вернутся и мы пойдем куда-нибудь. В зоопарк или просто будем дома. Я уже давно не была в своем доме. У меня было ощущение, что я везде чужая. У тети было неплохо. Но дядя, я знала это, не хотел меня в доме иметь: у них было двое детей, а тут еще я. Конечно, он был раздражен: пятеро в одной комнате. Каждый день ощущалось отсутствие родителей. Получаешь какие-то незаслуженные обиды и начинаешь думать: а если бы была мама? А мамы нет. А где она, почему, как? И развивается такое состояние, когда ты хочешь уйти от всех, куда-то спрятаться, чтобы тебя никто не видел. Не хватало тепла. Именно безусловного принятия. Как-то тетя назвала меня сиротой. Ну, видимо, чтобы меня не обижали или что-то в этом роде. Я это услышала. Слово мне было непонятное, а раз так, надо выяснить. Когда выяснила, во всеуслышание заявила, что я не согласна! У меня есть мама и папа, только я не знаю, куда они вдруг делись. Но я не сирота, потому что я их хорошо помню! Однажды к дяде зашли его товарищи. Они расположились за столом, стали разговаривать, а я находилась за ширмой. Вначале я не слушала взрослые разговоры, мне было неинтересно. А у меня за ширмой всегда были дела: я или рисовала, или что-то лепила. И вдруг я услышала очень отчетливо имя своего отца. Посмотрела в щелочку: они кивали головами, позы очень прискорбные. Дядька сказал: «Конечно, у меня же его дочь». И кивнул в сторону ширмы. Он меня не видел, не знал, что я дома. И тогда я поняла, что мой отец в очень большой опасности и, возможно, я его больше никогда не увижу. Мне было девять лет. Но вместе с тем тогда же я поняла очень важную для себя вещь: мой отец честный и порядочный человек. Мне даже стало спокойнее, потому что я очень стеснялась. Я помню, что какая-то девочка перестала со мной общаться. Без всякой видимой причины. Оказалось, что ей просто запретили. И во мне все время шла внутренняя работа. Я начинала размышлять: в чем дело? Где мама, где отец? Например, были темы, на которые в доме совсем не говорили. Иногда меня даже предупреждали, если мы шли куда-то, что ни о маме, ни о папе нельзя говорить. И тогда я спрашивала: «Они сделали что-то плохое?» Я еще не слышала выражение «враги народа». Но что такое шпионы, диверсанты, я знала. Я любила читать, а в то время было множество книг про шпионов. Образ врага культивировался. Поэтому мы должны были быть честными, смелыми, чтобы распознать этого врага, выявить его. То есть шпиономания уже существовала, и дети были вовлечены. В 1941 году я уехала в эвакуацию в Оренбург к бабушке по линии мамы — Анне Сергеевне. С ней у меня не было особого контакта, она была очень недовольна тем, что я чаще вспоминаю отца, а не маму. Это ее обижало. Когда она сердилась, называла меня «упрямый хохол» — по отцу я же украинка, «не нашей породы», «собачья мать», потому что хлеб, который получали в эвакуации, я весь общипывала по дороге домой и раздавала собакам. Бабушка занималась поисками мамы, делала запросы в НКВД, но только году в 1943-м стало известно, что она в Казахстане, в Акмолинском лагере жен изменников Родины, АЛЖИРе. У бабушки был хороший «подарок»: у нее там была не одна дочь, а две: еще Нина, которая была замужем за торгпредом в Японии. Как позже рассказывала мама, сестры встретились совершенно случайно еще в Бутырской тюрьме. Мама увидела Нину в коридоре. Она была бледная как мел, шла шатаясь: над ней как над женой дипломата поработали еще более зверски. Мама хотела кинуться к ней навстречу, но та ей показала жестом: нет. Они обе носили разные фамилии, по мужьям. Никто не знал, что они родные сестры. И так им удалось попасть в один лагерь. В том, что сестры были в одном лагере, был плюс. Когда разрешили переписку, разрешили и посылки. И бабушка посылала гостинцы то одной дочери, то другой, и они могли делиться. Бабушка мне не сразу сообщила, что узнала, где мама и что с ней, — она имела характер нордический. Однажды я увидела, как она упаковала посылку и понесла ее куда-то. Я спросила: для кого это? Она мне ответила как-то невнятно. А в другой раз все же сказала, что это маме. «Так если маме, может, я напишу письмо или нарисую что-нибудь?» — спросила я. «Ну, напиши», — ответила она безразлично. Я спрашивала бабушку, куда она отправляет посылки, где мама. Она отвечала: «Ну-у, это далеко». Я уже знала, что мама в лагере. Поначалу я думала, что это такой лагерь, как пионерский. Я не знала, что такие места называются лагерем. Знала, что есть тюрьма. А здесь говорят не «тюрьма», а «лагерь». На карте по адресу я пыталась найти этот город — Акмолинск. И тут возникала другая проблема, не столько географическая, сколько психологическая. Дело в том, что каждая сторона родственников «раздваивала» мое сознание. Бабушка мне всячески показывала, хоть и скупо, что мама как жена врага народа в лагере из-за отца. А вторая сторона, папины родственники, наоборот, считали, что отец сидит в тюрьме из-за материнских «тряпок». Еще никто не знал, что он расстрелян. Мне было трудно разобрать всю эту информацию с двух сторон. Конечно, я склонялась к тому, что папа ни в чем не виноват, а мама оказалась в лагере из-за папы. И это все одна большая ошибка. Так я это все и воспринимала и несла в себе. Мама писала мне очень коротенькие письма.«Моя дорогая девочка, я тебя очень люблю. Как ты учишься? Какие у тебя подруги? Какие книги читаешь?»А я, в свою очередь, не писала ей ласковых писем, стеснялась. Когда мама исчезла, мне было пять лет, и наличие мамы рядом было необходимо как воздух. И теперь я не могла выразить свое отношение к ней, показать любовь, у меня не получалось. Я просто писала, что я делаю, как учусь, какие отметки получаю. Эта девятилетняя разлука в возрасте, когда происходит становление личности, — очень серьезное испытание, это очень трудно. Когда я встретилась с мамой, она была для меня совсем чужой. Она появилась в доме, а я ее не узнала. Мама должна была вернуться осенью 1945 года: ее забирали осенью, значит, осенью и выпустят. Вот наступила осень, я вся напряжена. Я и хочу ее видеть, и в то же время мне как-то неудобно. Такой открытости, когда ждешь любимого и родного человека, не было. И по мере того как приближался октябрь, ноябрь, я ходила по улице и смотрела в лица встречных женщин: мне хотелось ее узнать. Фотографии же я видела. Вот идет женщина, вот эта, в хорошенькой шляпке… В шляпке еще жду. Я не понимала, в каком виде выходят из тюрьмы. Но в ту осень мама не приехала. Потому что шел 1945 год. Окончание войны, всеобщее ликование в стране. Ну куда этих голодранцев отпускать? Чтобы они тут по всей стране разбрелись. Таким образом, мама отбыла в лагере девять лет вместо восьми. Прошел еще год. И осенью я снова ходила и высматривала женщин — так мне хотелось самой ее узнать. Не в доме, а на улице. Какая она? Мне было уже 14 лет. И вот в один из дней в комнату вошла женщина с перевязанным глазом. На ней был… бывает пуховый платок, который весь выносился, осталась одна бумажная основа, на ней уже нет пуха. Юбка, телогрейка и полупустой мешочек в руках. Такая женщина вошла в комнату и спросила осторожно: «Анна Сергеевна здесь живет?» Бабушка была в комнате, за печкой. Я ей крикнула: «Бабушка, к вам пришли!» И вот только когда бабушка вышла и они увидели друг друга, упали в объятия, тогда я поняла, что это мама. И ее вид, и все было настолько необычным для меня, что я не знаю почему, я и сейчас не могу ответить на этот вопрос, я в чем была — в домашних туфлях, в платье — выскочила из комнаты и через двор побежала к подружке в соседний дом. Там меня оставили ночевать. Я сказала, что приехала моя мама, она вернулась из тюрьмы. Я была и обрадована, и расстроена. Вот такая драма чувств. Наутро мама пришла за мной. Она держала в руках мое пальто, шапку — холодно уже было. Мы пошли с ней домой. Трудно было начать разговор, мы не бросились в объятия друг другу, потому что, наверное, мы обе из одного теста, обе сдержанные. Встречу с мамой я представляла по-другому. Я уже была смущена своим поступком, что убежала. Мне было стыдно. Мама сказала, что с подружкой дружить можно, но ночевать нужно дома. А я шла и слушала ее голос, я не вникала в суть слов. Мне было интересно услышать ее голос, настолько все забыто. Девять лет прошло! Конечно, что-то знакомое и родное было, но все это было странно и непонятно. Навстречу шли люди, и я думала: «Почему люди такие спокойные, безразличные? Ведь сейчас такое событие происходит на их глазах, ведь я иду с мамой!» То, что это для меня огромное событие, я понимала, но не могла выразить никак. Мама вернулась в Оренбург нелегально: у нее был запрет на проживание во всех областных городах страны. Прописали ее в деревне, но мама там не ночевала ни разу. Каждый месяц она платила хозяйке за угол, чтобы создавалась видимость присутствия: стояли какие-то кружки, вилки-ложки, все прочее на случай, если проверяющий хватится: где? А сегодня не приехала, а вообще-то здесь живет, вот ее комнатка… Жила она в Оренбурге у бабушки. Через пару месяцев после мамы из лагеря вернулась и тетя Нина. Какой же ужас был в комнате, в которой мы жили! Комната маленькая, мы с мамой спали на сундучке. Он был покатый, и чтобы мне лечь, отодвигали сундук от стены и стелили, я, по существу, спала в дырке. После маминого возвращения для меня многое изменилось. Во-первых, возникла серия запретов. Туда нельзя идти, сюда тоже нельзя. Если идти можно, надо спросить разрешения у мамы. Училась я спустя рукава, но много рисовала, очень этим увлекалась. И мама за меня взялась. С одной стороны, у меня было чувство: ну наконец-то я кому-то нужна, обо мне заботятся. С другой — ну вот, приехала и распоряжается. «Что ты ее слушаешь?» — говорила мне подружка. О лагере мама рассказывала отрывочно и сухо. Ее можно понять. Подробности я узнала позже. В тот день маму отвезли на Лубянку, завели анкету, забрали паспорт. У нее даже мысли не было, что ее арестовали. Так она оказалась во внутренней тюрьме Лубянки. Вызывали на допросы. Мама говорила, что ее не били, но заставляли долго стоять. Ноги затекали и деревенели, она падала, потому что отключалось сознание. Через несколько месяцев ее перевели в Бутырскую тюрьму. Она рассказывала, что, когда женщин вели по коридору, а навстречу неожиданно появлялась колонна мужчин, женщинам командовали стоять лицом к стене. Но каждая краем глаза старалась увидеть эту колонну, чтобы отыскать своего мужчину. И бывало, что узнавали своих мужей, но очень редко, потому что родственников разводили по разным тюрьмам. Мама тоже надеялась, что может встретить отца. Убедиться, что он жив. Но этой встречи не произошло. Из допросов мама узнала, в чем обвиняли отца. Ей заявили, что он — организатор диверсионно-террористической группы, проводившей подрывные действия в системе своего ведомства. Требовали, чтобы она призналась в своем участии во вредительской деятельности мужа. Вот в этот момент она поняла, что все беспросветно. Что действительно это не ошибка, это продуманная акция, и ни ему, ни ей отсюда не выйти. Еще следователь задавал вопросы, знает ли она, что происходит с ее ребенком. Где ребенок? И кто с ним остался? А как бы вы поступили, если бы знали, что от ваших ответов зависит судьба вашего ребенка? И ее охватывал ужас: она не знала, что в это время мы с бабушкой уже убежали. В Бутырке мама впервые получила информацию об отце. В тюрьме были свои неформальные лидеры, и эти люди знали, где в помещении есть тайники. В них закладывали информацию и потом считывали. Писали на обрывках ткани, царапали. Однажды в бане к маме подошла какая-то женщина и спросила: «Ты Андрющенко? Поступило сообщение из Лефортово, Андрющенко не вернулся с допроса». И добавила: «Ко мне не подходи. Если будет дополнительная информация, я сама тебя найду». Но она больше не подошла и дополнительной информации не было. Это было в начале ноября, а 3 ноября отца расстреляли. Так что все сходится, похоже на правду. Мама рассказывала, как проходил суд и оглашался приговор. Неожиданно ее вызвали на допрос, пододвинули бланк, напечатанный типографским шрифтом, — отказ от дачи показаний. Надо было вписать свою фамилию, имя, отчество, по поводу кого идет разговор — имя, отчество, фамилию отца — и подписать. В отличие от предыдущих допросов, на этот раз все было тихо, ни оскорблений, ни унижений. Мама подписала эту бумагу. Им уже было известно, что отец расстрелян — чего с ней возиться? Вскоре ей огласили приговор: восемь лет исправительно-трудовых лагерей с отбыванием в Казахстане, в городе Акмолинске. Был срок для жен врагов народа — пять и восемь лет. И женщины шутили: «Любимым женам давали восемь, а нелюбимым — пять». Моей дали восемь. Это как-то успокаивало. Мама приняла приговор хладнокровно. Она была очень уравновешенной. Их отправили по этапу в вагонах для скота. В полу была дырка для туалета. Не каждый мог так просто ею воспользоваться. Ни загородки, ничего. Вещей ни у кого практически не было. Кормили соленой рыбой. Воды не было. Поезд, кстати, шел мимо Оренбурга. И мама смотрела в щелку, когда его проезжали, — тут ее мама, родственники. Они приехали в Акмолинск на голое место. Военные строили бараки из самана — это такой навоз, в который добавлялась солома и вода. А женщины копали землянки: пока строят бараки, надо же где-то жить. Февраль, снег. А мама же в чем поехала: туфли на каблуках, чулки, юбочка, пиджачок — все. Только на месте им дали телогрейки и что-то на голову. Потом уже дали обувь. Вот, копают они, а по ногам течет — менструация, все были молодые женщины. С собой ничего нет! Мама говорила, лучше бы он мне вместо этого платья какую-нибудь наволочку положил. Первое здание, которое построили военные, была психушка для женщин, которые сошли с ума. Таких было очень много. После того как закончили строить землянки, маму взяли на работу в управление, так как у нее был хороший почерк. Оно находилось за чертой лагеря, и работали в нем вольнонаемные. Маму поставили на картотеку. Тут были карточки на всех находящихся в лагере. Это была постоянная работа, приходили все новые партии заключенных, и их нужно было отмечать. Но у мамы появились сложности: на нее положил глаз один начальник. Однажды он как-то вызвал ее к себе в кабинет. А мама уже знала про него все — что у него есть жена и трое детей. Они жили за зоной, но в зоне, в аптеке, работала его жена. И он маме сказал, я не помню в каких выражениях, что готов ждать ее освобождения, и они будут вместе. На что мама ответила: «Мое освобождение очень туманное, я не знаю, когда оно будет, но если это произойдет, то у меня есть семья — прекрасный муж и ребенок». И тогда на следующий день после этого разговора перед ней на стол легла бумага. В ней было написано, что Андрющенко Даниил Федорович осужден по статье такой-то, приговорен к расстрелу. И ниже строчка: приговор приведен в исполнение. Конечно, у мамы, когда она это прочла, сразу перехватило дыхание и потемнело в глазах, буквально так. Когда она немного пришла в себя, посмотрела на стол — а бумаги-то и нет. Она попросила, чтобы он показал этот документ еще раз. Но он отказался. Но по стилю, по всему было ощущение, что это был ответ на сделанный запрос. Вот когда мама узнала о расстреле. Но до конца она не поверила. Она подумала, что этот человек может подделать документ, ему это ничего не стоит. Но в сердце поселилась уже очень большая тревога. После школы я поехала в Москву поступать в архитектурный институт. Но оказалось, в нем не давали общежития, а мне оно было необходимо. Мы приехали вдвоем с подругой, погуляли по Красной площади, а потом зашли в МГУ. Увидели надпись «Приемная комиссия». Ну как не зайти! А мы обе с медалью окончили школу. Вижу — биологический факультет, ну, думаю, на биофаке все сразу узнают, что мой отец репрессированный. Мне нужно идти туда, где никто ничего не знает. И выбор пал на экономический факультет. И общежитие давали. Конечно, для зачисления мы заполняли анкеты. Я написала, что мой отец умер, а мама живет в Оренбурге, работает в инвалидной артели. Если бы я пришла и сказала, что у меня отец сидит, а мама недавно вышла из заключения, кто бы меня принял в МГУ, хоть я и с медалью? Я все скрыла, и меня приняли в университет. Шел 1951 год, Сталин был еще жив. Меня зацепили позже, через год, на втором курсе. Я была комсоргом группы, и однажды в аудиторию вошел какой-то человек и сообщил, что нужно оставить группу после семинарского занятия, потому что будет комсомольское собрание. Я очень удивилась, я же комсорг, почему же я ничего не знаю об этом. Так и спросила: «Почему мне ничего не известно?» Он ответил, что появилась необходимость. Я поинтересовалась темой. «Будем разбирать персональное дело». — «Чье?» — спросила я. «Твое!» — был незамысловатый ответ. Я тогда была еще молода, и меня это не сразило наповал, но очень озадачило, потому что я же знала, какую информацию я скрыла при поступлении в университет. И вот когда группа была в сборе, этот представитель из комсомольского или партийного бюро занял председательское место и сказал, что поступило письменное заявление на одну из студенток. Сейчас мы рассмотрим этот вопрос. Ну, все, конечно, зашумели: «Какое заявление? На кого? Как? Что?» И тут он говорит, мол, ваша одногруппница Андрющенко обманула приемную комиссию при поступлении в университет. Причем он все время делал акцент на факте обмана. Не на том, что у меня такие родственники, а что я обманула комиссию при поступлении в лучший ВУЗ страны, куда поступают только имеющие безупречную биографию и т. д. А тут вон какой факт. Он изложил канву и задал вопрос: «Кто хочет высказаться?» Ну, сразу моя подружка, самая близкая. Имейте в виду на будущее: раньше всего предадут близкие подружки, потому что они владеют большей информацией. Она сказала, что поражена, и, конечно же, я не имела права поступать в МГУ, и что я заняла чье-то место. Когда собрание завершилось, я подошла к ней и сказала, что мой отец — честный и порядочный человек, никак не меньше, чем твой, и мне не стыдно за него. А ее — не отец, а отчим — был Героем Советского Союза. Вот так я с ней разобралась. В решении записали: исключить Андрющенко из университета и из комсомола. Когда я приехала в общежитие, рухнула на свою кровать и несколько дней не ходила на занятия. И в голове была только одна мысль: «Значит, здесь меня исключают. И черт с вами! И не буду здесь учиться! Мне и не надо учиться на экономическом. Уйду в архитектурный!» В отношении меня было несколько этапов обсуждений. Длилось все в общей сложности с осени 1952-го по зиму 1953 года. В какие-то инстанции меня водили за руку, я уже почти не могла ходить. Последним был райком комсомола. Там приняли решение, но результат я узнала не сразу. Только через некоторое время мне сообщили: выговор без занесения в личное дело. Оставить и в комсомоле, и в университете. Такое решение было, потому что вскоре Сталин помер. Это было в те дни. Вначале мы узнали, что его дела плохи. По радио — «пи-пи-пи» каждые пять минут — температура такая, состояние такое, сейчас чихнул, сейчас кашлянул. Конечно, уповали, что он не встанет. Но одновременно был и страх: а что будет? Потому что мы выросли в этих тисках. И считали: может быть, так и надо?.. Но вместе с тем была и какая-то глубокая надежда на то, что кончится этот ужас. И вот мы услышали по радио: «Сегодня во столько-то сердце остановилось». Я выдохнула и сказала: «Слава богу! Почему только сегодня? Почему этого не случилось раньше?!» Я была на его похоронах. Мне было важно туда сходить, чтобы увидеть, что он мертв. Потому что поверить, что он умер, было невозможно. Это была всеобъемлющая и всесильная фигура. Я должна была туда пойти. И пошла с венгерской делегацией, у меня была подруга-венгерка, которая все прекрасно обо мне знала. Делегация была небольшая, человек двадцать пять. Мы прошли свободно, нас провели прямо к Колонному залу, очередь прервали, нас пропустили. И так несколько раз в очередь вставляли разные делегации. А когда я вошла в зал, я так зарыдала! Мои слезы все воспринимали как норму — все плакали, только я плакала по другому вопросу. Оттого что это не случилось раньше. В 1956 году, еще до ХХ съезда КПСС[11], мы с мамой написали письмо Хрущёву[12] с просьбой разобраться в деле отца и выяснить, действительно ли он виноват, и если да — то в чем, какова его судьба. Мы же не знали, что он расстрелян. А летом, после того как съезд прошел, стало ясно, что начинается процесс реабилитации. О докладе Хрущёва о развенчании культа личности Сталина я узнала в университете. Нас собрали, прочли доклад. Мы сидели курсом, тем самым, который когда-то выносил предложение по моему исключению из университета и комсомола. Я видела, что кто-то смотрит на меня искоса, наблюдает за реакцией. После собрания никто не подошел ко мне. Сразу это ни у кого не уложилось в голове, для большинства все услышанное было неожиданностью: развенчание великого и мудрого. В тот же год мама получила справки о реабилитации на себя и на отца. В каких-то справках так и было написано: «посмертно». Мама понимала, что его нет. Я не понимала. Я хотела верить, что он жив. Я надеялась на это вплоть до 1990-х годов, когда смогла увидеть дело отца.

ГЕОРГИЙ КАРЕТНИКОВ

Ольга Гальперина (справа), Анастасия Цветаева и Георгий Каретников, Москва, 1970-е годы
Интервью записано 12 февраля 2017 года. Режиссер Мария Гуськова. Оператор Денис Гуськов.
Георгий Николаевич Каретников родился 12 октября 1938 года в Акмолинском отделении Карлага, известном как АЛЖИР. Его мать, пианистка и музыкальный педагог Ольга Гальперина, была приговорена к восьми годам лагерей. Первые восемь лет своей жизни Георгий провел в детском бараке лагеря. Дети заключенных не имели возможности общаться с родителями, поэтому он увидел свою маму только в 1946 году, в день окончания ее срока. После освобождения Ольга Гальперина не имела права жить в Москве и других крупных городах, поэтому они с сыном поселились «за 101-м километром» — в Александрове. Как бывшая заключенная, она не могла получить место преподавателя и работала вышивальщицей в артели. Впоследствии Георгий Николаевич окончил консерваторию, работал обозревателем и комментатором на радио.
«В детстве мир воспринимается чище и лучше. Даже этот мир за проволокой, правда»
Причин ареста мамы я не знаю — меня тогда еще не было. Все знаю по ее рассказам. Из этого собирается какая-то картина. Моя фамилия Каретников. Мой отец не был с мамой зарегистрирован, у него была другая семья. Мама, Гальперина Ольга Семеновна, окончила Киевскую консерваторию. В Киеве была очень сильная фортепианная школа, сильнее, чем в Москве. Профессура известная — Тарновский[13], Нейгауз[14]. В 1933 году мама переехала в Москву, и ей дали квартиру на Новинском бульваре. Трубниковский переулок, пристроечка во дворе: кухонька, две комнаты. Там рояль она поставила. Мама сразу стала играть в каких-то концертах, очень часто выступала, она была одной из любимых учениц Тарновского. Но ее тянуло преподавать, и она организовала в Москве музыкальную школу. Это была третья музыкальная школа Свердловского района. Сейчас она называется Шопеновский колледж[15]. Мама была первым директором и преподавателем этой школы. Про ее личную жизнь я тогда, естественно, ничего не знал. И она, как ни странно, мне даже впоследствии не рассказывала. Маму арестовали в начале 1938 года. Когда за ней пришли на Новинский бульвар, она была там вместе со своей дочкой Леной — это моя сестра, у нее другой отец. Лена тогда еще в школе училась. Сотрудники НКВД позвонили начальству: «Здесь, кроме Гальпериной, есть еще девочка». «Забирай Гальперину, ребенка не трожь», — было сказано. Лену оставили на соседку, а потом в детдом отправили. А маму забрали. Мама тогда, возможно, даже не знала, что она беременна. Моя лагерная жизнь началась у нее в утробе. Впервые я увидел этот мир уже в АЛЖИРе. Так назывался Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Я был первым ребенком, родившимся в лагере. И для меня первое впечатление — это колыбельные, которые мама мне пела, когда меня кормила. Я знал просто все колыбельные Моцарта, Брамса, Чайковского, Шуберта. Поэтому у меня, кстати, абсолютный слух. Как мне мама рассказывала — это такой штрих, — когда я родился, она оказалась в землянке, где уже была женщина с грудным ребенком. Это была Рахиль Мессерер[16], из известной в Москве семьи Мессереров-Плисецких. Короче говоря, это была мама Плисецкой Майи Михайловны с ее младшим братом, Азарием. Дело в том, что в лагере детей отбирали у матерей, потому-то они для нас и построили детский барак. Причем этот детский барак был не на территории лагеря — он был за лагерем, мы за своей проволокой были. Из лагерной жизни я помню очень мало, но довольно ярко. Я помню проволоку, я помню ров перед проволокой и за рвом — снова проволоку. И нас выводили даже иногда вокруг, снаружи, гулять — ну, дети не такие опасные, как заключенные. Нашу воспитательницу звали Сима Моисеевна. Это я точно запомнил. Помню дорогу за проволокой, где ходили женщины. И Сима Моисеевна мне говорила: «Вон там идет твоя мама». А я не очень понимал, что это такое — мама. Для меня мамой была Сима Моисеевна: она меня кормила кашей. Еще я помню за проволокой весной — тюльпаны, ковер тюльпанов в степи. Это красота! И маки летом! Тюльпаны и маки, ковры колышутся. Вот такое впечатление красоты за проволокой, и я никак не мог туда попасть, никак не мог на этих коврах оказаться, потому что мы не могли отходить далеко от проволоки, когда нас выводили. С утра, в шесть часов, нас поднимали, и мы слушали гимн, стоя в своих кроватях. А потом — завтракать. Я помню, все несладкое было, а вот гостинцы, которые из лагеря передавали, они были очень сладкие. Мне Сима Моисеевна говорила: «Это вот гостинцы от старших». Она тоже из заключенных была и знала, что это не мамины гостинцы, что их все заключенные для нас собирали. Но мне поначалу было очень сладко жить: группа небольшая в этом детском бараке, мы в одной комнате все умещались. Мы сидели за столами, и нам жутко нравилось, что Сима Моисеевна подходила и пробовала у всех еду. Мы звали ее: «Сима Моисеевна, у меня попробуй! У меня попробуй!» И ждали в очередь, когда Сима Моисеевна подойдет и попробует — она наша воспитательница, наша мать. У меня воспоминания самые радужные на самом деле от лагеря. В детстве мир воспринимается чище и лучше. Даже вот этот мир за проволокой, правда. Мама мне рассказывала, что в лагере занималась еще и художественной самодеятельностью. Она говорила, что там около девяти тысяч женщин было. Под конец образовалась даже хоровая группа, какие-то кружки. Мама вспоминала, что начальник лагеря, Баринов его фамилия, был приличным человеком. У него было двое детей, и маму водили к ним преподавать музыку. Дома у них было пианино. А потом пианино появилось и в лагере. Маме в лагере все ее способности пригодились, ведь она прекрасно играла на рояле и импровизировала. В любой тональности могла на слух аккомпанировать певцам. Был приказ Сталина — забирать детей из лагерей. И в один из уроков с его детьми Баринов сказал маме, что в лагерь уже едет специальная комиссия. А мама ему ответила: «Если вы моего сына отдадите, я тогда не буду заниматься с вашими детьми». Открыто, прямо. Он ей ответил: «Ну, хорошо, Гальперина, до свидания». На следующий день Баринов объявил инфекционный карантин по всему лагерю. Таким образом она и меня спасла, и всех детей, которые там были. Это начальник лагеря спас, конечно, но она спровоцировала его на это. Ему было принципиально важно, чтобы мама занималась с его детьми. В первый раз я маму увидел только в 1946 году, когда она освободилась. Она пришла за мной и повела в женский барак,собираться в дорогу. Трогательности никакой там не было: я не бежал навстречу и не тянул к ней ручки, я так помню. То есть чувства радости у меня большой не было. Женский барак был похож на железнодорожный вагон: с двух сторон двухэтажные нары, закрытые занавесками. Помню, я там стоял, ждал ее, пока она собирала вещи. А дальше был товарняк. Мама не одна уезжала: с ней ехали тетя Зина Рыкова и Лена Ушакова — тоже бывшие заключенные. Мы ехали в товарном вагоне и оказались в Боровом, это тоже в Казахстане, не так далеко. Там эти три женщины сняли комнату в деревенском доме. Мама стала где-то работать, а меня определили в школу. Почему-то меня спросили: «В какой тебе класс?» Я ответил: «Во второй» — мне в первый не хотелось. Во второй пошел. Но мне там скоро сказали: «Вы для второго не годитесь! Рановато! Идите в первый». Я очень обиделся и пошел домой. Сказал маме, что меня в другой класс отправили. Она не удивилась: «Ну, бог с ним. Не ходи, лучше паси поросенка». Они купили поросенка: втроем скинулись и купили поросенка для того, чтобы сделать колбасу в дорогу — ехать в центр. И я его пас все лето и осень. Поросенок вымахал в огромную свинью, за которой я гонялся. Потом у меня на глазах тушу свежевали, и женщины делали всякие колбасы для того, чтобы отправиться в путь. Когда мы сели в плацкартный вагон, я понял, как он отличается от товарняка, в котором мы раньше ехали. Мне мама сказала: «Ты будешь ехать на третьей полке». И я был безумно счастлив. Там багажная полка, третья. И я ехал и пел песню, которую слышал по радио: «Мне сверху видно все, ты так и знай!» Я смотрел вниз и пел. Такая вот веселая компания ехала из Борового в Москву! Несколько дней ехали, долго. Поэтому мясо так нужно было. И еще на взятки — чтобы им расплачиваться. Мама дала телеграмму Лене, и на вокзале нас встречал отец. Мой отец. Мама ему сказала: «Ты сына оставь пока у себя. Я должна поехать и устроиться в Александрове». И я несколько дней должен был провести у отца. Отец. Я все это время его не видел. Не знал. Книжки я тогда еще не читал и не мог вообще понять, какие функции выполняет отец. Он отвез меня на какую-то квартиру и сказал: «Сиди, никуда не ходи, я утром приду к тебе». Переночевал я там один, проснулся рано утром и целый день его ждал. А потом он приходит, а я сижу под дверью. На следующее утро он отвез меня к маме в Александров. Я его даже папой назвать не мог никогда. После освобождения мама не имела права жить в крупных городах, поэтому мы поселились в Александрове. Она там работала вышивальщицей в артели, ей нельзя было устроиться по специальности, преподавать — категорически запрещено. Ее просто не принимали на работу. В Александрове многие бывшие заключенные жили на птичьих правах: снимали жилье и выполняли самую подножную работу не по специальности. Там была музыкальная школа, но маму не принимали. Она ходила в общеобразовательную школу — ее не взяли. В Александрове фабрика была — «Искождеталь» называлась, и на этой фабрике была швейная мастерская, в ней мама работала вышивальщицей. Она замечательно вышивала гладью, наверное, научилась в лагере. В лагере у мамы полиартрит начался, от переохлаждения. Они ходили зимой за камышом для отопления бараков. Там печка общая на барак. И эту огромную металлическую печь топили камышом. Вот эти походы за камышом и сказались, я думаю, ну и вообще, в бараке-то было холодно, не хватало тепла от печки. Вот и полиартрит. После лагеря, уже в Александрове скопив какие-то деньги, она поехала в Цхалтубо лечиться. Под Кутаиси есть источник и грязевые ванны, там многие суставы вылечивают. Действительно, она вылечилась, ей стало легче сразу. И мама после этого смогла преподавать и играть. Когда ее арестовали, мой отец остался в Москве и писал ей патриотические письма:«Береги себя, мы здесь, в Москве, боремся с фашистами вместе со всем советским народом».А что он мог писать туда, в лагерь? Это сороковые. Это война. Мой папа был человеком легкомысленным, по меньшей мере. Мне трудно брать грех на душу, очень трудно думать про него что-то плохое. Но я знаю, что потом он от меня отказался. Официально. Тогда маме было очень нелегко. Я учился в хоровом училище в Москве: у меня был голос детский, очень красивый, и Свешников на отборе взял меня к себе первым кандидатом в хор мальчиков. Но обучение было платным: 600 рублей — до реформы это большие деньги были. А мама зарабатывала вышиванием, колола себе пальцы, пианистка. Она просила отца помочь, но он отказался. Маме нельзя было в Москву приезжать. За ней ходила охрана, передавали ее с рук на руки. Но тем не менее она пробивалась и пару раз приезжала в Москву из Александрова. Она даже смогла пробиться в Министерство культуры, где отец работал в то время, и он ей выдал копию вот такого документа:
«Каретников Георгий Николаевич — не мой сын, и ко мне никакого отношения не имеет».Подпись — «Каретников Николай Георгиевич». И печать. Я эту бумагу очень хорошо помню. Меня тогда поразило просто: Каретников Николай Георгиевич подписывает, что Каретников Георгий Николаевич — не его сын. Знаете, мне это было до слез обидно! Мне не хватало отца, конечно. Потом стало противно. Как-то раз я пришел к нему, когда уже в консерватории учился, а он маму стал обвинять: «Она мне испортила карьеру, жизнь». Я говорю: «А мне сохранила». И ушел. У меня есть некоторые основания считать, что отец принимал какое-то участие в событиях, которые привели к маминому аресту. Потом, когда он уже постарел, как-то решил позвать меня на разговор у себя в квартире, чтобы я скрасил его одиночество. Помню, он сидел, набивал папиросы табаком при помощи специальной машинки. И вот я думаю, хорошо бы, чтобы это было не так, чтобы он не был причастен к доносу на мою маму.

ОЛЕГ АРЕФЬЕВ

Семья Арефьевых в ссылке в Холмогорах, 1930–1933 годы
Интервью записано 18 сентября 2017 года. Режиссер Ирина Бузина. Оператор Вероника Соловьева.
Олег Николаевич Арефьев родился 1 сентября 1929 года в Ленинграде. Его отец был проповедником Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня[17]. Впервые был арестован в 1930 году за участие в обряде крещения и выслан на три года в Холмогоры Архангельской области. В 1937 году начались массовые аресты служителей церкви. 26 января 1938 года Николай Арефьев арестован. 20 марта 1938 года приговорен к расстрелу. В июне 1938 года Олега вместе с матерью отправили в ссылку в Ярославскую область, в город Рыбинск. Арефьев окончил семилетнюю школу и поступил в Рыбинский машиностроительный техникум. 29 июня 1949 года в баптистерии московской Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня принял крещение. 18 февраля 1960 года рукоположен. В 1980 году Арефьев переехал в Ленинград и добился официальной регистрации ленинградской общины Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня, имевшей с 1938 года полулегальный статус. Только в 1982 году Олег Николаевич узнал, что его отец был расстрелян в Ленинграде сразу после суда, в апреле 1938 года, и похоронен в Левашово[18].
«Вы папу у меня забрали, так хоть Евангелие оставьте!»
В первый раз моего отца арестовали в 1930 году, примерно через полгода после того, как я родился. Отец тогда состоял в общине Адвентистов Седьмого Дня и участвовал в обряде крещения, в таком обряде, когда человек вступает в завет с Богом. Тогда такая деятельность была запрещена. И хотя отец не был священнослужителем, только руководителем хора, его обвинили и выслали в Холмогоры, на родину Ломоносова[19], на лесозаготовки. Но проработал недолго. Как интеллигентный человек, музыкант, он не выдержал суровых условий климата — холодно, влажно. Сильно простудился, лежал в бараке с очень высокой температурой, умирал. В то время не особо заботились о людях, особенно об их здоровье. И вот отец лежал на нарах, молился, вдруг услышал знакомый голос. Оказалось, что из Мурманска приехал человек, которому он когда-то жизнь спас. Его назначили уполномоченным вербовать рабочих. В Мурманске не хватало рабочих рук. Как мой отец спас ему жизнь? Этот человек — имени я его, к сожалению, не помню, — пережил большую трагедию. Вся его семья погибла на Волге. Катались на лодочке, лодка перевернулась. Спасти ему никого не удалось. Это горькое событие разрушило его жизнь, он бросил работу, стал пить. И вот одним поздним холодным вечером отец возвращался с концерта, увидел его, пьяного, под забором. Отец привел его домой. Мама ворчала: «Зачем ты, Коля, незнакомого человека подобрал?» Вшей на нем было полно. Помыли его, переодели, утюгом всех этих вшей из одежды выпарили. Отец стал ему говорить, что есть еще надежда, что жизнь продолжается. В общем, убедил его, что нужно встать на правильный путь и взяться за ум. Человек тот действительно вернулся к жизни, стал работать и считал себя обязанным моему отцу. Когда они встретились в Холмогорах, то он сказал: «Я тебе умереть не дам, как ты мне не дал!» Увез его сначала в Мурманск, определил в больницу, помог вылечиться. После выздоровления направил отца на шестимесячные курсы счетоводов, а потом взял на работу в трест «Мурманрыб». Отец пригласил нас с мамой в Мурманск, и мы всей семьей жили там три с половиной года как ссыльные. В Ленинграде тогда был страшный голод, а здесь было много рыбы, и она была очень дешевой. И так мы выжили. Я тогда выпил очень много рыбьего жира, считалось, что это помогает молодому человеку расти здоровым. Ну, а потом, когда отца освободили, кончился срок наказания, он вернулся в Ленинград и стал снова работать служителем Церкви Адвентистов Седьмого Дня — музыкальным руководителем, музыкантом-исполнителем. Многих научил играть на музыкальных инструментах. Мы тогда каждое утро в субботний день ездили в кирху. Это были светлые годы моей жизни, когда мы были все вместе — папа, мама и я. И свободно можно было еще собираться в доме молитвы. Община того времени была довольно-таки зрелого возраста, но очень дружная. Молодежь же тогда уходила в пионеры, комсомол, потом в партию. А все: и комсомол, и пионеры, и партия — учили, что Бога нет. Так воспитывалось поколение. За отцом пришли в два часа ночи 29 января 1938 года. Трое вооруженных человек — один офицер и два солдата с винтовками — делали у нас обыск. А мы жили в Ольгино, в 16 км по Финляндской дороге в сторону Выборга. В маленькой комнатушечке, арендовали ее у хозяина. У него жена умерла, а была она тоже адвентисткой. Ну, он и пригласил моих родителей — мол, так и так, приезжайте ко мне, теперь жены у меня нет, а свободное место есть. Солдаты хозяина нашего заперли и начали обыск. Пришли они ночью, а ушли в десять утра. Не знаю, что они искали, но утащили целый мешок религиозной литературы. Забрали у меня Евангелие. Я их пытался убедить: «При чем здесь Евангелие? Вы папу у меня забрали, так хоть Евангелие оставьте!» Но они не оставили ничего. У меня была закладочка для книг — на шелковой ленте типографический оттиск корабля, линкор такой красивый. Закладочка была очень ценная, мне ее папа подарил. Так они ее нюхали и смотрели и так и сяк на эту закладку, думали, что там секрет какой-нибудь есть. Но в конце концов закладку отдали. А Евангелие у нас забрали, Библию, псалмы, которые мы пели. А еще отец переводил с немецкого книгу «Патриархи и пророки». Все конспекты перевода тоже арестовали. Целый мешок книг загрузили и одному солдату отдали. И он уже в десять часов утра понес. Отца тоже забрали. Он при расставании просил помолиться, мы помолились. Еще поблагодарил маму: «Юленька, спасибо за прожитую жизнь!» Конечно, трудно рассказывать, как это было. Да, и еще отец сказал, чтобы мы все вещи продавали, если тяжело будет, но вот его скрипку просил не продавать. Мы скрипку сохранили, и я на скрипке тоже учился играть. Но не давали мне учиться, вот в чем дело. Я мог окончить только начальную музыкальную школу. У меня справочка есть. И, так сказать, азы знаю, ноты знаю, играю немножко, но я не скрипач. Я не могу сказать, что я такой скрипач, каким был отец. Мама после этой страшной ночи с арестом пошла в гости к жене одного знакомого священнослужителя. И говорит: «Вот ты знаешь, у меня такое горе!» — «А какое у тебя горе?» — «Мужа забрали». — «И у меня забрали». Вместе поплакали, вместе помолились. Но вскоре общину закрыли. Предложили избрать пресвитера, чтобы хотя бы был проповедник. Но все были напуганы: убивают людей. Если я пойду — меня тоже убьют. А папа не боялся. Он в руки Бога доверил все, он говорил так: «Что Бог допустит, то и надо принимать». Он до самого ареста участвовал в богослужениях — не бежал, не скрывался. Некоторые, конечно, считают, что это неправильно. Вот уже потом разные толки были: можно было уехать, где-то скрыться. Но отец считал, что нельзя так поступать. Все равно как уйти с поля боя. После ареста отца мама ходила в Кресты[20]. Передачи носила. Три недели принимали передачи, а потом перестали. Сказали, что всех арестованных перевели в дальневосточные лагеря без права переписки. А фактически их убили и привезли на Левашово. Вот такая была история. Убивали в Большом доме[21], вот там вот, через речку. Я помню, еще Крупская[22] была жива в тридцать девятом году, жена Ленина[23], и я ей написал письмо, чтоб она сообщила, где мой папа. Ее секретарь сказала, что папа выслан в дальневосточные лагеря без права переписки. А я тогда спросил: «А когда он напишет?» — «Ну, как ему разрешат, так и напишет». Вот такие были ответы. Через некоторое время и нас с мамой отправили в ссылку на десять лет в город Рыбинск. На сборы нам дали сутки. Помню такой случай. Мама работала на механическом заводе вахтером, на проходной. А у нас украли карточки хлебные. Мы стали молиться. Господи, видишь, у нас нет ни кусочка хлеба. Мне давали по карточкам 400 граммов, а маме — 600. Килограмм давали двоим на день. Карточек нет — хлеба нет. А больше нечего есть. Нигде в магазинах ничего нет, ничего не купишь. Да и денег нет. Ну вот и молились Богу, чтобы дал кусочек хлеба. И вот что произошло, как мама рассказывала: «Сижу я на проходной, дежурю, смотрю, едет на санях хлебовоз, везет хлеб. А сзади два пацана прицепились к нему, к этому ездовому. Но он сидит впереди, а сзади стенка свободная. И полозья торчат, мальчишки на полозья встали, вырезали отверстие в стенке ножом и несколько буханок на снег бросили. А буханки тогда большие были. Схватили мальчишки по буханке и удрали». Мама смотрит, что еще одна буханка упала рядом, а другая — чуть подальше. Буханки лежат. Думает, приедет же ездовой, спохватится, что недостает у него по счету. Пусть и берет. Но так и не приехал до утра. Она взяла эти буханки, принесла домой. Такая была радость! Бог послал нам в нашу нужду кусочек хлеба. Я помню, одну буханку мы выменяли на кастрюлю. Кастрюли у нас не было, не в чем было варить первое. А вторую буханочку растягивали на неделю, пока не получили карточки. Вот такая история была. Бог не оставляет, если ты его любишь. Вскоре началась война. Но вы знаете, все в руках Бога. Я могу ошибаться, конечно. Но не затем ли нас Бог выгнал из Питера в Рыбинск, чтобы мы от голода не умерли во время блокады? В Рыбинске и бомбежек почти не было. Несколько раз пролетал немец, сбили его. На площади потом показывали этот самолет. Я туда тоже ходил, смотрел. Нас напугали, что они в чешуе, с рогами. А потом как-то пленного увидел. Такой же мужик, как и наши. Только рыжий. Все, больше ничем не отличается. Ну, и так как-то себя убедил, что все это пропаганда. Когда бомбили, люди страшно пугались, на стены лезли от страха. Помню такие картины: соседка в одной сорочке бегала по двору, обезумевшая от страха, не знала, куда ей деваться. Во время тревоги, бомбежек люди стали приходить к нам домой, спасаться. Мама у них спрашивала: «Почему именно к нам приходите?» — «С вами же Бог!» — отвечали. Зимой 1948 года мама отказалась сотрудничать с НКВД, за это нас с ней разлучили, ее отправили в Новосибирскую область, на север Транссибирской магистрали, на торфоразработки. В другую ссылку. После окончания техникума мне дали направление в город Брянск. Я стал работать на заводе «Дормаш». Я тогда писал всем, везде, в разные инстанции. Ворошилову, Берии[24] писал, добивался реабилитации, ну, а толку никакого не было. Но в один момент вызывает меня секретарь директора завода (у нас громадный завод, несколько тысяч рабочих) и говорит: «Арефьев, вам телеграмма». Ну, я взял телеграмму, прочитал, а это телеграмма от мамы, три слова: «Еду, радуюсь, мама» — и стал подпрыгивать от радости. Секретарша смотрит на меня в недоумении: «Арефьев, что с вами? Что случилось?» Я говорю: «Вам не понять созвучий песен нежных». Очень я рад был, что мама возвращается из ссылки. И вот мама ко мне приехала, устроилась заведующей гостиницей. От завода была гостиница для командировочных специалистов. Но после ссылки у мамы в паспорте был так называемый параграф номер девять, запрещающий проживание в больших городах, тем более в областных. А Брянск — это был областной город. И пришлось ей уехать. Устроилась она сторожем в парке в маленьком городке Тверской области — охраняла прогулочные лодки. Я переехал в Москву, окончил курсы, получил специальность водителя. Работал в гараже на 600 автомобилей, он тогда стоял на месте храма Христа Спасителя. Я начал свою работу в тот момент, когда Сталин умер. На Красной площади гудели гудки, остановился транспорт. И вот вышел к водителям начальник нашей колонны и говорит: «Одна собака умерла, другая будет». Знаете, для меня это было как мечом по голове: как он мог сказать? На Сталина так сказать! Оказывается, он когда-то рассказал про Сталина анекдот и отсидел 10 лет от звонка до звонка. О приговоре папы… сейчас расскажу. Это где-то было в 58-м году. Я пришел сюда, в Большой дом, говорю: так, мол, и так, Арефьев, у вас должно где-то быть в архивах его дело. Это мой отец, я хотел бы видеть. хоть знать, где его косточки находятся. Через двадцать минут приносит мне офицер папку со скоросшивателем. И вот я смотрю, какие же там обвинения. Да, отец занимался миссионерской работой. Он говорил людям, как я вам сегодня говорил, о Христе, о Законе Божием. Но какая же это контрреволюционная деятельность? Мама, конечно, очень любила отца и всю жизнь очень горевала. На протяжении всей жизни (она умерла в 1969 году) разные люди, хорошие мужчины, предлагали ей руку и сердце. Пытались. Хорошие, положительные такие. Но она не соглашалась. Она ждала его живым. Что он придет, он приедет. Коленька придет. А Коленька — в Левашово.
Церковники и сектанты Семья Олега Арефьева испытала на себе всю тяжесть антиирелигиозной политики советской власти в 1920–1930-е годы. С 1917 года власть последовательно искореняла религию, считая ее несовместимой с марксистско-ленинской идеологией. Пик борьбы с верующими пришелся на 1929 год. В апреле 1929 года в советской печати было опубликовано постановление ВЦИК «О религиозных объединениях», в соответствии с которым закрывали церкви, арестовывали их служителей и фактически пресекалась всякая церковная деятельность евангельских общин, в том числе и реформационного движения Адвентистов Седьмого Дня. В Резолюции II Всесоюзного съезда воинствующих безбожников, состоявшегося в апреле 1929 года, адвентисты, баптисты, евангельские христиане и методисты были объявлены особо опасными религиозными организациями, а их руководители — агентами шпионских организаций международной буржуазии. Христианские служители лишились избирательных прав, что влекло за собой увольнение со службы, лишение пенсий, потерю права пользоваться кооперацией, лишение хлебного пайка и т. д. Репрессивная кампания начала 1930-х годов привела к арестам как лидеров и отдельных членов движения Адвентистов Седьмого Дня, так и целых общин. Период Большого террора 1937–1938 годов стал самым тяжелым временем для верующих. Основанием для массовых репрессий послужил секретный оперативный приказ НКВД СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» от 30 июля 1937 года. В приказе перечислялись враждебные для советской власти «элементы», включая «в прошлом репрессированных церковников и сектантов», предписывалось «самым беспощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских элементов». В целом на основании этого приказа с августа 1937 по ноябрь 1938 года было репрессировано более 770 тысяч человек, из которых 390 тысяч человек были казнены, 380 тысяч отправлены в лагеря ГУЛАГа. Среди всех репрессированных «церковники и сектанты» составили 50 769 человек, то есть 6,6 %.
АНАТОЛИЙ МЕДВЕЦКИЙ

Анатолий Медвецкий, 1950-е годы
Интервью записано 1 ноября 2017 года. Режиссер Мария Гуськова. Оператор Денис Гуськов.
Анатолий Иванович Медвецкий родился 9 июня 1927 года (согласно паспорту 2 июня 1928-го) в селе Махновка Житомирской области Украины. Его отец, поляк по национальности, работал сапожником в промартели. Осенью 1937 года был арестован НКВД, сначала помещен в тюрьму в Бердичеве, а незадолго до вынесения приговора переведен в Винницкую тюрьму. 2 февраля 1938 года Иван Иванович Медвецкий был приговорен к высшей мере наказания «по политическим мотивам без указания ст. уголовного кодекса» и 1 апреля того же года расстрелян. Через год после расстрела Ивана Ивановича, желая узнать о судьбе своего отца, мальчик написал письмо Сталину и вскоре получил ответ:
«Толя! Твой отец — враг народа, он хотел погубить Советский Союз. Откажись от него».Лишь случайное стечение обстоятельств не позволило Анатолию Ивановичу последовать этому совету. Окончив мединститут и пройдя аспирантуру в Киеве, Анатолий Иванович Медвецкий стал хирургом, получил место в Кремлевской больнице и переехал в Москву. Несмотря на то что его отец был реабилитирован еще 21 декабря 1957 года, Анатолий побоялся указать в анкете, что тот был расстрелян. В 1990-е годы Анатолий Медвецкий приехал в Винницу, для того чтобы ознакомиться с личным делом Ивана Ивановича, и нашел в нем свое письмо к Сталину. Так он понял, что оно никогда не уходило дальше Винницы.
«Во мне до сих пор страх живет сталинский…»
Была поздняя осень 1937 года, где-то конец ноября. Однажды вечером, мы уже собирались ложиться спать, к нам постучали. Вошли двое мужчин в гражданской одежде, они не представились, спросили, где наш отец. Мама ответила, что он уехал в другой город: он был сапожником, поехал за товаром, материалом для сапог и туфель. Один из них сказал: «Когда вернется, если будет еще не очень поздно, пусть придет в НКВД». Для чего ему нужно явиться, они не сказали. Мама ответила: «Хорошо, хорошо, передам». Но когда они ушли, она заплакала. Мы уже знали, что многих забирают. Вроде бы только тех, кто в чем-то виноват. Поэтому никаких предчувствий не было. Вот когда пришли к нам, вот тогда… Отец действительно приехал очень поздно, выслушал мать и сказал: «Я пойду утром! Чего мне бояться? Я невиновен». Мама и старший брат уговаривали его: «Ну, не ходи туда, уезжай! У тебя же паспорт, ты же не зря его заработал! Ты можешь уехать к родственникам, устроишься там на работу. Уже 20 человек забрали, никто не возвратился!» Отец единственный в нашем селе имел паспорт — сделал кому-то из начальства сапоги, и ему дали паспорт. Но он отвечал: «Они, наверное, виноваты! Я же знаю о себе все, уверен, это недоразумение! Никуда я не поеду, меня отпустят!» Ночью мы все почти не спали. Помню, я каждые пять минут бегал в туалет. Теперь я понимаю, что это была «медвежья болезнь». Я нервничал. Мне было всего 10 лет. Задремал только под утро и проснулся оттого, что скрипнула дверь и мама сказала: «Ушел батька…» Я не слышал, как он собирался, что говорил. Он ушел, чтобы больше никогда не вернуться. В школу в тот день я не пошел. Мы ждали. Мама все время плакала. Вечером она поняла, что отец не вернется. Я помню, как она сказала: «Все». Была почти полночь, а я все ждал, сидел полусогнутый, засыпал. Мама отправила меня в кровать. На следующий день ни мама, ни брат искать отца не пошли. В НКВД идти боялись. Страх был уже только от одного звука — «НКВД». Очень скоро к нам пришли с обыском. Я не присутствовал при этом, мама велела мне уйти. Я не знаю, что они искали, но забрали у нас одежду, папин костюм, какое-то пальто. Уже позже мама говорила: «Я знала, что они придут». У нее было предчувствие, и она заранее спрятала нашу одежду: у нас, кроме нее, ничего не было. Поначалу отца держали в Бердичеве, и мама носила ему передачи. Двадцать километров пешком туда, двадцать — назад, никакого транспорта не было. Огромная очередь к окошку, куда передают посылки, там же что-то проверяют. Однажды у мамы не приняли посылку, сказали, что Медвецкий выбыл. Она вернулась домой заплаканной. Сосед же рассказал нам, что был в Бердичеве и видел, как гнали колонну людей на вокзал, и в ней был наш отец. Папа что-то пытался узнать у него, спрашивал, показывая на грудь: мол, что? Но сосед не понял. Наша мама в это время была беременной, и мы догадались, что папа хотел узнать о ней. От конвоира стало известно, что их отправляли в Винницу. Спустя несколько месяцев, в начале июня 1938 года, бабушка предложила мне поехать к отцу: «Давай поедем, у тебя день рождения скоро — 9 июня, папе будет приятно, если ты принесешь ему передачу». Мама болела, поехать не смогла, и мы отправились в Винницу вдвоем с бабушкой. Пришли в тюрьму, у нас приняли посылку. Мы еще не знали, что отца уже два месяца как нет в живых: его расстреляли 1 апреля, через пять месяцев после ареста. Отца мы, конечно, ждали. Думали, подержат и выпустят. Мама говорила: «Он вернется, посидит несколько лет и вернется». Не верили, что человека могут убить. Вот таких, как мы, деревенских, из колхоза. Мы не знали, за что людей арестовывали, но мама говорила: наверное, отец что-то сказал! «Языком ляпаэ, ляпаэ. Може, щось наговорыв…» А что же такое он мог сказать, что его за это забрали? Отец для нас не был преступником, какой он преступник? Он все время только работал. Мы жили в огромном селе Комсомольское — там было четыре колхоза, и папа работал в сапожной артели, что-то вроде службы быта. Трудился допоздна, чтобы прокормить большую семью. Постепенно я свыкся, что отца нет. Но надежда меня никогда не оставляла. Мама говорила, что будет ждать его всю жизнь. Так и ждала всю жизнь. Я учился классе в пятом, когда решил отправить письмо Сталину. Был у нас сосед, он постоянно подговаривал меня: напиши, что твой папа ни в чем не виноват, пусть разберутся, тебе ничего не будет, ты же ребенок! И я написал. Вот однажды я пришел из школы, и мама радостно сообщила, что мне письмо от самого Сталина! Я открыл и прочитал. Листочек маленький, внизу — подпись неразборчивая, фамилии никакой не было. Написано, что раз ты обращался к Иосифу Виссарионовичу, вот такой тебе ответ и совет:«Толя! Твой отец — враг народа. Откажись от него. Если у тебя есть ребята, у которых забрали родителей, откажитесь: они враги народа! Они хотели погубить нашу страну — Советский Союз. Ты подойди к своей учительнице, покажи ей это письмо, пусть она поможет тебе выступить перед пионерской организацией».И я ему, письму, как будто поверил. Мы ведь, когда видели портрет Сталина, так восхищались, аплодировали, кричали «ура!». Наш любимый, дорогой отец, учитель! Я тоже был такой. Подумал: а может, и правда враг народа? Тот, кто нашему дорогому Советскому Союзу не желает добра, а только погибели? Но значение этой фразы не соединялось у меня с отцом. Враги народа у меня почему-то были все остальные. А он — нет. Но раз уж он так долго не возвращается, то, может, он тоже с ними? Мама никак не прокомментировала «совет», сказала лишь, что письмо нужно обязательно показать учительнице. Я так и сделал. Вскоре учительница действительно написала мне доклад, который я собирался зачитать перед классом: мой отец оказался врагом народа, я от него отказываюсь и вас, всех ребят, у кого отцы арестованы, тоже призываю отказаться и т. п. Внутреннего неприятия этой речи у меня не было. Мой отец — враг народа, поэтому я с ним не дружу. Я даже не осознавал, что его предаю. Наступил этот день. Зазвенел звонок, вот-вот должно было начаться заседание пионерской организации, и вдруг — стук в дверь. Вбегает девочка, обращается к учительнице: «Марья Ивановна, Вова Кравченко тонет в туалетной выгребной яме! Там по шею!» И мы все побежали, конечно, спасать этого Володю. Тащили его за палку, но она поломалась, и он нырнул в яму с головой. Кто-то додумался бросить ему связанные ремни — вот за них его и вытащили. Сбежались учителя, директор, мы все обступили бедного Володю. Через окно столовой просунули шланг, приставили к нему, чтобы помыть, но слишком близко, да еще кто-то резко включил воду. Как брызнуло на нас! Человек двадцать пять, наверное, облило — это был кошмар! Потом мы шли по улице, и прохожие нам говорили: «Что это от вас так плохо пахнет? Это вы так плохо учитесь!» В общем, так Володя меня спас. И я не отказался от своего отца. А потом была война. Шел 1942 год, оккупировали почти всю Украину. Однажды к нам пришла знакомая и сказала, что в Виннице немцы ведут раскопки расстрелянных, и одна женщина нашла своего мужа, ей даже разрешили его похоронить. Мама прямо побледнела: не может быть! Расстрелянных? Она так и не верила, что могут расстрелять. Мы пошли к этой женщине. Там действительно уже похороны. Мама стала расспрашивать, как ей удалось найти мужа. И она нам рассказала: целое поле разрытых могил, трупы лежат лицами вверх, и люди приходят и ищут своих. Необходимо обязательно взять с собой щетки, сапожные или одежные, потому что все трупы обсыпаны каким-то белым порошком, его нужно счищать, чтобы увидеть лица. Отправились мы туда с двоюродной бабушкой, родной сестрой моей бабушки по маме. Мы были с ней из одного села, она жила со своей дочерью, у которой забрали мужа. Он был инженером-строителем. И теперь бабушка искала своего зятя. Поле мне показалось огромным. Запах стоял ужасный. Немцы разрыли братские захоронения, и повсюду виднелись длинные рвы, тела в них лежали друг на дружке валетом, очень много, наверное, тысячи. Они были в одежде и все густо обсыпаны хлорной известью. На поле стояли хирургические столы, как в патологоанатомическом театре, за ними — врачи в халатах, фартуках и противогазах. Они делали вскрытия. Мы начали искать — щетками стирали этот белый порошок с лиц. Мы просмотрели человек десять, наверное. Все были не те. И бабушке стало плохо, она упала. К ней подошли немецкие врачи, посадили, дали, видимо, нашатырный спирт — она была бледная-бледная. Возможно, я был от отца в нескольких шагах, и следующий труп был его. Но больше мы не смогли там находиться. После возвращения мне долго снились кошмары. Будто очищаю лицо у покойника, и вдруг он открывает глаза и смотрит на меня. Но это был не отец. Я просыпался от ужаса. Когда поступал в мединститут, заполняя анкету, в графе «отец» я написал «умер». Мама сказала: «Сынок, только не пиши, что твой отец в тюрьме, пиши, что он умер в 37-м». Мне было 18–19 лет, я уже понимал, что меня могут не взять в институт из-за того, что отец в тюрьме. О смерти Сталина я узнал в Киеве. Я был студентом пятого курса, снимал угол в квартире, и утром по радио мы узнали, что он умер. Бог ты мой! Я упал лицом на диван и зарыдал. Я рыдал больше, чем за отцом своим плакал! И хозяйка моя, и соседи, все рыдали. Помню, как какая-то бабушка, соседка, говорила: «Ой, дочка, поедем в Москву на похороны, поедем!» 1956 год, ХХ съезд КПСС, доклад Хрущёва. Я тогда работал в Киеве, в научно-исследовательском институте ортопедии и травматологии. Однажды нас собрали, и секретарь парткома прочитал закрытое письмо ЦК. Мы были в шоке! Оказывается, убивали! Может, и отца моего тоже? Все молчали, боялись что-то говорить друг другу. Наверное, именно тогда я понял, что отец уже точно не вернется. Но ни с кем об этом не говорил. Потому что страх жил все время. Во мне до сих пор страх живет сталинский… Когда отца реабилитировали, маму куда-то вызвали. Выдали компенсацию за изъятые вещи. Сказали, что отец расстрелян, признан невиновным. «А я так и знала», — сказала мама. Ничего нового для нее, наверное, не было. Мое отношение к Сталину поменялось в корне. Если бы передо мной встал палач, который приводил в исполнение приговор моему отцу, я бы его не тронул. Я бы просто посмотрел ему в лицо. Я понимаю, что их принуждали, запугивали, поэтому они пресмыкались. Но если бы ко мне пришел Сталин, я бы его расстрелял. Вы знаете, я ведь курицы в жизни не зарезал. Приезжаю в деревню к маме, так самое лучшее — вот это: «Сын приихав, курку тебе зарiжу». Я не мог зарезать! Я хирург, я оперировал сколько. А его бы я вот так: дайте пистолет! — и расстрелял. Вот такое у меня к нему отношение. Судите как хотите. «Он человек», — мне говорят. Какой человек? Другое дело, может быть, я не застрелил, а только ранил, потому что он был ненормальный. Это же ненормально — то, что он делал. Гитлер[25] уничтожал чужих людей. А он — своих! Своих родных расстреливал. Такое бывает? Году в 1993-м стало возможным посмотреть дело отца. Мы, три брата, поехали в архив. Нам дали отцовское дело, очень аккуратную папочку: все пронумеровано, прошнуровано, сзади — сургучная печать. Каждый листок допроса подписан папиной рукой. Сколько у отца их было — я не считал, очень много. На первых листах у него нормальная подпись. А вот дальше. На последних листах десяти, не меньше, — пятна крови. На допросах ему под ногти загоняли иголки. Отца обвиняли по двум пунктам: первое — якобы он сказал, что коммунизм все равно когда-нибудь лопнет. Вроде бы наш сосед донес на отца. В деле также лежало опровержение — во время реабилитации вызвали того соседа, и он отрекся от этого письма: «Это не я писал, это не мой почерк!» Мы поняли, что это от его имени написал сам следователь. А второе — помощь церкви. Папа пел в хоре в нашем католическом соборе. Там собирали какие-то деньги, поросенка содержали, и мы помогали понемногу: я резал крапиву, лебеду на корм. Папа что-то, наверное, получал за это. И вот это тоже ему вменялось. А еще в деле я нашел свое письмо Сталину: ни в какую Москву оно не дошло, перехватили его в Виннице, оттуда и пришел ответ, якобы от Иосифа Виссарионовича. По постановлению НКВД и Прокурора СССР мой отец был расстрелян по политическим мотивам без указания статьи Уголовного кодекса. Реабилитирован 21.12.1957 года Верховным Судом Украинской ССР.

Польская операция Отец Анатолия Медвецкого, поляк, стал жертвой так называемой «польской операции» НКВД, проведенной во время Большого террора. Значительная часть советских поляков, проживавших на территории СССР, была необоснованно обвинена в шпионаже в пользу Польши. Эта операция стала одной из «национальных операций», в результате которых было репрессировано более 335 тысяч человек. Все операции тщательно планировались и осуществлялись централизованно на основании решений Политбюро под непосредственным руководством И. В. Сталина. Всего в 1937–1938 годах органами НКВД было проведено более десятка «национальных операций» против поляков, немцев, румын, латышей, эстонцев, финнов, греков и других народов. «Польская операция» стала самой первой и самой крупной по числу жертв. 11 августа 1937 года нарком внутренних дел СССР Н. И. Ежов подписал оперативный приказ «О ликвидации польских диверсионно-шпионских групп и организаций ПОВ [Польской военной организации]», который вместе с закрытым письмом «О фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической деятельности польской разведки в СССР» был разослан во все местные органы НКВД. Под угрозой репрессий оказалось все польское население СССР. Приказ создавал особый внесудебный орган — «двойку» (Комиссия НКВД и Прокурора СССР). В регионах создавались местные комиссии в составе начальника регионального управления НКВД и местного прокурора (своеобразная региональная «двойка»), которые каждые десять дней составляли списки обвиняемых с кратким изложением сути обвинения, так называемые «альбомы». «Альбомы» отправлялись в Москву, где окончательное решение принималось наркомом внутренних дел СССР и Прокурором СССР или их заместителями. Такой порядок осуждения стал именоваться «альбомным». В репрессивной кампании были также задействованы Особое совещание при НКВД СССР и военные трибуналы. Всего по «польской операции» было осуждено 139 815 человек, из которых 111 071 были приговорены к расстрелу. Особенно сильно репрессивная кампания затронула места компактного проживания поляков: Каменец-Подольскую, Житомирскую и Винницкую области Украины.
ИННА ЖЕЛЕЗОВСКАЯ

Инна Железовская с родителями, 1932 год
Интервью записано 29 декабря 2016 года. Режиссеры Ирина Бузина и Вероника Соловьева. Оператор Наталья Макарова.
Железовская Инна Борисовна родилась в 1930 году в Москве. Ее отец Борис Иванович Железовский служил в Красной армии, затем учился на чертежных и бухгалтерских курсах в Москве. Работал в Очаковском трамвайном депо им. Апакова, позже — на кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Мать — Железовская Любовь Ефимовна (урожденная Гранат) — окончила консерваторию, была музыкальным работником в детском саду. 29 апреля 1938 года Бориса Ивановича арестовали на основании доноса. Особым совещанием при НКВД его приговорили к восьми годам ИТЛ по ст. 58–10 УК РСФСР. Наказание отбывал в Коми АССР (Локчимлаг, Устьвымлаг). Находясь в заключении, вел активную переписку с женой и дочерью, участвовал в ее воспитании. Умер от болезни и истощения в апреле 1943 года, не дожив трех лет до окончания срока, в поселке Вожаель. В 1948 году по совету своей матери Инна Борисовна поступила в медицинский институт — начиналась очередная волна репрессий, и было принято решение выбрать ту профессию, которая может пригодиться в лагере. Борис Иванович Железовский реабилитирован в 1989 году.
«Я, может быть, скоро приеду»
Мои родители поженились в 1927 году. Я родилась через три года в знаменитом роддоме Грауэрмана. Мама — выпускница консерватории, работала в детском саду музыкальным педагогом. Папа выучился сначала на чертежника, а потом и на бухгалтера. Из-за болезни сердца (у него был ревматизм, порок сердца) он выбрал себе такие специальности. Служил в трамвайном депо, а потом на кондитерской фабрике «Красный Октябрь», бухгалтером. Хотя я была единственным ребенком в семье, жили очень тяжело, у родителей были маленькие зарплаты. Все что можно — фамильное серебро, какие-то серебряные ложки — я «съедала», все относилось в Торгсин[26]. Когда папа стал работать на «Красном Октябре», жизнь начала налаживаться, у нас даже появилась домработница, которая помогала по хозяйству. Это были предпоследние годы перед его арестом. Я помню, когда были праздники, сотрудникам выдавали коробки, в которых лежал всякий лом: куски шоколада, какие-то некондиционные конфеты. Папа приносил это домой, было очень вкусно! Иногда приносил какие-то, по-видимому, бракованные игрушечки с леденцами внутри. У папы были золотые руки, он делал по дому все. Говорят, даже шил мне одежду, валеночки мастерил — я же родилась в голодное время. Он был большой аккуратист. Я думаю, у него было немножко немецкой крови, Ich liebe Ordnung[27]. И эти качества мне передались по наследству. Я совершенно не выношу, когда нарушается порядок. Папина мать была какого-то непростого рода, и когда я шкодила, мама мне строго говорила: «О, Инесса-баронесса!» Папа был теплый, нежный, любил со мной гулять, играть. Обучал меня шахматам. Почему-то запомнилось, как мы проводили время за городом. Дело в том, что раньше детские сады на лето выезжали на дачи, на природу. Мама как сотрудник отправлялась туда вместе со мной. Нас навещал папа. Он учил меня плавать, а еще я садилась на него верхом, и мы плавали вместе. Это было для меня такой радостью! Мы очень любили Новый год. Мама рассказывала, как они праздновали у себя в детском саду, как ребята танцевали, пели, какие у них были костюмы. Я с мамой тоже разучивала детсадовские песни, меня учили играть на пианино, и мы обязательно устраивали елку дома. К нам любили приходить гости, атмосфера в семье была замечательной. Мама играла на пианино, а папа очень хорошо пел, у него был прекрасный голос. Самой любимой у него была итальянская песня «Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю»[28]. Я, когда ее слышу, всегда начинаю плакать, папу вспоминаю. На фотографиях 1937 года — душевные застолья, накрытый скатертью стол, хорошая посуда, еда самая простая, но все очень аппетитно и притягательно. Такая была благополучная семья. Наш дом посещали с удовольствием, но когда папу забрали, некоторые прекратили всякое общение, как от чумы бегали. Я не сразу узнала, что папу арестовали. Когда за ним пришли, я спала. Утром мама сказала, что папа уехал в командировку. Я ей поверила. Я верила всему, что говорили мне родители. Прошло несколько дней. Как-то вечером к маме пришла жена ее среднего брата, они дружили еще с гимназии. Я уже лежала в постели, засыпала. Они думали, что я сплю, и я невольно подслушала весь их разговор. Они обсуждали, что можно сделать, куда пойти и как доказать, что отец не враг народа. Тогда я поняла: папа не уехал в командировку, произошло что-то очень плохое. Ни минуты никаких сомнений не было, мой папа не может быть виноватым. Никто в нашей семье не предполагал, что папу могут арестовать. Единственное, мама всегда ругалась, что он во все лез и на язык был очень острый. Критиковал какое-то начальство за то, что подворовывали и что-то неправильно делали, он же был бухгалтером и все видел. А этого не стоило делать, нужно было сидеть и молчать. А он за правду боролся, не мог молчать — не тот был характер. И мне от папы передалось такое правдолюбие. Но так как у меня за плечами уже имелся папин опыт, я, конечно, себя сдерживала. После того разговора я стала очень замкнутой, необщительной. Яи выросла скрытным человеком. У меня всегда были только одна-две хорошие подруги. Я не боялась, просто у меня не было желания общаться и открывать душу. Мама никогда подробно не рассказывала мне, как происходил папин арест. Ей было очень тяжело это вспоминать, а я настолько ее любила, что щадила и не мучила расспросами. Но с маминых слов я запомнила такой эпизод. У нас на стене висела самодельная картина в рамке — какие-то цветы, из журнала, видимо, вырезали. Но дело в том, что на обратной стороне этих цветов был портрет, кажется, Бухарина[29]. Когда был обыск, распотрошили эту картину, увидели портрет и тоже занесли в дело — мол, скрывал портрет Бухарина. Да это и неважно — кого. Кого-то из «врагов народа». Мама беспрерывно хлопотала, обращаясь во всякие организации, куда только она не ходила! Стучалась во все двери, как и все люди в то время. Я старалась еще теплее к ней относиться — не скандалить, не безобразничать. Мы верили, мечтали, что все это ненадолго и папа скоро вернется. Сначала он находился, кажется, в Бутырской тюрьме. Свиданий с ним не разрешали, только передачи. Папу осудили по статье 58–10 «Антисоветская пропаганда» и дали срок — восемь лет ИТЛ, отправили в Коми АССР. В лагере папа работал в бухгалтерии. Раз в месяц писал письма, отдельно мне, отдельно маме. Мы и до лагеря с ним всегда переписывались, когда он уезжал в санаторий в Кисловодск. Я тогда еще ему писала печатными буквами: «Папа, я тебя люблю», буквы иногда не в ту сторону смотрели. Папины письма всегда были такими аккуратненькими, конверты заключенные делали сами, и они мне очень нравились. Папа просил посылать ему фотографии. И мы обязательно делали фотокарточки и каждый год посылали. Своих фотографий из лагеря папа не присылал, поэтому запомнился мне таким, как на фотографиях до ареста. Когда его арестовали, ему было тридцать семь лет. Папа вложил в меня аккуратность и обязательность: уж если ты пообещал, то должен делать. И он постоянно поддерживал меня в письмах. Мы много писали друг другу, и я никогда не чувствовала себя обделенной любовью. Вот одно такое письмо:«Дорогая моя доченька. Сначала крепко тебя целую, а ты за меня маму поцелуй. Напиши, как ты учишься. Я, может быть, скоро приеду. У нас есть здесь малюсенький медвежонок, он очень смешной и умный. Про него я тебе напишу подробный рассказ. Я тоже по тебе ужасно соскучился. Ты ведь да мама наша — у меня одни-единственные на всем свете, любимые, родненькие. Пиши мне чаще. Пришли свою фотокарточку».Я папе рассказывала про школу, какие предметы изучаю, все учебные дела свои описывала. Папины письма были воспитательного порядка. Помню, как папа наставлял меня учиться ходить на лыжах, заниматься спортом. И я училась ходить на лыжах, занималась спортом. Я делаю акцент на лыжах неслучайно: если я окажусь на Севере, мне это может пригодиться. То есть папа, по крайней мере, допускал, что меня и маму могут арестовать. Мы регулярно отправляли ему посылки. При наших скудных возможностях они были очень простые: сухари, лук, чеснок, какие-то вещи, одежда. Посылки для него были очень важны. Вот письмо, адресованное маме:
«Дорогая моя, родненькая женушка, рад тебе сообщить, что вчера получил сразу две посылки и твою телеграмму. Одновременно шлю телеграмму, сообщая о получении твоего письма от 13 января, посылок и телеграмм. Не нахожу слов, солнышко мое, благодарности моей тебе и Тасе[30] за получение посылки. Посылки прибыли, как и предыдущая чайная, в совершенном порядке. Получил все полностью, перечисленное в письме. В наших условиях посылки — самое дорогое, что есть, буквально им нет цены. Соответственно их ценность и моя благодарность, дорогая моя Любонька. Как я сумею благодарить тебя за заботу? Не выходят у меня из головы слова, сказанные уже на лестнице. Я пробовал сказать не “прощай”, а “до свидания”… Однообразная жизнь в постоянных думах о вас. Мысленно всегда с вами. А ведь скоро три года. Сказал бы кто-нибудь на воле, что так может быть, не поверил бы. Радуюсь успехам доченьки нашей. Горжусь ею перед товарищами. Говоришь, похожа на меня. Ну что же, я не был уродлив ни морально, ни физически. Ну вот, и все написал. Когда получу от тебя весточку? Привет всем, крепко целую тебя и доченьку нашу. Твой Борис 31 января 1941 года».Еще два года ему оставалось жить. Все папины письма были им аккуратно пронумерованы. Мама увезла их с собой в эвакуацию. Папины родственники тоже помогали посылками. Но однажды сказали моей маме, которую любили: «Люба, разведись с ним». Тогда многие так делали. Мама отказалась, она сказала: «Никогда». Мама была редкой, необыкновенной души человек. Знали ли учителя и одноклассники в школе о моем отце — неизвестно. Я сменила много школ, никто меня не обижал, и я не чувствовала себя изгоем. Я была нормальная девочка, сидела всегда на первом ряду, потому что была близорука, кроме того, я очень хорошо умела подсказывать. Все дети прекрасно общались друг с другом, играли: то в классики, то веревку крутили, прыгали через нее. Я старалась делать вид, что ничего не случилось. Мне везло, что меня вечно куда-то избирали. Во втором классе мы стали пионерами, и меня тут же сделали звеньевой. Галстук пионерский носила с гордостью. Тогда я не понимала политической подоплеки. Какое счастье — стать пионером! Конечно, воспринималось все по-детски — что-то красненькое надели. Я потому и в комсомол вступила: значок понравился. Как-то была в гостях у родственников маминого брата, и вдруг пришел молодой парень, постарше меня, мне он казался уже очень взрослым. У него что-то блестело на лацкане пиджака. Я увидела эту блестящую штуку, и так мне захотелось иметь такую же! Я спросила: «А что это такое?» Он ответил: «А это нам, комсомольцам, такое дают! Это комсомольский значок». Все, на следующий день я пришла в школу и подала заявление в комсомол. И мне тоже такую штуку дали. Мне запомнился один эпизод с папой. 1937 год, мы были на первомайском параде на Красной площади от папиной работы. Я сидела у него на плечах, мы проходили мимо Мавзолея, и вдруг все закричали: «Сталин! Сталин!» Мы шли довольно близко к Мавзолею. Уж не знаю, кто там был, Сталин или двойник, это неважно. Но такой это был радостный момент в жизни, такое счастье — видеть самого Сталина! Он был как бог. Такое было воспитание, иначе не представлялась жизнь. Но дома родители никогда не обсуждали происходящее в стране, политическую обстановку. Сталин их никак не интересовал. А после папиного ареста для нас с мамой главным было собрать папе посылку, и разговоров никаких не велось. Считалось, что я очень хорошо упаковываю посылки, и это всегда поручали мне. Я была маленькой и еще не понимала, кто виноват в нашем горе. В учебниках, по которым мы учили историю, были портреты маршалов. Когда их объявили врагами народа, портреты заклеили, а мы продолжали заниматься по тем же учебникам. Я это все воспринимала спокойно, как должное: ну, враги народа. Только лет с пятнадцати, наверное, мои мозги заработали иначе. Я знала одно: что чем меньше будешь говорить, тем лучше. Мы с мамой жили в двухкомнатной квартире, часть которой принадлежала маминой младшей сестре Надежде. Она умерла, а когда папу арестовали, приехал ее муж с дочерью и новой женой и сказал: «Отдавайте нам большую комнату. Если вы этого не сделаете, то окажетесь там, где ваш муж». Этот человек работал в НКВД. Мама отдала им большую комнату, и мы стали жить в маленькой, одиннадцатиметровой. Мама боялась, что ее могут арестовать как жену «врага народа». А если он захочет, чтобы вообще вся квартира была его? Поэтому жили тихо. Мама работала в нескольких детсадах, принадлежащих Метрострою, нужны были деньги и на жизнь, и на посылки папе. Готовила с детьми праздники, ставила спектакли. Мама собиралась ехать к папе в лагерь, были собраны и оформлены почти все документы, но не успела — началась война. Я хорошо помню, как мы об этом узнали. В тот день мы замечательно гуляли с мамой в Парке культуры им. Горького. Был там стеклянный павильон, где продавались котлеты с хлебом, — мы себе их купили. Потом купили билеты в цирк, точнее, в сооружение в виде высокого деревянного стакана, где по вертикальной стене на мотоцикле катался спортсмен, выделывал всякие номера. Вот так шикарно проводили с мамой время. И вдруг все побежали к репродуктору: объявили о начале войны. А дело в том, что до этого была финская война, и она была «где-то там». Ну, мы и думали: война-то будет там, а мы будем здесь. Мы спокойно посмотрели на этого человека, который катался на мотоцикле. Потом решили: раз война, значит, надо что-то купить. Купили двести грамм конфет «Снежинка», такие кисленькие, вкусные были конфеты, и пошли домой. Вот так мы восприняли объявление о войне. А вскоре началось путешествие с мамиными детскими садами. Сначала мы жили в Тучкове. Когда немцы подошли уже к Белоруссии, нас из западной части Подмосковья увезли под Тарусу, в Поленово. Там я училась в деревенской школе. На первых партах сидели мы, третьеклассники, а на задних — старшие ребята, и одна учительница вела урок. И «досиделись» мы там до того, что немцы летали уже над нами. Мост под Серпуховом разбомбили, и нас везли через Оку в лодках. В Москву мы прибыли 16 октября, немцы были уже на подходе, и мы видели отступающих наших солдат. Перед эвакуацией мы заехали домой взять кое-что из одежды — у нас не было с собой ничего теплого, мы же уехали из Москвы еще летом. Я взяла с собой куклу, она у меня и сейчас цела. Мама предложила: «Давай, может, переночуем дома?» Но потом передумала: «Нет, а вдруг без нас уедут». А в эту ночь прямо на кровать в нашей квартире, проломив кровлю дома, упал, но не взорвался артиллерийский снаряд. Вот так мы уцелели. Эвакуировали нас в Курган. Сотрудников детских садов и детей собрали и погрузили в поезд. В вагоне у нас верхние и нижние полки были соединены досками. Получалось сплошное поле внизу и наверху. Что-то было постелено, и мы там лежали. Вместе с нами ехал мамин брат — он работал в Метрострое, его жена и три их дочери, мои двоюродные сестры. Вот такая была у нас хорошая компания. Мы сидели наверху, во что-то играли, у нас была интересная поездка. Все нам было нипочем. Приехав, мы сразу сообщили папе наш новый адрес. Наша переписка не прекращалась даже во время войны, мама продолжала слать ему посылки. Она сама ходила голодная, от нее половина осталась. Я в интернате жила. А она гроши получала и все равно что-то экономила, посылала туда. Я, правда, не знаю, какую часть из этих посылок он получал. Я папе описывала свою интернатскую жизнь, какие-то интересные случаи. Например, как однажды приехал к нам музыкальный театр из Свердловска, и мы лазили через забор — слушали оперы. Письма писали, письма получали. Мама сохранила всю переписку с отцом. По-моему, было сорок два письма. Я прочитала их все, когда стала взрослой. Поехала за город, есть такое место по Белорусской дороге — Ромашково, мы ездили туда каждые выходные просто погулять. Я взяла эти письма, забралась в какой-то кустарник, лежала и читала. Прочитала и поняла: больше не смогу, я умру, если еще раз начну читать, настолько это тягостно и больно. Как только открылся музей[31], я почти сразу их туда отдала. Что еще я могла с этими письмами сделать? Ну, лежали бы они у меня на антресолях. Слава тебе, господи, что я отдала эти письма, потому что антресоли впоследствии залило кипятком. Папа писал, что первое время у них было и белье — «…вчера отдал свое белье в стирку», их сносно кормили и даже показывали какие-то фильмы. А потом все стало хуже и хуже.
«Вчера я лишился своего тулупчика и фотографий, которые там были, пришлите мне свежие».Вероятно, у него отобрали уголовники. Ни еды, ни белья, ни кино — ничего этого уже не стало. В одном из последних писем папа просил прислать ему хотя бы сухариков.
«Я нашел кусочек жести, буду его держать над костром и греть сухарик, сделаю из него что-то вроде каши».Папа отсидел пять лет, ему оставалось всего три года до окончания срока, и мы жили надеждой, что он вернется. Она оборвалась, когда он написал, что он пьет только воду. От голода и от болезни сердца у него начались отеки. А потом нам пришло письмо от женщины, с которой папа дружил.
«…Ваш муж, Борис Иванович, скончался 1 апреля сего года в 8 часов вечера. Умер от своей сердечной болезни. Последние три дня у него была агония, и он уже был без сознания. Я навещала его по два раза в день. Думала, что он придет в сознание. Быть может, скажет что-либо мне насчет вас и своей Инны. Но он уже не узнавал и меня. Лег он в стационар 10 марта, а 1 апреля его уже не стало. Бориса Ивановича я знаю еще с 1938 года, когда он впервые приезжал к нам в лагерь в Жежим. Мы все время работали вместе в бухгалтерии. А так опять случилось, что и в Княжпогосте мы снова встретились с ним. И мне суждено было видеть его смерть. Его вещи все украдены еще год назад. Наверное, он вам писал. А сейчас у него почти ничего не было. Сама я из Одессы. В Жежиме я похоронила своего родного брата, но еще в 1937 году, и сообщила об этом его жене и своему мужу домой. Знаю, что это нелегко, но ничего не сделаешь, судьба такая. Думаю, что вы мне ответите, и я буду знать, что вы знаете о его кончине».Некоторых горе озлобляет, а мама не изменилась. Выстоять после потери ей помогла жажда жизни, любовь ко мне и, конечно, любовь к папе. Она могла выйти замуж, но мама не предала отца и была ему верна. Мама никогда не показывала, что ей плохо, — очень меня берегла. Она была очень доброй, веселой, любила анекдоты, какие-то розыгрыши — это было в ее характере. По крайней мере, снаружи. В 1948 году я поступила в медицинский институт. Вообще, я не хотела быть врачом. Мне нравились гуманитарные науки, я хорошо знала немецкий язык. У нас в школе был потрясающий преподаватель немецкого языка, и мы довольно свободно говорили по-немецки, был богатый словарный запас, много читали. И я мечтала пойти либо в институт иностранных языков, либо в институт кинематографии, на режиссерский факультет, очень меня туда тянуло. Но меня спустили с небес на землю. Дело в том, что в тот год началась новая волна репрессий. И теперь уже сажали детей «врагов народа». Поэтому мне сказали: надо выбирать такую профессию, с которой ты сможешь выжить в лагере, и эта профессия — врач. Мне было 18 лет, и мы были уже такие взрослые, что все понимали. Я пошла в медицину не по призванию, но потом полюбила свою профессию, с удовольствием проработала врачом 48 лет. В институте все девушки имели поклонников. Я тоже была девушкой ничего. И у меня был жених. Перед свадьбой я ему сказала: ты знаешь, вот такая вещь, мой отец — враг народа. Прошло несколько дней. И я получила письмо по почте в розовом конвертике без обратного адреса, в нем было написано:
«Инна, дорогая, я люблю тебя, но я хочу сделать карьеру. Мы не будем вместе. Прощай».После этого все мои романы пресекались, когда дело приближалось к серьезным моментам. Мою психику это сильно изменило и сказалось на всей моей жизни. Был у меня очередной поклонник, учился в авиационном институте на каком-то секретном отделении. Ну, тут я сама поняла, что ему не пара. Прощай, и все, я тебя не люблю. Очень хорошо помню день смерти Сталина. 5 марта, по радио передают: Сталин потерял сознание, вот то, вот другое. Я была безумно огорчена: мерзавец, жизнь нам с мамой испортил, так еще и надумал помирать на мой день рождения — он у меня 7 марта. Слушала новости, какой пульс, дыхание. Наконец экстрасистолия, слава богу, значит, не дотянет! Всегда смеюсь, вспоминая свое отчаяние по поводу этого дела. После ХХ съезда мы, конечно, ждали перемен в лучшую сторону. Все-таки начиналась реабилитация, стали открыто об этом говорить. Но я никогда не касалась этой темы. Я не била себя в грудь и не кричала на всех перекрестках. Да и сейчас не кричу. В 1960-е годы, когда была «оттепель», мои хорошие знакомые позвали меня работать в поликлинику Генштаба: «По всем параметрам подходишь! Ты терапевт, кандидат медицинских наук. Молодая еще». И когда в отделе кадров узнали, что у меня папа был в лагере, сказали: «Вот когда будет документ о его реабилитации, тогда приходите, а сейчас — нет». Такие были грустные эпизоды в жизни. Вывод приходил сам собой, я не рвалась рысаком и знала свой предел. Так прожила жизнь. Прежде чем мне дали ознакомиться с материалами папиного дела, с меня взяли подписку, что я не буду предпринимать никаких действий против тех людей, которые на него написали заявление, — так я выяснила, что отца арестовали по доносу. Я немного узнала из тех материалов: якобы отец говорил, что рабочие за границей живут лучше, чем у нас. Нашла бумагу, написанную старшим маминым братом, профессором хабаровского мединститута, где он ручался за папу как за человека, который обладает только хорошими качествами и не может быть преступником. Очень скудное дело. А может быть, я была в таком состоянии, что плохо соображала. О том, что я знакомилась с материалами дела, маме не рассказывала. Как она меня берегла, когда я была ребенком, так потом берегла ее я. Когда выросла, было желание поговорить обо всем, но я себя сдерживала. Кое-какие попытки делала, но мама уходила от этого разговора. Она с удовольствием рассказывала про их жизнь до ареста. Да и я старалась говорить на отвлеченные темы: что в институте, как писала диссертацию, в какие театры ходила, что смотрела, что слушала, у кого какой голос. Не делать больно — это было главным по отношению к матери. 2 декабря 1989 года мой отец был реабилитирован.
«Дело по обвинению Железовского Бориса Ивановича 1901 года рождения, уроженца г. Гродно, белоруса, главного бухгалтера фабрики “Красный Октябрь”, пересмотрено президиумом Московского городского суда 2 февраля 1989 года. Постановление особого совещания при НКВД СССР от 8 июня 1938 года, по которому Железовский Борис Иванович осужден за контрреволюционную агитацию по статье 58–10, редакция УК РСФСР, отменено и прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Железовский Борис Иванович по настоящему делу реабилитирован…»Вот такая бумаженция, за которой стоит пропавшая жизнь. И его, и моя.

Пик лагерной смертности Борис Иванович Железовский отбывал наказание в исправительно-трудовом лагере в годы Великой Отечественной войны, в самое тяжелое и страшное время для узников ГУЛАГа. В военные годы заметно ужесточился режим содержания заключенных, увеличилась продолжительность рабочего времени и, главное, были значительно снижены нормы питания. Произошедшие перемены привели к серьезному ухудшению физического состояния заключенных. В 1942–1943 годах смертность в ГУЛАГе возросла более чем в пять раз по сравнению с довоенным 1940 годом. Пик лагерной смертности пришелся на 1942 год, когда ежемесячно умирали более 30 тысяч человек. Смертность была настолько велика, что руководство ГУЛАГа официально разрешило хоронить заключенных в общих могилах без гробов и белья. Всего за годы войны в исправительно-трудовых лагерях от тяжелой работы и истощения умерли более одного миллиона человек. Одним из них был Борис Железовский.
ЮЛИЯ ПАШАЕВА

Юлия Сенета (в замужестве Пашаева) (в центре) в пионерском лагере, 1940-е годы. ГМИГ КП-2890
Интервью записано 20 ноября 2016 года. Режиссер Мария Гуськова. Оператор Денис Гуськов.
Юлия Михайловна Пашаева (в девичестве Сенета) родилась 17 июля 1936 года в селе Старая Барда Алтайского края. В 1938 году ее родителей арестовали по статье 58. Отец, сельский бухгалтер Михаил Дмитриевич Сенета, в том же году был расстрелян, мать, Татьяна Андриановна, через несколько лет умерла в исправительно-трудовом лагере в Казахстане. Четверых детей семьи Сенета разделили и отправили в разные детдома — лишь спустя много лет они смогли разыскать друг друга. В 1958 году их родители были посмертно реабилитированы. Юлия Михайловна вышла замуж, стала матерью, много лет проработала дизайнером меховой одежды. Пережить трагедию своего детства ей помогли стихи, которые она начала писать еще в юности.
«Это такая боль, которая не проходит»
Это тяжело — не знать ни отца, ни матери, все детство провести так, что тебя никто даже по голове не погладит. Мне был год и восемь месяцев всего-навсего, когда я осталась без семьи. Мы жили в селе Красногорском (в 1937 году — Старая Барда) Алтайского края. Папа работал в райпо бухгалтером, а мама сидела дома с детьми. Нас было пятеро у мамы: старшая сестра Галина родилась в 1925 году, брат Александр — в 1927 году, средняя сестра Соня — в 1929 году. Я появилась на свет 17 июля 1936 года, а наш младший брат — весной 1938 года. Когда арестовали маму, ему был всего месяц. Звали его Юра. Я ничего не помнила, конечно, о сестрах и братьях. Долгие годы я даже не знала, что они у меня есть. О нашей семье, о родителях мне все рассказала моя старшая сестра Галя — мы с ней впервые встретились в 1958 году, когда мне было уже 22 года и Красный Крест помог мне найти ее адрес. Я все время думала о своих родителях, потому что я их не помнила и даже не видела на фотографиях. И особенно о маме — какая она, как выглядела. Галина рассказывала, что у нее была русая коса. Она была добрая, но строгая. Мама была образованная, из богатой семьи: до революции бабушка владела конфетной фабрикой в Бийске, имела собственный выезд — лошадей. Поэтому у мамы вещи были дорогие, хорошие: накидка горностаевая в сундуке лежала. Такая очень благородная была мама, и папа тоже. Счастливая семья, они любили друг друга. Галина говорила, что мама была очень хорошая хозяйка. И почему-то, когда она делала уборку в доме, она все время пела песню: «И никто не узнает, где могилка моя…» Все время пела эту песню, и Галина спрашивала: «Мама, почему ты поешь такую тоскливую песню?» А она как бы предчувствовала свое будущее. И потом так и случилось. В 1937 году вызвали папу на допрос неожиданно. После этого допроса его арестовали. В Красногорском был длинный-длинный барак, куда помещали арестованных. Галина — ей было 13 лет — пошла к этому бараку. И когда охранник с ружьем обходил барак кругом, она подбежала к окну и стала звать папу, кричать. Он подошел к окну, заговорил с ней: «Скажи маме, что я ни в чем не виноват, меня обвинили и приговорили к расстрелу». Тогда Галина в последний раз видела папу. Прошло несколько месяцев. Это было страшное время, ужасное. Мама родила ребенка. И когда ему был всего месяц, ее в НКВД вызвали на допрос и заставляли подписать на папу ложные бумаги, что он враг народа. Мама не стала подписывать, и ее этапом в лагерь отправили. Нас осталось пятеро сирот. Маленький, месячный, он умер сразу. Две недели мы жили у председателя колхоза. Потом нас четверых и еще детей из семьи Правдиных посадили на подводу и через горы повезли в Змеиногорск, на распределительный пункт. В дороге есть нечего было. Галина то, что набросала в подводу — подушки, какое-то покрывало, — в деревнях обменивала на хлеб и молоко и кормила нас. На распределительном пункте нас разделили и отправили по разным детским домам по всему Советскому Союзу, чтобы мы не знали друг друга. Брат оказался в Казахстане, Соня — в Ростовской области, а я осталась в Сибири. Я до 16 лет жила в детском доме — в шести детских домах. Из одного в другой переводили. В разных городах, в разных деревнях. Змеиногорск, Казанцево, город Камень-на-Оби — много детских домов. Я прошла через все тернии, какие только можно: и война, и горе, и разлука, разные переживания, болезни. Три раза я умирала во время войны. Двухстороннее воспаление легких, малярия, трахома… Слепла. Каким-то чудом я возрождалась. Видимо, высшие силы меня спасали для чего-то. Помню, в детском доме в четвертом классе учительница меня спросила: «Юля, ты хоть что-нибудь помнишь?» Я говорю: «Я, наверное, помню, что у меня был брат Вова». А это был Вова Правдин, с которым нас вместе в распределительный пункт везли, его семью тоже арестовали. Галина говорила: «Он тебя всю дорогу держал на руках на подводе». Вот единственное, что я помнила. В детском доме дети жили сами по себе, можно сказать. Я помню, на Новый год мне одна воспитательница подарила голубой бантик, и я была на седьмом небе от счастья. Мы не видели ни карандашей, ни тетрадей. Мы не могли связать двух слов, мы не развивались! И я была как дикарка, я уносилась в леса — за ягодами, за корешками, купаться. Уходила в тайгу далеко, уходила одна, любила тайгу. Была смелая, лазила по деревьям, тонула, болела и выживала. Во время войны нас очень плохо кормили, мы такие истощенные были. Я помню, кусочек хлеба давали, какую-то баланду, жмых и кислую капусту. И я попала тогда с воспалением легких в больницу — двухстороннее воспаление легких. Как я выздоровела, не знаю — тогда ни лекарств, ничего не было. Всевышний меня спасал. Я кричала: «Дайте хлеба!», на всю палату кричала! День и ночь кричала, когда стала выздоравливать: «Дайте хлеба! Дайте хлеба!» И видимо, позвонили в детский дом, и мне принесли хлеба и несколько кусочков сахара. Я накрылась одеялом и все сразу съела. Когда меня выписали, я еще долго качалась из стороны в сторону. Потом я заболела трахомой. Это страшная болезнь! В детском доме многие дети заразились. Там в глазах нарастают колючки, и если не выдернуть, то ты слепнешь. Мне два раза вырывали эти колючки из глаз. Трахома, вши — чего только не было во время войны! Голод был, страшно просто было. Помню, в городе Камне во время войны нам давали по кусочку хлеба и по два кусочка сахара, и одна воспитательница отбирала у нас сахар. Потом ее судили. Но я никогда не отдавала — я сразу съедала, проглатывала. Помню, тех, кто мочился в постель, выстраивали и стыдили перед всеми. Я тоже до семи лет энурезом страдала и, чтобы матрас был сухой, ложилась под кровать, спала на полу, чтобы этого не случилось. Всякое было. Город Камень-на-Оби, река широкая, и мы жили на другой стороне — в тайге деревня, и там детский дом. Кроме нас, младших, там были и шестнадцатилетние, восемнадцатилетние ребята. «Поножовщина», — о тех ребятах говорили. Осенью мы вместе пекли картошку, сидели у костра, разговаривали. Природа, детский дом — это все наше. Нам всегда было холодно, одежды на всех не хватало, а зимой мороз бывал под сорок градусов. Но мы все равно не озлобились. Мы остались хорошими людьми. Хотя видели много ужасного, но мы не озлобились. Я так хотела, чтобы у меня был отец. Я как-то пошла в магазин и к какому-то дяде пристала: «Будь моим отцом, возьми меня, возьми меня», — просила, чтобы меня забрали из детского дома. Когда ты уже начинаешь осознавать, что у тебя нет родителей, — это так горько, что весь свет не мил порой. Сначала я думала, что так и должно быть, что нет у нас ни отца, ни матери — как будто мы маленькими ангелочками спустились на землю. А потом, когда я поняла, что у других детей есть родители, переживала очень. Хотелось, конечно, чтобы кто-то по голове погладил. К кому-то прижаться. Была у нас одна воспитательница: она обнимет, и так хорошо! Потом пришел из армии новый воспитатель — Михаил Григорьевич. Он со мной занимался, стихи учил. Всего мне было, может, 10 лет, а я уже из «Евгения Онегина» знала большие куски наизусть.«И снится чудный сон Татьяне.
Ей снится, будто бы она
Идет по снеговой поляне,
Печальной мглой окружена…»
…Пусть эти белые нежные розы
Будут залогом нашей любви.
Свежесть утра, нежность чувства
Мы сохраним навсегда — я и ты.
«Сенета Михаил Дмитриевич 1893 года рождения приговорен 15 июля 1938 года постановлением Комиссии НКВД и Прокурора СССР к расстрелу. Реабилитирован 15 апреля 1958 года определением военного трибунала Сибирского военного округа. Реабилитирован посмертно за отсутствием в его действиях состава преступления».А эта бумага выдана Старобородинским сельским советом:
«…дом, принадлежащий гражданину Сенета, был конфискован и передан государственному учреждению».И на маму есть бумага:
«Дело по обвинению Сенета Татьяны Андриановны 1904 года рождения, арестованной 18 апреля 1938 года, пересмотрено военным трибуналом Сибирского военного округа 21 ноября 1958 года. Постановление от 28 августа 1938 года в отношении Сенета Татьяны Андриановны отменено. Делопроизводство прекращено. Сенета Татьяна Андриановна по настоящему делу полностью реабилитирована посмертно».Когда мне пришли эти бумаги, я обошла здесь, в Москве, все прокуратуры — была в районной, центральной, военной и везде просила фотографии отца и матери. У брата и сестер тоже не осталось фотографий родителей: после ареста мамы дом сразу опечатали. Я очень хотела их фотографии увидеть, но мне их так и не дали. Они говорили «да», подтверждали, что дело есть, но мне его не выносили, не показывали. Я думала, может, это из-за того, что родители на фотографиях страшно замученные. Потому что, когда Галина видела отца в том бараке, где были арестованные, он был избит ужасно. Он оглох, вообще еле слышал, так его били. Я так и не знаю, как выглядели мои родители. Я даже во сне их никогда не видела. Никогда, вот что удивительно! Когда пришли эти документы, мы узнали, что папа расстрелян, что мама в 1945 году в лагере умерла. Но где их похоронили — неизвестно. Только сказали мне, что мама похоронена где-то в Казахстане, в общей могиле. Совсем как в песне, которую она пела: «И никто не узнает, где могилка моя…» Я всю жизнь хотела, чтобы у меня отец и мать были, и ждала их, конечно. Даже когда в 20 лет я встречалась с парнями, в голове у меня было: вот бы у меня это был не парень, а отец или мама. Хотела защиты какой-то, любви. Я ждала этого как-то внутренне все время. И это осталось внутри. Когда ты не имеешь никого — это такая боль, которая не проходит. Всю жизнь не проходит это.

НЕЛЛИ ТАЧКО

Нелли Тачко с родителями. Крым, Евпатория, 1930-е годы
Интервью записано 18 октября 2016 года. Режиссеры Ирина Бузина и Вероника Соловьева. Оператор Наталья Макарова.
Тачко Нелли Станиславовна, родилась в 1925 году. Ее отец, Тачко Станислав Францевич, был начальником АХО Управления почтовой связи. Мать, Борель Лидия Яковлевна, — служащей Академии связи. В мае 1938 года Станислав Францевич был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в участии в диверсионно-террористической организации правых. В июне 1938 года арестовали Лидию Яковлевну. Как жену изменника родины ее приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Нелли Тачко и ее брата Геннадия забрали в Даниловский детприемник, а затем отправили в детский дом в село Березки Кривоозерского района Одесской области. В детском доме все дети переписывались с матерями, и Нелли, пытаясь найти свою маму, просила детей спрашивать в письмах, нет ли у них в лагере Лидии Яковлевны Борель. Таким образом она узнала, что ее мама находится в АЛЖИРе, наладилась переписка. В 1943 году в эвакуации в Ташкенте Нелли поступила в Ленинградский электротехнический институт. В том же году закончился срок Л. Я. Борель. На положении ссыльной-вольнонаемной она работала на швейной фабрике лагеря. В 1944-м произошла долгожданная встреча матери и дочери: Нелли приехала к Лидии Яковлевне в Акмолинск. В 1947 году Лидия Яковлевна Борель и ее дети, Нелли и Геннадий, воссоединились в Саратове. В 1956 году родители Нелли Станиславовны реабилитированы.
«У нас была очень светлая, открытая семья»
Я считаю, у меня были лучшие в мире родители. Мы росли в счастливой, радостной, любящей семье, в атмосфере тепла, доброты и открытости. Мы с родителями всегда были очень близки. Нами занимались, не выпуская из виду ни на минуту. Если врачи говорили, что меня нужно везти на юг, меня везли в Евпаторию. Нужно купать в лимане — купали в лимане. Я кричала, визжала вовсю: «Папочка, я лучше всю эту воду выпью!» — очень боялась воды. Помню, поили меня рыбьим жиром. Мама держала ложку с рыбьим жиром, папа в одной руке держал огурец, другой зажимал мне нос… Мама следила за нашим воспитанием. Французскому языку меня обучала, старалась, чтобы мы много читали. Нам всегда покупали книжки, учили пересказывать прочитанное, думать, размышлять над тем, что в книге главное. Помню, мы с подружками часто менялись какими-то вещами — туфлями, платьями. И родители мне говорили, что, во-первых, лучше не брать, а во-вторых, если все же взяла чужую вещь, то к ней нужно относиться бережнее, чем к своей. Закладывали в нас ответственность: если уж сказал, выполняй обещание и доводи дело до конца. Приучали к труду. Как-то раз пришла из школы, я училась во втором классе, а моя кровать не застелена. Меня это так удивило: почему это моя кровать не застелена?! А потому что тебе пора самой это делать, вот так! Мои родители не были диссидентами. Они приняли революцию и поверили в нее. И все, что могли, — все отдавали своей стране. Настоящие патриоты были. Но фанатизма в семье не было абсолютно. Любили родину и нас к этому приучили. Раскулачивание, коллективизация[32] родителей очень насторожили. Я помню, как они говорили между собой: «Как это так? Как можно так с крестьянством, которое нас кормит?» Вроде бы Сталин виноват, но всякий раз он выходил сухим из воды, он так умел. Но обожания Сталина в семье не было. У нас вообще не было о нем разговоров. Удивительно, когда мама вернулась из лагеря, никакой ненависти у нее не осталось. Ей было стыдно за тех, кто это сделал. Она держала все в себе, некая сдерживающая пружина все-таки была, и только после реабилитации эта пружина расправилась, и мама нам сказала: «Вот видите, мы с папой ни в чем не виноваты». А мы никогда в этом и не сомневались! Вероятно, у нее был страх, что мы с братом будем обвинять их с отцом за то, как сложилась наша судьба. Наша семья сначала жила в Гомеле. Я это совсем немного помню, я была маленькой. Когда я пошла в первый класс, папа мне в подарок привез из Москвы коньки «снегурочки» и учил меня кататься. Еще такая картинка мне запомнилась: я иду из школы, а папа и мама смотрят в окно. Я еще ходила с каким-то мешочком. И папа подарил мне роскошный лакированный портфель. Он говорил: «Боже мой, такого даже у меня никогда не было!» Когда я училась в первом классе, родился мой братик Гена. В школе на уроке пения мы разучивали песню:«Заводы, вставайте, шеренги, смыкайтесь,
На битву шагайте, шагайте, шагайте!
Проверьте прицел, заряжайте ружье,
На бой, пролетарий, за дело свое…»

ЛИДИЯ ЧЮРИНСКИЕНЕ

Лидия Сирель (в замужестве Чюринскиене), город Щербаков, Ярославская область, 1958 год
Интервью записано 29 октября 2018 года. Режиссер Елена Никифоренко. Оператор Леонид Никифоренко.
Чюринскиене Лидия Борисовна родилась в Ленинграде 29 июня 1941 года, дата рождения впоследствии изменена органами внутренних дел на 28.09.1940. Мать — Сирель Армета Яновна, уроженка Эстонии, домохозяйка, была арестована органами НКВД. На улице блокадного Ленинграда она подняла немецкую листовку с призывом сдать город, что послужило основанием к ее аресту. Военным трибуналом войск НКВД СССР от 14 января 1942 года Сирель Армета Яновна была приговорена к лишению свободы на восемь лет. Отец — Борис Соколов, военнослужащий, летчик, не вернулся с боевого задания в самом начале войны, о его дальнейшей судьбе неизвестно. В семье было трое детей. Лида — младшая, старшей сестре Лилии, когда началась война, исполнилось восемь лет, брату Аральду — четыре. В сентябре 1942 года Армету Яновну направили в город Углич Ярославской области для отбывания наказания. Туда же, в дом матери и ребенка, который находился на территории лагеря, отправили Лиду. Сестру Лилию и брата Аральда отправили в разные детские дома, также в Ярославскую область. Три года Лидия находилась в лагере, двенадцать лет — в детских домах. Окончив семилетку, устроилась работать на судоверфь, затем — на льнокомбинат. В 1963 году поступила на военную службу, получила специальность военного телеграфиста. Лидия Борисовна замужем, имеет троих детей. Лидия Борисовна Чюринскиене признана пострадавшей от политических репрессий как оставшаяся в несовершеннолетнем возрасте без попечения матери, необоснованно репрессированной по политическим мотивам.
«Уходя, я не оставлю ничего, только фотокарточку, может быть…»
Свою мать я помню смутно, о ней и нашей жизни до лагеря я знаю только по рассказам своей старшей сестры. Мы жили в Ленинграде, мама — Сирель Армета Яновна — была эстонкой по национальности, с акцентом говорила по-русски, а писала вообще очень плохо. Отец был военным летчиком. Приезжая с задания, он приходил в летной форме с планшетом, в котором приносил подарки. Мы тогда получали 125 грамм хлеба, а отец как военный получал больше — еще сахарок, консервы. Он, отнимая от себя паек, кормил нас, чтобы мы не умерли с голода. Нас было трое: Лилия 1932 года рождения, Аральд 1937-го и я. Однажды отец ушел на очередное задание, и больше мы его не видели. Ленинград был уже в блокаде, над городом сбрасывались листовки, где содержались призывы сдать город:…Сдавайтесь и свергайте комиссаров!
Нам обещают
Жизнь без голодовки,
Покой
Взамен блокадного кошмара.
Им не понять,
Что люди
Здесь, в кольце,
Солдат и комиссар —
В одном лице[34].

Антисоветская агитация и пропаганда Мать Лидии Чюринскиене, Армета Сирель, была арестована во время войны в блокадном Ленинграде, городе, находившемся на военном положении. Правоохранительная деятельность государства в годы войны определялась Указом Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении», принятым 22 июня 1941 года. Согласно этому указу, в местностях, объявленных на военном положении, все функции органов государственной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности передавались военному командованию. За неподчинение распоряжениям и приказам военных властей, а также за преступления, совершенные в местностях, объявленных на военном положении, виновные подлежали уголовной ответственности по законам военного времени. Все дела о преступлениях, направленных против обороны, общественного порядка и государственной безопасности, передавались на рассмотрение военных трибуналов. Мать Лидии арестовали за поднятую немецкую листовку, по закону военного времени этого было достаточно для осуждения. Даже то, что у женщины были маленькие дети и она была женой военного летчика, сражающегося на фронте, не спасло ее. Немецкая листовка и подозрение в агитации решили судьбу Арметы Сирель. Статья 58–10 УК РСФСР «антисоветская агитация и пропаганда» предусматривала лишение свободы на срок до 10 лет.
НИНЕЛЬ МОНИКОВСКАЯ

Нинель Мониковская, вторая половина 1950-х годов
Интервью записано 16 июня 2017 года. Режиссер Виктория Рябинина. Оператор Анатолий Марфель.
Нинель Петровна Мониковская родилась 25 апреля 1927 года в городе Торопец Калининской (ныне Тверской) области. Во время войны семья Мониковских оказалась на оккупированной территории. В 1943 году Нинель Мониковскую и ее мать арестовали, обвинив в связи с немцами. 7 марта 1943 года им объявили приговор. Варваре Мониковской — высшая мера наказания, расстрел. Нинель как несовершеннолетней — 10 лет ИТЛ. Наказание она отбывала сначала на Урале, в Усольлаге[37], потом была этапирована в Степлаг[38], в Казахстан. В 1953 году Нинель Мониковская освобождена. После освобождения работала заведующей заводским клубом «Калугаприбор», заместителем директора Калужского областного драматического театра. Реабилитирована в 1961 году. С 1990 года Нинель Мониковская — председатель правления Калужской областной благотворительной ассоциации жертв политических репрессий. В 2017 году вышла ее книга воспоминаний «По ту и эту сторону решетки».
«Выживая, мы все-таки жили»
Если вспоминать свою жизнь… У меня было детство как детство: веселая школа, пионерский отряд, все оборонные значки, которые можно было получить в то время, были мои. Не было такого занятия или кружка, в котором бы я активно не участвовала. Я была бойкая девочка. Воспитывалась в более чем патриотической семье. Мама, Мониковская Варвара Ивановна, — завуч в школе, преподавала русский язык и литературу. Родители рано разошлись, но прекрасно относились друг к другу. Вот так «звенело» мое детство в городе Торопец бывшей Калининской, теперь Тверской области. Был июнь 1941 года, и судьба занесла меня в город Калинин: там проходил Всероссийский конкурс юных чтецов лермонтовских произведений. Все, как обычно, читали «Бородино», «На смерть поэта». А я по совету своей учительницы прочитала «Песню про купца Калашникова» и заняла первое место. У меня была изумительная награда: роскошное издание — фолиант Маяковского, который потом очень много значил в моей жизни, и путевка в Артек. Вот такой намечался хороший маршрут, но жизнь его слегка откорректировала. Началась война. Я возвращалась со всеми этими подарками домой, а Торопец уже бомбили. Это практически очень недалеко от границы — что тут, всего ничего, какие-то 250–300 км. Начались бомбежки, страшно было, ну просто очень! Мать пошла в райком партии, попросить эвакуационное удостоверение: родные отца жили в Уфе, и туда можно было уехать. Но ей сказали: «Варвара Ивановна, вы что! Если коммунисты начнут бежать, что же делать остальным?» — «А что же делать?» — «Ждать. Партия скажет, когда и куда вам нужно». Где-то в начале августа 1941 года партия сказала, что мы можем уезжать. Нам пригнали подводу с хромой лошадью и слепым возницей, погрузили туда меня, бабушку и пару каких-то чемоданов и чувалов. Эвакуировались мы километров на тридцать от Торопца — дальше уже были немцы. Куда дальше? Дальше некуда. Там одна из маминых бывших учениц, сельская учительница, выделила нам баньку, и в ней мы ютились. Пока были войска вермахта — ну да, немцы пришли. Было просто страшно. Хотя нет, не просто страшно, а безумно страшно: потому что вот я, такая вся из себя хорошая патриотка и ничего не делаю против этих врагов! А потом пришли эсэсовцы, и дело приняло другой оборот: начались преследования жителей, которые давали прибежище беженцам. И мы решили вернуться домой. Возвратились — а дом начисто обворован добрыми соседушками. Ну, как-то мы спрятались. Больше всего боялись за маму, потому что ее хорошо знали. Всего две школы, она завуч, тем более — член партии. В городе было уже страшно: стояли виселицы, жителей гоняли на работу. Несколько раз нас отправляли на уборку города. Приходил какой-то дядька: вот вам метла, будете убирать. Я не знала, как его зовут, кто он такой. Мать никто не выдал, как ни странно. Бабушка стирала оккупантам белье. Немец приносил котелок похлебки, кусок хлеба и свернутое в узелок грязное белье с куском мыла. Бабушка стирала, и этим наша семья кормилась. Это было абсолютно честно. Так продолжалось до конца 1941 года. Но вот на фронте стало что-то меняться: чувствовались какие-то нервные передвижения. И в конце концов 21 января 1942 года в Торопец вошли части Калининского фронта и нас освободили. А за Великие Луки, которые были в 80–90 км, еще полтора года бились. И вот этот промежуток простреливался насквозь. А мы же, пацаны, все патриоты: хватали оружие, которое было брошено отступающими немцами, мы были вооружены! И в это время городскими властями было принято мудрое решение: от греха подальше! Нас посадили в эшелон и эвакуировали на Урал. Приехали мы в поселок Бисерть Свердловской области, в школу № 25. Там было так: образование пять-шесть классов? Все, ты слесарь, вот тебе тисочки. А у тебя семь классов? Это уже что-то, ты — токарь, вот тебе станочек. К тому времени я уже окончила семь классов, поэтому познакомилась с токарным станком. Просто увлек меня этот станок! И через пять месяцев я получила удостоверение токаря-универсала пятого разряда. Спокойненько точила оболочки мин, вступила в комсомол, ездила с концертами и вообще была очень счастлива. У станка токарного вырос токаренок. И вдруг однажды приходит ко мне секретарь заводской комсомольской организации и говорит: «Нин, собери-ка ты котомочку, мы с тобой едем в Серги, в районный центр». Спрашиваю у него: «А почему я… Куда ты меня везешь?» Он говорит: «А я тебя арестовал». — «Как это так?! Комсорг, и вдруг арестовал?» — «Я не только секретарь, я секретный работник наших органов». Вот так вместо Артека я поехала сначала в Свердловск, где меня в первый раз назвали «немецкой подстилкой», на что я не очень осторожно сказала следователю: «Пока я еще ничья подстилка. Видимо, стану какой-нибудь арестантской», — за что схлопотала в глаз. Потом меня везли в Москву. Это было потрясающе: 1942 год — самая страшная война. Были такие знаменитые столыпинские вагоны для перевозки заключенных с зарешеченными четырехместными купе. Но меня как большого государственного преступника везли одну, и сопровождал меня конвой из пяти человек. Это в военное время! Было очень важно преступника довезти. Привезли меня в Москву, уже начало 1943 года, как раз освободили какой-то город. Был салют. Я спросила, в честь чего салют. Мне ответили: «С врагами не говорим на эту тему!» Ну что ж, нет так нет. Я попала в Калининскую внутреннюю тюрьму НКВД. У меня была одиночная камера вагонного типа: когда звучал отбой, кровать опускали, когда подъем, снова привинчивали к стенке. Стояла тумбочка и табуретка. В тумбочке — деревянные чашка, ложка, кружка. Железное нельзя: мы что-нибудь устроим, мы такие. И увесистый сосуд, именуемый в простоте парашей. Начались допросы. Меня вызвал капитан Карусенко (на всю жизнь запомнила своего следователя) и сказал, что есть данные о том, что моя мать, Мониковская Варвара Ивановна, во время оккупации добровольно сотрудничала с немцами, а также работала на немецкую, польскую и, кажется, японскую разведки. «Да мать-то у меня литератор!» — сказала я. «Ну, мало ли, она ведь вам все откровенно не рассказывала. Знаете, она очень подготовленный диверсионный работник. Они, умницы, никогда не откроют всего». — «Я воспитывалась матерью патриотом, как это можно…» — «Все можно, умный разведчик так и поступает. Нам нужно раскрыть серию преступлений, которые были совершены вашей матерью и ее сообщниками. Какими — в процессе следствия вы узнаете». И вот на одном из допросов он протянул мне показания моей матери и сказал: «Подпишите, что это все правда, и сделаете доброе дело для себя и для матери». Я ответила, что ничего подписывать не буду. «Тогда будете долго думать». И началось то, что было самым большим изуверством на моем пути, — суточные ночные допросы. Вызывают: «Ну, мы сегодня подпишем, Ниночка?» — «Не подпишем, гражданин начальник». — «Ну, тогда постой». Я стою, а он пишет, курит. Что делать — надо как-то заполнять время. Хорошо, я знала очень много стихов. Стою и читаю их про себя, вроде и время течет. Следователь смилостивится: «Устала?» — «Устала». — «Присядь, ну, будем подписывать?» — «Нет». — «Ага, ну ладно. Уведите». Уводят. Без двадцати шесть я попадаю в камеру, валюсь на койку. В шесть койку привинчивают к стенке, и я остаюсь на табуреточке. Если я склоняла голову, сразу открывалось окошко: не спать! И так четверо суток подряд. Это было самое страшное, что было во время следствия. Но я ничего не подписала. Потом меня вызвал прокурор. Ну, прокурор-то должен разобраться! Я узнала, что по нашему делу проходят еще люди: мамина подруга, диктор городского радио, у нее муж на фронте, двое детей дома. Дядька, который нас подметать выводил, его фамилия оказалась Большов, он тоже какой-то крупный диверсант. И самое непонятное для меня — чухонка Берта, которая почти не говорила по-русски. И вот якобы сколочена была диверсионная группа во главе с моей матерью. А все дело в том, что если по делу идет один человек — это одно достижение следователя, если же следователь раскрыл целую диверсионную группу — вы же понимаете. Я пыталась прокурору что-то лепетать, но результат был тот же: «Мы знаем, мы разберемся». 7 марта 1943 года нас судил военный трибунал Московского военного округа. Было предъявлено обвинение по самой страшной для меня статье — 58–1а «Измена Родине». Эта же статья применялась к моей матери и ко всем людям, которые проходили по этому делу. Судили минут тридцать без участия сторон обвинения, защиты и без вызова свидетелей; изложили, кто и в чем виноват. Суд ушел на заседание. И вот тогда нам с матерью разрешили подойти друг к другу. Я в то время начала курить, и какая-то добрая надзирательница подарила мне полпачки махорки. Я протянула маме эту махорку (она всю жизнь курила), и мама меня спросила: «Ты что, куришь? Не рано ли?» — «Ну, мама, мы же идем вперед…» Она сжала мои руки и сказала: «Доченька, слушай меня внимательно, нас сейчас разъединят. То, что сейчас происходит, — это величайшая несправедливость. Но это пройдет. Я не доживу, я это знаю. Но ты доживи, я тебя заклинаю. Не затаи в себе зла ни на Родину, ни на партию. И вот мой тебе зарок: выживи и займи мое место в партии». Это была, наверное, самая страшная минута в той моей жизни. Вы понимаете, 16-летняя девчонка со сломанной человеческой судьбой, и вот мама. Сейчас, через вереницу лет, можно себе представить, что за 15 минут до смертного приговора человек отдавал наказ своей дочери. Огласили приговор. Варваре Ивановне Мониковской присуждена высшая мера социальной защиты — так это звучало. Высшая мера. Расстрел. Большову — тоже расстрел. А вот маминой подруге, чухонке Берте и мне — по десять лет исправительно-трудовых лагерей. Учитывая мой несовершеннолетний возраст, мне дали срок «без поражения в правах и без конфискации имущества, как не имеющей такового». Когда я это услышала, я не помню, что со мной было. Меня поставили в «пенал», и через щель я видела, как провели мою мать, и тут уже я потеряла сознание. В камере общей тюрьмы мне попалась женщина, которая два месяца провела с моей матерью. И она рассказала, что маму приводили к камере, в которой я сидела, скорчившись на табуреточке, открывали волчок-глазок и говорили: вот, смотри, что с твоей дочерью, только ты можешь изменить ее судьбу. Да после этого, что мать не подпишет? И начался мой маршрут по этапам. Этап, особенно дальний, — это было ужасно. Товарный вагон, битком набитый людьми, поделен на верхние и нижние нары. Раздвижные двери. В стороне сделано отверстие, куда выведена труба, сверху крышка — это наш санузел. И в таких условиях путешествие могло продолжаться месяц. Сидели мы скрючившись, кто как. Два раза в сутки нас пересчитывали конвоиры: перегоняли с одной стороны вагона в другую, потом обратно. Иногда не сходилось. Этап пришел в Соликамск — центр Усольлага. Меня послали на сельхозработы, окучивать картошку. Вот так встанешь, посмотришь на этот рядок, а конца его и не видно. А норма питания зависела от выработки. Сделала три рядка — значит, будет тебе один раз в день похлебка и пайка хлеба. Не сделала — значит, либо похлебки не будет, либо пайки не дадут. Меня хватало на полтора рядочка. Потом, когда поняли, что с меня никакого толку не будет, поинтересовались: а какая у тебя профессия? Я говорю: «Я токарь!» — «Токарь?! Пойдем, у нас кое-что есть». Мне очень повезло, на моем пути встретился потрясающий человек — дядя Саша Бахориков, токарь. Ему было лет шестьдесят. Там были маленькие мастерские, два станочка, которые обслуживали базу этого лагеря. И вот он посмотрел на «токаренка», показал мне, где суппорт, бабка задняя, передняя. «Да ты все знаешь?!» — «Я все знаю». И стала я работать с дядей Сашей. А у него дочь на воле осталась такого же возраста, как я. А в лагере как? «А-а-а, Бахор себе малолетку подобрал». Все были уверены, что дядя Саша со мной проживает. А он меня любил, как свою дочь, подкармливал, поскольку я никогда нормы не вырабатывала. Было в лагере так называемое премблюдо — премиальное блюдо тем, кто выполнил норму, рекордистам, — большая запеканка из овсяной каши. А у дяди Саши друзья-шоферы все были на премблюдах. Он, бывало, принесет тазик баланды и четыре премблюда. И говорит: «Кушай сколько сможешь». Вот этот дядя Саша вытащил меня из голодухи, когда можно было просто от слабости погибнуть. Было и очень страшное. Хозяевами общих лагерей были, как их теперь называют, паханы. Тогда они просто звались главными. По трактовке мы были социально опасные, а они — социально близкие. И в их понятии мы были «шоколадницы» — немецкие подстилки. Лагерное начальство им внушало, что мы все с немцами были. Представляете, какая была возможность и предлог поиздеваться над нами. Мне очень сложно коснуться этой стороны жизни: не было того унижения, которое бы я не прошла в том возрасте как женщина. Была и хорошая сторона жизни: не было ни одного лагпункта, ни одного лагеря, где бы не было художественной самодеятельности. Культура — великая вещь, везде существует и помогает выжить. Появились на одном из лагпунктов два мужичка: виолончелист-солист из Большого театра Миша Чичивасов и режиссер Ростовского драматического театра Миша Попов. И вот на этой базе организовалась агитбригада всего Усольлага. Кто-то стихи писал, кто-то пел, играл. Как-то приехала к нам центральная культбригада, настоящий театр! Когда я увидела их спектакли, я поняла, что хочу туда, мне надо туда! Начальник культурно-воспитательной части мне сказал, что, если мы выступим как следует, появится шанс. Мы выложились как могли, и месяца через два на мое имя пришел спецнаряд, и я попала в центральную культбригаду Соликамска. Привезли меня в барак. На нарах — свободное место наверху. Туда никто не ложится, потому что рядом — репродуктор, и он говорит когда хочет и сколько хочет, и выключить его невозможно. А я за все эти годы первый раз услышала радио. И звучал Второй концерт Рахманинова. Я как подошла к этому радио, как встала — у меня слезы потекли, я себя не помнила. Музыка, понимаете. Меня спросили: «Ты ляжешь сюда?» — «А можно?!» — «Можно». Вот так я легла к Рахманинову. Это было райское житье: мы ставили спектакли, готовили концерты, ездили по всему громадному Усольлагу. Однажды к нам в культбригаду пришел новый человек, баритональный бас Леонид Максимович Гашенко. На фоне всей этой лагерной грязи, женского унижения вдруг нашелся человек, которого я полюбила. Он имел звание майора, был танкистом, прошел войну до Берлина. И в Берлине уже после войны за дружеским столом в кафе, когда сидели братья-однополчане, «толковали за войну», он вдруг сказал: «Победить-то победили, но какой ценой! Зачем нужно было столько жертв?» Так майор Гашенко получил десять лет за антисоветскую агитацию, и я встретилась со своей самой большой любовью в жизни. Это был не похожий ни на кого человек, прекрасно знавший литературу. Он столько читал мне стихов на украинском языке! Казалось, после всего того, что пережито в помойке общего лагеря, уже никаких чувств возникнуть не может. Но влюбилась я в него до потери сознания. Он на меня поглядывал как старший. Очень многому меня учил: даже тому, как нужно себя вести, как нужно кашлянуть, высморкаться, как нужно улыбнуться. Такой вот папа добрый был. Как было не полюбить! Но видно, и я ему чем-то понравилась. Всякий раз, когда мы приезжали с концертами в мужской лагпункт, нас, женщин, селили в бараке в специальной кабинке, где обычно жил «придурок». Это лагерная градация: есть работяга, есть придурок — комендант, нарядчик и т. п., который в зоне работает, и есть доходяга, который уже почти ничего не может. После концерта нас обязательно кто-то провожал, потом кабинку закрывали ключом на ночь, чтобы какой шальной туда не кинулся, простите за выражение. И утром открывали. Однажды Леонид Максимович провожал меня до кабинки. «Ну, иди». Я знала, что бывали мужчины, которые не брезговали зайти в эту кабину, раз случилась такая возможность. А он мне говорит: «Иди». Я сказала: «Поцелуй меня». И он поцеловал мне руку! Я сошла с ума. В тех условиях, среди этого кошмара, человек, у которого может быть что-то другое, целует мне руку! Это было на всю жизнь. Потом между нами произошло сближение. Но дело было не в этом. Это было не главное ни для меня, ни для него. Мы как-то были в другом мире. Мы надеялись на наше общее будущее. Судьба, правда, иначе сложилась. Нас развели по разным лагерям, мы переписывались. Однажды я получила от него очень большое серьезное письмо. У него начался прогрессирующий туберкулез, он уже не надеялся выжить: «Если выживу, то встретимся». Печалился о своей матери, которая была очень больна. Освобождался он раньше, писал, что будет ждать меня, что у нас будет семья. Я с этим жила. А потом мне написал его отец: Леня женился. На такой же женщине, которая прошла лагерь, на хохлушке. Она готовила очень вкусные борщи. Ему в этом смысле очень повезло, я бы не смогла его кормить такими. Через много лет мы встретились по другую сторону решетки. Хорошая была встреча. Потом в моей жизни начался второй этап. Снова товарняк. Везли очень долго. Мы спрашивали через решетку у обходчиков: «Что на вагоне написано?» — «Караганда». Караганда, ребята! И давай рвать свои телогреечки, купальнички себе шить: на юг едем с северов. Приехали. Голенькая степь. Бетпак-Дала. Северная голодная степь. Джезказган. В нескольких километрах — Байконур. Лагпункт Кенгир. Это были особые лагеря[39]. Когда уже в этой жизни мне удалось побывать в Дахау, я увидела, что он один в один с нашими особыми лагерями, только в наших не было крематориев. Режим был такой: десятичасовой рабочий день, передвигаться по зоне можно только пятерками, по одному ходить запрещалось. Все время, кроме того, что ты справляешь какие-то нужды, ходишь на питание, уходишь на работу, ты находишься под замком. И что самое оригинальное, нас больше не стало: ни Мониковских, ни Петровских, никаких, — просто у каждого свой номер. У меня был СО862. Мы строили Джезказган. Джез — по-казахски «медь». Когда мы только прибыли, отправились мыться в баню. Дали нам по куску мыла. И работницы бани нам говорят: «Девчонки, вот сейчас вы смочите голову, намылите, но ни в коем случае не смывайте, потом не расчешете, будет колтун». Почему? Потому что там 70 % меди в воде! Представляете, в каком раю мы жили? И действительно, кто не послушался, пришлось остригаться. Я была занята на общих земельных работах: рыла траншеи, махала киркой, отбойным молотком. Летом подъем в половине пятого, зимой — в пять часов. Оправка, вывод за зону. Время, которое ты идешь на работу, не считается за рабочее время, а вести могут бог знает сколько. И десять часов непосредственно на рабочем месте. Пайка с собой, кипяток давали прямо на месте. Обеда как такового не было. В Кенгире произошло несколько незабываемых встреч. Однажды у меня заболел зуб. Разнесло меня дальше некуда, и я попала в центральный лазарет, где познакомилась с потрясающим человеком — Жанной-Марией-Терезой Иосифовной Кофман[40]. Был такой период, когда в Советскую Россию по призыву Коминтерна ехали все коммунисты мира строить новое общество. Много-много приехало. Всех их в итоге посадили вместе с домочадцами, потому что в нашем понятии это были враги, внедряемые в наше здоровое общество. Жанна, еще когда жила в Париже, мечтала стать монахиней. А когда ее папа вместе с сестренкой перевез в Россию, она подумала: а почему монахиней? И стала врачом-нейрохирургом, окончила Первый медицинский. И одновременно занималась альпинизмом. Был тогда у нас знаменитый альпинист Абалаков, и Жанна, влюбленная в горы до потрясения, служила врачом в его экспедициях. И вот я повстречалась с этой невероятной личностью. Она лежала с инсультом, а врачи (она все-таки свой человек) как-то ее поддерживали. Жанна так много рассказывала, столько влила в меня любви к горам, которых я еще никогда не видела, что любовь эта осталась у меня на всю жизнь. Еще одна потрясающая встреча была там же. В лагерь привезли Окуневскую[41]. Окуневская — одна из первых заслуженных артисток Советского Союза, жена Бориса Горбатова[42], героиня его фильмов, как же она может быть здесь? И вот идет по лагерю женщина в изумительном манто голубого цвета. Это в тех-то условиях, когда мы все в номерочках. Все обалдели: шествует Окуневская. А у нас были так называемые паучихи — это те, кто пригрелись на теплых местах, уже давно в лагере, живут за счет других. Вдруг одна из них (у нее была должность старший контролер, это царь и бог лагеря: на какой объект послать, что сделать и т. д.) подходит и говорит: «Татьяна Кирилловна, такое предложение: вы нам уступаете вот эту вещь, а мы вам обеспечиваем прекрасное безбедное пребывание в нашем лагере». Окуневская отвечает: «А если нет?» — «Ну все равно же испортят, заставят вшить номер». — «Ну давайте вошьем номер!» При этом не «нашить», а именно «вшить», потому что если нашить, ты же можешь сорвать и в побег уйти, а так уже не уйдешь. И вот Татьяна вырезает огромную заплатку и вшивает свой лагерный номер. У нас была создана культбригада. В нее входили в основном профессионалы и я, шпингалет без всякого образования, — почему-то мне доверяли. Может, я шла напролом. Там, где профессионалы раздумывали «можно — нельзя», я просто делала, и иногда получалось. Ну, и начальство снисходительно смотрело: что с этой девчонки взять? Она же не организует тут общий лагерный побег, пусть потешается. Однажды меня вызвал к себе начальник, майор Костяной (мы его называли Оловянный): «Что ты опять придумала? Что за Штраус у тебя?!» А в то время боролись с космополитизмом, убирали все иностранное. Я ему говорю: «Ну, Штраус — великий композитор!» — «Чего ты мне суешь этого Штрауса?! Ты что, русского композитора не можешь найти?» Я ему пообещала: ладно, гражданин начальник, найду. А мы подготовили небольшое танцевальное ревю. Достали марлю, сделали пачки. Солистка Киевской оперы Шура Конько пела «тарарам-пам-пам-тарам» Штрауса, и под этот вальс девчонки танцевали. Это было чудо в тех условиях! И вот номер запрещают. Тогда я написала: «Лирическая Терентьева» — и пустила этот номер. Костяной потом мне сказал: «Ну ведь можешь, когда захочешь! А то Штраус…» В лагере ждали какое-то начальство, нужно было подготовить большой концерт. Меня вызвал начальник и сказал: «Привезли какую-то актрису из Москвы, говорят, знаменитая. Ты ее привлеки, сочините что-нибудь такое, чтобы я прозвенел». Я пришла к Татьяне Кирилловне, мы познакомились. Она попросила меня почитать. Я ей что-то почитала. Потом она спросила: «Ну ладно. А от меня вы что хотите?» Я ответила, что начальство хочет, чтобы она приняла участие в концерте. «Нина, в неволе птицы не поют. Я никогда в неволе на подмостки не выйду, что бы со мной ни делали», — сказала Окуневская. «Татьяна Кирилловна, мне тут сценарий надо подготовить…» — «Ну, в этом я вам помогу!» Мы составили сценарий вроде путешествия по разным местам. Хороший конферанс написали. Концерт прошел на ура. Буквально на второй день меня вызвал к себе оперуполномоченный: «Ну что, обработали уже тебя, дурочку?» — «А что такое?» — «Что вы вчера показали людям в концерте? Что у тебя там говорит одна дама насчет нашей смелости?» Была в представлении реплика: «Ха, смелость и нахальство города берут!» «Ну? Значит, мы всю войну нахальством выиграли?! Я прекрасно понимаю, это не твоя идея, это все московская диверсантка устраивает. Они знаешь какие ушлые? Они вас, дураков, обработают, и вы уже понять не успеете, когда создадите тут свою антисоветскую организацию! Так что мы всю эту вашу контору закрываем. Никому с этой артисткой сношений не иметь! Ты меня поняла?!» — «Поняла». В общем, нас разогнали. Ну, а я уже не могу, у нас уже знакомство! Окуневская открыла мне изумительный мир, напела всего Вертинского — что мы о нем тогда знали? Она все-таки была человеком большой культуры. «Давайте я буду заниматься с вами техникой речи», — как-то предложила она мне. Как я могла отказаться?! И вот пять часов утра — подъем, понесли выливать параши, туда-сюда. Возле моих нар — Татьяна Кирилловна. «Встаем!» — хоть камни с неба. По периметру лагеря проходила большая «запретка», стояли вышки, и была тропочка перед «запреткой», где иногда ходили уборщики. И вот мы ходим по этой тропинке с Татьяной Кирилловной, и она меня учит гекзаметрам.«Вышла из мрака нагая с перстами пурпурными Эос».
Собственных чувств наблюдая разруху,
Стоишь обнаженный с одною мечтой.
Вот мне Маяковский, по крови и духу
Любимый, родной, ощутимый, живой.
Но мне его силы в стихах не хватает, таких,
Чтобы душу встряхнули до дна.
Мне все говорят достоверно:
Бывает у каждого в жизни Один иль Одна.
Вот здорово, да, повстречаться,
Увидеть, кричать: «Это Он» — и услышать: «Она»,
И с этим одним ликовать, ненавидеть,
Часы отбирать у работы и сна.
Казалось бы, можно, но верится мало,
Что с этим одним не соскучишься вновь.
Мне как-то спокойною быть не пристало,
Не та, понимаешь ли, батькина кровь.
Ей нужен разбег, а кругом — лишь прогулки.
Идут, поднимая любовную пыль,
Отстроят себе особняк в переулке
И свозят туда романтичную гниль.
По полочкам чувства разложат уютно,
Гардиной приличья закроют окно.
И как попугаи твердят поминутно,
Что высшее в жизни лишь высшим дано.
А мне, понимаешь ли, тесно в гардинах,
Не в силах в шкатулочках чувства нести,
Уют и приличье, венец, паутину
Не мне, не моими руками плести,
И страшно не то, что проносятся годы,
А этот один иль одна не пришли.
Нет, страшно утратить желанье свободы
И спрятать в шкатулочку чувства свои.
Меня не томят патефонные звуки,
Не мне под гавайские струны рыдать.
Быть может, мои говорящие руки
Такую рапсодию могут создать.
Быть может, во мне утонченность салона
С шалманною грязью вплотную сплелись,
И может быть, каждому нерву знакомо,
Что значит подняться и трахнуться вниз,
Что значит обид ядовитое жало,
Что значит отрада кипучей борьбы.
Не в залах салона — на нарах
Познала томленье царицы и голод рабы.
Быть может, глупа, мой стих неуклюжий,
И мне, как и всем, суждено умереть,
Но все ж до конца разбродяжу я душу
И с ней до конца буду сметь и хотеть.

Статья 58–1а за «измену Родине» Шестнадцатилетняя Нинель Мониковская и ее мать Варвара Ивановна были осуждены в марте 1943 года по статье 58–1а за «измену Родине». С 1941 по 1942 год они находились на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории. Под «изменой Родине» могли подразумеваться любые формы общения и контакта с врагами. Варвару Ивановну приговорили к расстрелу, а несовершеннолетнюю Нинель — к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. В 1948 году Нинель направили в один из особых лагерей, созданных специально для заключенных, осужденных за контрреволюционные преступления, в том числе по статье 58–1а, 1б. Заключенные особлагов носили на одежде крупные номера, на ночь их запирали в бараках, за невыполнение норм лишали пищи. Нинель отбывала наказание в Степном лагере (Особый лагерь № 4), расположенном в Карагандинской области Казахстана.
АЛЕКСАНДРА УСПЕНСКАЯ

Александра Успенская до ареста, Ленинградская область, 1941 год
Интервью записано 21 июня 2014 года. Режиссеры Ирина Бузина и Вероника Соловьева. Оператор Вероника Соловьева.
Александра Павловна Успенская родилась 1 ноября 1923 года в деревне Погост Санкт-Петербургской губернии. Она была младшей из четверых детей в крестьянской семье. После восьмого класса Александра поступила в техникум и следующие два года совмещала учебу с преподаванием в сельской школе. В 1943 году ее арестовали по доносу одного из односельчан, который приписал Александре собственные критические замечания в адрес советского строя. Александра Павловна была осуждена по статье 58–10 и приговорена к 10 годам лагерей. Так она оказалась в лагере в Мончегорске, оттуда ее перевели в Челябинск-40, а затем — в Норильск. В лагере Александра Павловна работала на лесоповале, затем освоила профессию бухгалтера складского хозяйства. Освободившись в 1952 году, поселилась в Норильске, работала бухгалтером, вышла замуж, в 1968 году вместе с мужем переехала в Москву. Реабилитирована в 1960 году.
«В общем, им надо было кого-то посадить… Спросить тоже “за что” — ни за что!»
Я родилась в 1923 году осенью: раньше же подгадывали так, чтобы не мешало работе. Так что я родилась 1 ноября, у нас уже зима была. И 19 дней ждали батюшку, когда он приедет меня крестить. Приехал: «Сапожки еще не просит?» Мама говорит: «Да нет, еще не просит. Валенки надо!» Батюшка приехал и покрестил. Так что первого я родилась, а крестили девятнадцатого. Середняки мы были — крестьяне-середняки. Дома все было. В люди не ходили, все у нас было. И лошади были: одна, я помню, такая мышиного цвета кобылка. Мы сдали в колхоз ее. И как едут, чуть зазевался извозчик — а она уже поворачивает домой. Любила очень дом. А папа вообще был настолько прост, прямо ужас какой-то! У нас было три лошади, и всех их сдали мы в колхоз. Папа приходит и маме говорит: «Я лошадь купил у цыган!» Мама: «Да ты с ума сошел! Мы же сдали уже три лошади! Куда же еще?!» Он: «Так эту уже не возьмут! Зачем?!» Вот настолько был прост человек: раз уже сдал три лошади, так зачем еще будут брать. Мама говорит: «Ты что! Все заберут! Иди, верни обратно!» Вот он пошел, вернул обратно. Вообще простые люди были, слава богу. Но жалко, что уже нет их давно. Мама всю жизнь только и работала. Как колхозы стали, конечно, и в колхозе она работала. А так — все по дому. Папа и на лесозаготовках был, везде ездил. А она дома. Это Ленинградская область, наша деревня называлась Погост, а напротив была деревня Сараково. В деревне у нас река Мегра. Очень хорошая река, широкая, не очень глубокая, но замечательная река. И рыба водилась. Большая деревня, хорошая. Очень много раньше жило там народу. А сейчас уже большинство уехали. Я жила в родительском доме, пока меня не арестовали. Но родителей уже не было. Война началась, и папа, и мама в 1942 году умерли. Сестра старшая уже была замужем, а средняя уехала в Петрозаводск. Я до 1943 года была одна, а потом меня арестовали. Я учительницей работала: восемь классов окончила, и с девятого класса перевелась в техникум. Одновременно я и училась, и работала в дальней деревне, среди лесов. Немножечко я учительницей проработала — два года и четыре месяца. И меня посадили. Конечно, я была в комсомоле. Забрали у меня комсомольский билет. Дома у нас висели образа — и в комнате, и в горнице. Но родители никогда нас не заставляли, чтобы мы веровали. Надо вам поступать в октябрята — пожалуйста, поступайте, в пионеры — пожалуйста, в комсомол — никогда в жизни родители мне ничего не запрещали. Все было нормально. Но видно, кому-то не понравилась я. И вот посадили… У нас был Игорь, сын нашей учительницы Анны Матвеевны. Вот, бывало, придет на собрание комсомольское, встанет около плакатов (а там написано «столько-то хлеба сдали, выполнили такой-то план, взяли обязательство…») и начинает: «Вот в этом плакате то-то написано, а ведь фактически не то!» Я помню, как он стоял у плаката, а мы сидели и ждали, когда начнется собрание. А когда меня арестовали, оказалось, все, что он говорил, все это записано на меня. Все это было записано на меня! Я когда уже освободилась, приехала в деревню, у него уже семья была. Я ему говорю: «Гарька, неужели тебе не стыдно было свои разговоры на меня записать?» — «Я не виноват — меня заставляли». Вот и все. Вот и весь разговор. Никогда в жизни не думала, что меня могут арестовать. За что? Правда, когда я еще училась в восьмом классе, у нас был учитель немецкого языка. Вот его арестовали. А к нему все хорошо относились. Мы только начинали немецкий язык изучать, не думали, конечно, что будет война. Всем было интересно изучать какой-то иностранный язык. Молодежи всегда хочется чего-то нового. Хороший дядька-то был вообще. Он не жалел своего времени, дополнительные занятия устраивал: «Давайте, ребята, поучимся! Мало ли, в жизни придется». За каждое слово его потом нас вызывали и спрашивали: «А что он говорил?» В общем, им надо было кого-то посадить. Спросить тоже «за что» — ни за что! Потому что он немец был, преподавал немецкий язык. Вот и весь разговор. Я пришла вечером с работы. Мне говорят, что меня вызывают в район: «Иди, ты должна завтра утром быть там». Вот я пришла. Там участковый милиционер, Витя Карпачев, не забуду. Я говорю: «Вить, меня зачем-то послали сюда». Он говорит: «Ну что, будешь ждать начальника». Сижу, уже вечер. Я говорю: «Что, мне нельзя домой идти?» — «Нет, нельзя. Ты здесь будь». Ну ладно, будь так будь. Утром встала, умылась — жду. Приходит в девять часов начальник. Я говорю: «Неужели нельзя было отпустить меня домой?» — «Нельзя!» — одно слово. Ну, нельзя так нельзя. Я сижу. «Вот сейчас придет конвой и поведет тебя в Белозерск». Ну, поведет так поведет. И вот, помню, пурга такая, холод, а нам надо пешком идти, и мы шли. Пришли мы в Белозерск. Сразу меня посадили в тюрьму. Сижу день, сижу два, сижу три. Никто меня не вызывает. Потом приходит военный следователь: «Вам обвинение». Я говорю: «За что?» Мол, вы вот это сказали. Я говорю: «Да это не я говорила! Это Игорь говорил. Он подходил к этому плакату, читал, говорил, комментировал». — «Ну, это все написано на вас». А правдой было вот что. Однажды шел строй солдат — взвод, а может, рота, я не понимаю, — и у них было на всех три винтовки. Больше не было. И я, между прочим, говорила: «Вот уже война, а они идут и без оружия». — «Как это вы могли сказать, что они без оружия?» Как могла? Я видела, что прошел строй солдат и у них не было оружия. Нельзя было говорить то, что видишь. Он же все это записывал. «Подпишете?» Я говорю: «Подпишу». И подписывала все, что же, интересно, не подписывать? А женщина, которая со мной несколько часов в камере сидела, сказала: «Будут заставлять подписывать — подписывай. Иначе будут бить». А меня в жизни никогда не били. Дома-то не трогали. Вечером я легла в тюрьме, утром встала — седые виски. А мне тогда было двадцать лет, шел двадцать первый год. Я только Господу благодарна, что родителей уже не было, что родители хоть не переживали. Им нужно было план выполнить. Никогда не забуду, как следователь сказал: «Я выполнил план!» Вот вам пожалуйста! Сказано: надо посадить десять человек — вот они и сажали, и хватали, кого надо и не надо. Иванов следователь был, молодой парень. Он читал, а я подписывала. «Будешь читать?» — «Нет, не буду, вы же читали», — и все, и подписывала. Кто виноват, если ты сам все подписал? Я просто боялась, чтодействительно будут бить. Били-то ведь раньше не так, как сейчас бьют. Раньше знаете, как били? Били сразу до смерти. Вы же не представляете, что было раньше. Ведь невозможно было говорить, невозможно, чтобы они что-нибудь сказали нормальное… нет! Вот поэтому я первый отдел ужасно не люблю. Вот сидела когда тоже — это такое вранье! Лишь бы только посадить человека, а за что — это их не касается! Вот таким образом я отсидела почти восемь с половиной лет. Только полтора года у меня осталось зачет[45], зачет тогда применяли, а так вот — восемь с лишним лет и еще три года поражения в правах. А ведь всякое было, не приведи Господь никому крещеному! Ведь во время войны не обращали внимания на нас. Никто даже и не думал, чтоб обратить внимание на человека заключенного. Никому это не надо было. Как только война-то закончилась, все так радовались! «Слава богу, нас выпустят!» Но где там. Нет, конечно, не выпустили. Мы приехали в лагерь. Тогда еще не было бараков, только большие землянки — я в жизни таких не видела. Внутри нары двухъярусные, печки металлические топятся все время, потому что иначе нельзя: там сырость ужасная. На верхнем ярусе еще можно спать, но внизу совсем холодно. В первую ночь нас, новеньких, наверх никто не пустил, и мы спали, завернувшись в старые телогрейки. Потом те, что старше, сказали: «Девочки, давайте потеснее ляжем, чтобы они ушли снизу!» Раньше же не было ничего: голые нары, и все. На этих голых нарах и спишь. И накрываешься телогрейкой, и спишь на телогрейке. Потом сделали так: на нары стелили солому и прибивали материалом. И вот вроде что-то мягкое. А потом барак-то построили, так уже получше стало. В лагере я сильно болела цингой. У нас был врач. Он был из Прибалтики, Карл Карлович. Приду к нему, а у меня ноги были — сплошная рана. А он: «Ну что мне делать с тобой? Я не могу тебя освободить, надо тебе на работу идти». А брюки если бы были чистые, а то ведь все в крови. Но бывают очень хорошие люди. Я никогда не забуду Галю Помаскину. Она сидела по бытовой статье, воровка, работала у нас дневальной. Видно, пожалела меня, я все-таки молодая, а ноги-то — сплошная болячка. Я пришла один раз с работы. Я уже ни пить, ни есть не хотела — ноги так болят. Она говорит: — Что у тебя? — Да вот что. — И что Карл Карлович? — Да ничего, наоборот, каждый день меня выбрасывает на работу. — Ну ладно, давай-ка я тебя возьмусь лечить! И она однажды вечером принесла мне полотенце. А вы знаете, что раньше там, если даже какая-нибудь тряпочка есть, так вообще невозможно ее куда-нибудь деть — все равно украдут. А она принесла мне полотенце и говорит: «Ну-ка сходи в туалет». Я пошла, и она стала мне оборачивать ноги. И прошло, а то я вообще думала, что все будет уже до кости. Но слава богу, поправились ноги мои, и я стала ходить более или менее нормально. Потом я перестала есть: вообще отвращение полное к пище. Совсем не хочется есть, не хочется пить — ничего не хочется. И вот думаю: «Ну, все». Лежу в бараке. Уже и на работу меня не посылают, потому что я так похудела. В общем, я уже не могу вставать. Опять, как говорится, везло мне на добрых людей. У нас была дневальная Шура Борисова. Наверное, нет ее уже в живых. Так она, бывало, скажет: — Ну что, будешь умирать? — Ну и что, буду умирать. — Что-нибудь-то хочешь? — Нет, ничего не хочу. И вот она взялась за меня. Ну, хлеб-то приносили, пайку. Она эту пайку возьмет, пойдет и поменяет на чеснок. Натрет корочку чесноком: «На, хоть пососи. Может, получше будет». Я стала помаленьку откусывать корочки. И вот она меня подняла. Там в лагере бывает отдел для тех, которые здоровые, но худые. Их помещают в отдельный барак и дают отдохнуть. И вроде когда отдыхаешь — маленечко сил набираешься. И тогда уже устраивают куда-нибудь на работу. Положили меня в этот барак, и Шура за мной стала ухаживать, стала меня кормить: «Давай помаленьку, давай помаленьку!» И я стала есть и выздоравливать. Бывают вообще хорошие люди. А так — загнулась бы давно. Бригада у нас была такая хорошая. Мы на лесоповале работали — грузили в машину бревна. Хорошие девочки попадались. И вот они, бывало, где потяжелей, скажут: «Отойди, отойди пока. Полегче будет, тогда придешь». Много хороших людей. Только благодаря хорошим людям я и стала здоровой. Не забуду никогда: Женя Базинская, такая интересная женщина — волосы курчавые, длинные. Она все время следила, чтобы у меня никто ничего не брал. Если дадут хлеб или еще что-нибудь, она: «Не трогайте у нее, пусть она съест сама, иначе она не выздоровеет». Все время следила. Вот так я и прожила среди добрых людей. Никогда ничего мне не делалось: никто меня не бил, никто меня не продавал. Захотят продать человека — и пойдут нажалуются: она, мол, то говорит или это говорит. А потом не докажешь, ни за что не докажешь, все равно они будут правы. И я еще должна сказать об охранниках. Есть человечные, а бывает, такой попадется — ужас! Один раз мы на этап пошли. Было человека четыре охранника, и один попался — такая дрянь! То не так идем, то не туда идем. И в грязь положить — ничего не стоит! Ложись в грязь, и все. Или в снег. Вот так бывает. А уж если хороший человек, так он идет себе с винтовкой. Он знает, что я никуда не денусь, и идет, спокойненько доведет до места. Всякое было, всякое, не дай Господь. За восемь с лишним лет много воды утекло. И много здоровья ушло. Работали то на лесоповале, то на очистке чего-нибудь. В бараке по четыре-пять бригад было. В пять часов подъем, и надо идти за завтраком. Идешь, завтрак получаешь на улице. Хлеб выдают вместе с завтраком. А ели мы из деревянных кормушек. Я один раз пришла в барак, поставила кормушку-то, только отвернулась — хлеба нет. И так до следующего утра! Не приведи Господь. Кормили плохо, не знаю даже, как это они варили. Зеленая капуста с рыбой: какую-нибудь туда рыбу положат, уже нехорошую, конечно, протухшую. Нельзя было даже взять в рот. Около столовой стоишь, пока тебе это пойло нальют, придешь, поешь, собираешься, идешь на работу. Мороз, солнце, дождик — все равно идти на работу надо. Ничего нельзя было оставить ни на столе, ни за столом. Тут же утащат! Политические сначала были отдельно, а затем нас соединили с уголовниками. У нас был замначальника, капитан, хороший такой, и как только они забузят, он приходит: «Ну что, блатные! Я сам раз семь блатной. Ну-ка перестаньте! Не трогайте их!» А потом нас снова разделили, и стало просто замечательно. Политические все-таки народ грамотный. За что политических сажали? На фронт парень, например, не пошел — сказал: «Не пойду я убивать людей, мне по религии не полагается». Ну вот его сажали. Потом у меня было две богомолки: Клава и Таня. Так они в праздники не работали. Один раз прихожу вечером, я уже бригадиром была, а мне говорят: «Таню с Клавой посадили в изолятор за то, что они на работу не вышли». Их сразу в изолятор и на триста грамм хлеба. Вот сидели мы все вместе, политические, мы не воровали, мы не убивали. Как все жили, так и мы жили. И кое-как выжили. И слава тебе Господи. Тогда еще Господа-то мы так часто не вспоминали, но за меня Клава и Таня молились. Они мне даже крестик подарили там. Тоже ни за что ни про что — нельзя было молиться, вот их и посадили. Я не помню, сколько они там отсидели, но их освободили. Они всегда говорили: «Мы за тебя будем молиться». И мне действительно Николай-угодник помог, потому что один раз вижу во сне: прихожу я домой. А в деревне, знаете, русская печь. Тут устье, а там в комнату дверь, и я вхожу, и около устья стоит старичок, седой, беленький такой. А я уж доходная была, то есть кожа да кости — в лагере называли доходягой. Вот и смотрю через дверь-то, а там в комнате на кровати лежит девушка, очень красивая, бело-розовая такая. Я так поворачиваюсь к этому старичку-то и говорю: «Какая красивая девушка». А он и говорит: «Молись Николаю-угоднику, и ты будешь такая». Вот так. Вот когда я Татьяне-то рассказала, она говорит: «Так вот мы молимся за тебя, и ты молись». Может быть, действительно Господь помог. Больше-то не на кого надеяться. После Мончегорска я была в Челябинске-40[46]. Это был лагерь, где вырабатывают атом, закрытый лагерь. Там долго не держат: определенное время подержат, и уматывай. Чтобы не знали, чего и как. И из Челябинска перевели меня в Норильск. Там меня уже стали выпускать по пропуску. А мои знакомые освободились, по пять лет отсидели: Алексей Алексеевич Левицкий и Анна Тихоновна Пластунова. Они хорошие были друзья. Как выхожу за зону — не к кому идти, а они всегда меня приглашали. Приду, посижу у них. Хорошие люди были! И опять, уже никого из них нет в живых. Вот я пришла на работу. Начальник части интендантского снабжения — хороший был мужичок, маленький такой, вольнонаемный — приходит: «Шур! Ты же сегодня освобождаешься! Справку уже тебе написали!» Прямо так я обрадовалась, аж слезы выскочили! «Чего ты плачешь-то?» Я говорю: «Как же мне не плакать?! Столько времени я ждала этот день!» — «Вот тебе справка — давай, уматывай! Куда ты пойдешь-то?» Я говорю: «Да пойду куда-нибудь! Неужели ты думаешь, что я останусь тут? Есть у меня, куда идти! У меня приятелей тут полно!» Вот так я и освободилась. Выдали справку, и до свидания. И я вышла из зоны, отдала им пропуск. Я никогда не забуду: женщина там сидела на вахте. Я ей говорю: «Вот ваши документы. Не нужны они больше мне. Я освободилась!» — «Ну, поздравляю!» — обрадовалась так. Чужие люди, а все-таки радость, что вышел один человек на свободу. Казалось бы, что я им сделала — ничего. А хороших людей полно. Люди меня посадили, люди меня и отпустили. В день освобождения дали вот эту справку и денег выдали 896 рублей. И вот я пошла к Анне Тихоновне Пластуновой. Они жили в Норильске, в Спецстрое. Она сразу же устроила меня на работу. И я стала у нее жить. Освободилась… Что делать? Можно было ехать в деревню, но там уже у всех свои семьи. Никому я не нужна. Осталась в Норильске. Там какие-то курсы окончила бухгалтерские. Анна Тихоновна давно уже работала. Она тоже из лагеря, у нее было пять лет. Она тут же пошла к директрисе и сказала: «Вот, возьмите человека!» Мне неудобно говорить, но она говорила: «Она настолько честная, в любом отношении она не подведет вас!» И я вначале поработала в столовой, а потом перешла в Райпищеторг, в магазине поработала. А потом нас соединили. У нас стала общая бухгалтерия. Мы уже стали руководители расчетных групп. Так я и проработала до конца в Райпищеторге. И вообще мне все время нравилась эта работа: я работала и работала, считала, вот. Я освободилась за год до смерти Сталина, в 1952 году. Все жалели, что умер Сталин. Я не знаю почему, но все были очень довольны, пока он руководил. Вы знаете, как я любила Сталина! Когда он умер, я даже плакала. Он действительно был, как говорится, отец родной. Так что Сталина я любила. Но раньше иначе нельзя было. Вот если в газете есть портрет Сталина — ни боже спаси, нельзя выбрасывать эту газету. Нельзя было ничего делать с ней. А за что его было не любить-то? Он все же делал для людей много всего хорошего. В лагере я не скажу, чтобы к нему плохо относились. Все-таки люди надеялись на него, что он будет справедливым, что сделает амнистию по окончании войны. Во время войны мы очень много Сталину писали. Но ничего не поменялось. Как была норма, так и осталась норма. Как получен был срок, так и остался срок. Если бы он хотел уменьшить срок, он бы давным-давно уже уменьшил. Единственный человек, кто отвечал на письма заключенных, — это Калинин. Вот он всем отвечал, сколько бы ни писали ему, и все равно ничего не делал: не уменьшал срок. Но ответ он всегда давал. Я тоже писала Калинину, все писали. Копии, правда, не сохранила. Я писала, что вот обвиняют меня в том, что я говорила, что мало оружия, что мы не готовы к войне. Я не помню, чего он написал, но, во всяком случае, оставили срок. Вот так и сидела. А уж всего, да всего хватило — и летом, и зимой, и весной, и осенью. Всего-всего. Знаю, что такое голод. Это такая страсть, это такая страсть! Не дай Господь никому пережить! А потом, когда отвращение ко всему, — ужас, вот ведь кошмар какой-то! Ведь вот хлеб лежит, а тебе его не хочется есть, не хочется. Не хочется даже кусочек взять. Вот до чего получается отвращение. В Норильске мы познакомились с мужем. Он был начальником отдела труда и зарплаты, я в бухгалтерии работала. Он отсидел пять лет. Тоже приятель посадил его за «террор»: сказал, он кого-то там хочет убить. Ну вот, ему дали пять лет, и он отсидел. Но когда посадили его, он молодым мальчишкой был. Так он говорил: «Если бы мама не приехала, я б повесился». Во как было сладко! Молодой парень, а тоже ничего не смог доказать, ничего. Потом моя жизнь очень хорошо складывалась. Муж у меня был — не знаю даже, есть у кого-нибудь еще такой муж или нет. Прелесть прямо человек. Я не знаю, может, он любил меня, может, не хотел расстраивать по каждому пустяку. У меня отвратительный характер, такой отвратительный характер, не дай господь. А он — всегда только лишь бы было все хорошо, только было бы хорошо! Вот так. Муж — коренной москвич. У него здесь остались мама и сестра. И мы в 1968 году переехали сюда. Тогда уже всех реабилитированных пускали в Москву. А то вначале, когда еще он только освободился, так его заставляли жить на 101-м каком-нибудь километре. Он устроился на работу — работал в Центракадемстрое. И прописался здесь — дали комнату в коммуналке на Ленинском проспекте, 22 метра. Мне должны были дать компенсацию — деньги, но мне их не дали. Кто-то за меня их получил. А денег было много. Ну, да и ладно, я не жалею. Никогда у меня не было больших денег. У меня всегда были так, проходные деньги. Я никогда не копила. Солженицына хоронить ходила. Молодец, он хоть что-то поднял, что надо. Действительно, надо, надо что-то делать, нельзя же так, нельзя. Но я говорю, что все зависит от людей. Люди, люди делают, у людей все и будет. До тех пор, пока люди не изменятся, все у нас будет по-прежнему.
Труд заключенных на объектах атомного проекта Александра Успенская, осужденная по статье 58–10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) на 10 лет лишения свободы, отбывала наказание в исправительно-трудовых лагерях в тяжелое военное и послевоенное время. Во время заключения она работала на первом в СССР предприятии атомной промышленности. В августе 1945 года, после атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, осуществленной США, в СССР активизировались работы по созданию атомной бомбы, начатые еще в довоенное время. Государственный комитет обороны СССР образовал специальный комитет, на который возлагалась реализация атомного проекта. Его председателем был назначен Л. П. Берия. На территориях месторождения урана создавались лагеря, такие как Чаунский ИТЛ, Бутугычаг и другие. В 1946 году был принят генеральный план возведения первого в СССР предприятия по переработке оружейного плутония. По плану предусматривалось строительство жилого поселка на пять тысяч человек. Для будущего предприятия была выбрана площадка на Южном Урале, в Челябинской области, в районе старинных уральских городов Кыштым и Касли. На этом месте со временем был возведен целый комплекс промышленных предприятий, зданий и сооружений, соединенных между собой сетью автомобильных и железных дорог, системой теплоэнергоснабжения, промышленного водоснабжения и канализации. Наиболее известное название секретного города — Челябинск-40, или «Сороковка». При строительстве атомных институтов, заводов и шахт, а также добыче урана использовался труд заключенных ГУЛАГа.
ИССА КОДЗОЕВ

Исса Кодзоев (справа) с ингушским поэтом Али Хашагульговым, Мордовия, ИТК п/я ЖХ-385/11, 1965 год
Интервью записано 3 января 2018 года. Режиссер Мария Гуськова. Оператор Денис Гуськов.
Исса Аюбович Кодзоев родился в 1938 году в селе Ангушт Чечено-Ингушской АССР. 23 февраля 1944 года в возрасте пяти лет вместе с родителями выслан в Казахстан. В ссылке потерял всю семью и скитался по детским домам. В 1956 году вместе с семьей своего дяди вернулся на родину. В 1957 году Исса Кодзоев поступает на филологический факультет Чечено-Ингушского педагогического института. Во время учебы записывает воспоминания чеченцев и ингушей о депортации и жизни в Казахстане. Рукопись получает название «Казахстанский дневник». 10 сентября 1963 года Кодзоев приговорен к четырем годам лишения свободы за антисоветскую националистическую пропаганду, изготовление националистической литературы. После освобождения продолжает отстаивать права своего народа — основывает общественно-политическую организацию «Нийсхо», ведет активную литературную деятельность.
«Власть приказала ингушей в село не пускать»
Мое активное сознание включилось 23 февраля 1944 года. То, что было до, у меня вспоминается вроде кинокадров. Иногда я откуда-то издалека достаю такой кадр. Например, у нас в селе Ангушт была узенькая речонка Арчхи. Люди очень любили эту речку. Там построили новый мостик. Я называл его золотым, потому что свежие обструганные доски казались мне золотыми. Я бегал на этот мостик, любил стоять и глядеть, как вода течет, волны перекатываются через камешки. Мне казалось, что в этой речке живет какая-то девочка. Я стоял на мостике и ждал, когда она мне покажет язык, — наверное, это было что-то из бабушкиных сказок… В предрассветный час, когда мусульмане поднимаются на намаз, к нам постучались. Об этом вспоминал дедушка — он тогда открывал ворота. Сказали, что у мечети будет большой митинг в честь 23 февраля, дня Красной армии и Военно-морского флота. Клуба в селе не было, и массовые мероприятия обычно проводились во дворе мечети. Вот туда всех и созвали. Гудели машины, на перекрестках стояли автоматчики и пулеметчики, двор мечети был окружен кольцом солдат. Мужчин загнали во двор. На какой-то камень поднялся военный человек в белом полушубке — все офицеры были в новеньких белых полушубках, видимо, специально выдали обмундирование. Объявил, что нас выселяют, так решила партия и правительство, мы — бандиты, предатели, нам здесь жить нельзя. Сперва было гробовое молчание, потом раздались возгласы возмущения, но тут же поверх толпы началась стрельба из пулеметов: дали понять, что роптать не стоит. Что могут сделать безоружные люди? Со всех сторон на вас направлены стволы автоматов и пулеметов. Я проснулся оттого, что в доме плакали и кричали женщины. Мужчины вернулись из мечети, и к нам во двор вошло много солдат. У нас была собака Хаги, дед ее еще щенком принес, так вот Хаги не пускала их во двор. И тогда один солдат вскинул винтовку и застрелил нашу собаку. Я слышал выстрел, подбежал к окну — вижу, она бьется в луже алой крови. Дед, когда умирал, говорил: «Две кровные мести я не возместил. Кровь своей собаки, которую на моих глазах чужеземец застрелил, и кровь несчастного мальчика…» Мальчика уже в Казахстане застрелили. Ему было лет тринадцать, он психологически был не очень состоятелен (слаб рассудком). Проголодавшись, мальчик залез в колхозный огород и сорвал, как говорят, шесть огурцов. Женщины-колхозницы подняли крик: «Вор, бандит!» А он ничего не понимает, ест огурец и смеется. Был там офицер-резервист Коба, им тогда в каждом селе выдавали винтовки на случай, если мы восстание поднимем. Коба мальчика застрелил. В нашем доме несколько месяцев жили четыре офицера. Им выделили комнатку. Вечером бабушка специально готовила для них горячий ужин. Она говорила: «Это воины, несчастные мужчины, оторвались от дома». Позже оказалось, это были офицеры, планировавшие наше выселение. Я маленький часто с ними играл, мне интересно было. Они мне кусочек сахара или печенье какое-нибудь давали. В тот день один из них взял меня на руки. А я дал ему пощечину и плюнул. Это была реакция на то, что тетя, мачеха, бабушка плакали. Потом офицер спрашивал у моего отца: «Аюб, за что он меня?» А отец отвечал: «У тебя не хватает ума понять, за что? Что вы с нашим народом делаете?» Потом в Казахстане дед говорил так: «Ни один из наших мужчин не оказал сопротивление чужеземцам. Единственный внук мой что-то сделал, больше никто ничего не сделал». Солдатам было приказано при малейшем подозрении на неподчинение применять оружие без предупреждения, что они и делали. Я был маленький и мог видеть только то, что происходило в моем дворе. Вспоминали, как солдат прикладом ударил старика, его сноха, мать маленького мальчика, заступилась за него, и тогда солдат выпустил по ним очередь. Подобных случаев было очень много. Это были войска НКВД, они привыкли воевать с мирным населением. Тех, кто отказывался уезжать, расстреливали. Мой дед хотел остаться. Отец, он был священником, сказал: «Я знаю, что ты задумал. Ты можешь двух, трех, четырех человек застрелить. Я знаю, что у тебя в тайнике стоит оружие. Но многим будет очень плохо, и на тебя падет их грех. Я как священник тебе это говорю». И тогда дед покорился. По подсчетам, 40 процентов погибли в первые годы выселения. От голода, от ностальгии: человек отказывался разговаривать, есть, пить, и — умирал. Был один старик, он так и скончался. Люди рассказывали, что его постигла болезнь отечества — ностальгия. На сборы давали 15 минут. Люди навечно уходили из своего отечества туда, где у них ничего нет, 15 минут на сборы в такой трагический день. Что успевали брать в руки, то и везли с собой. Иногда солдаты специально препятствовали тому, чтобы люди брали продукты, теплую одежду, — зло свое вымещали. Я не могу сказать, что все так делали. Говорят, находились среди солдат фронтовики, которые с нашими ингушскими и чеченскими мужчинами сражались на фронте, вот те более-менее по-человечески относились. За минуты, которые выделили нашей семье на сборы, мы успели взять два мешка кукурузы, немного сушеного вяленого мяса, горшочек масла. Из постельных принадлежностей кое-что. Отец взял несколько священных книг, Коран моей матери 1911 года — он и сейчас у меня, несколько книг юридического порядка. Очень много было у отца арабской философской литературы, книг по геометрии, физике, математике — вся эта библиотека осталась дома. А также ценное старинное оружие, кремневое ружье, пистолеты, кинжалы XVII–XVIII веков. В каждом ингушском доме тогда висел специальный ковер под оружие. Чтобы серебро высветилось, женщины умели делать такие ковры. Выселяемых поделили на категории, нетранспортабельных приказано было оставить дома — якобы потом придет специальная санитарная команда, и их повезут на поезде с врачами в хороших условиях. Некоторые с радостью оставляли таких людей. Приходила команда солдат, стариков и больных отвозили, клали на возвышенное место и с другого кургана расстреливали. В нашей машине было человек двадцать из нашего двора. Никто не пытался бежать. Конвой, автоматчики — что можно сделать? По всей дороге стояли пулеметные расчеты. До поезда везли часа четыре. Дорога была забита машинами — представьте, весь народ выселяют! Ходили слухи, что нас посадят на корабли и бросят в море. Отец успокаивал людей, говорил, что это решение Бога и нам нужно ему покориться, сохранить семьи, веру во все хорошее, что у нас есть. Я помню, что женщины плакали — с родиной расстаются, а дед на них накричал: «Не надо, — говорит, - чтобы они видели наши слезы». Я даже не знаю, было ли мне страшно, но я чувствовал что-то такое, чего никогда не было, что-то очень плохое. Мне шел шестой год. Когда нас везли, наши сопредельные соседи, осетины, устраивали праздники. Хлопали вслед нам, подметали — обычай такой у них. Очень радовались. Наверное, тому, что наши дома и земли перейдут им. Еще засветло мы доехали до Орджоникидзе. На вокзале нас выгрузили. Мы стояли на холоде, окруженные солдатами, слушали, как осетины хором весело поют нам «Ой, варайда, варайда» — это как «люли-люли». Потом один солдат их прогнал, наверное, надоело ему это все слушать. Уже в сумерках нас погрузили в вагоны. И покатились мы в сторону Казахстана. Везли нас в неизвестность в битком набитых товарных вагонах восемнадцать дней. Человек же живой, у него есть естественные надобности — для этого в углу каждого вагона пробивали отверстие, делали крышечку и завешивали ширмой. У нас очень стыдливые женщины, а в то время они в два-три раза стыдливее были. Я ребенок, меня можно было в туалет отвести, а женщин очень много погибло от разрыва мочевого пузыря. Стеснялись люди, стыд тогда еще был в законе. В дороге в нашем вагоне родился ребенок: помню, одна старая женщина приказала мужчинам отвернуться и не слушать. Потом раздалось что-то похожее на плач — ребенок родился. Стояла страшная духота. Было душно и холодно одновременно. Дедушка усмотрел в вагоне какую-то дырочку, расширил ее шилом, и я прикладывался к ней ртом. Вкус этого сладкого воздуха я помню по сей день. В нашем вагоне мой дедушка был старейшиной. У него спрашивали, как, когда и что делать, он отвечал. Ему было уже за сто, но он все еще был сильный и мог работать. Трудились все, работы было много: вагон прибрать, буржуйку растопить, что-нибудь приготовить. Питание горячее нам давали раз в два дня. В больших алюминиевых баках приносили какую-то кашу. Эту кашу потом женщины поровну делили между всеми. Еды было очень мало. Я был единственный сын и потому не голодал. Особенно старалась моя бабушка: то кусочек вяленого мяса мне сунет, то кукурузного хлеба. Мы были из большого селения, от нас дорога шла до Орджоникидзе, и нас везли на машинах, а в других вагонах ехали люди, которых с гор спустили, у них только ручная кладь была, больше ничего. Они очень страдали от голода. Остановки в среднем были раз в сутки. Самые быстрые, ловкие и решительные парни успевали принести уголь для буржуйки, воду. Люди на оправку выходили, женщины старались проползти под вагоном, чтобы оказаться на другой стороне. Но ни один в нашем вагоне не оставил ни одной очередной молитвы. Люди исполняли свои ритуалы и молились Богу несмотря ни на что. Очень тяжело было с водой. Ее экономили, умывались, вытираясь едва влажными полотенцами. Когда запасы кончались, дед распоряжался взрослым больше не пить, а оставить детям. Для омовения в исламе указывается норма воды — минимум половина литра. Когда воды не было, использовали сухое омовение. Дорога была трагической. В соседнем вагоне старушка умирала. И у нее был единственный сын. Она была, наверное, в беспамятстве и твердила, что хочет молока. На одной из остановок ее сын взял солдатский котелок и побежал на станцию. Где-то он купил это молоко. Я хорошо помню тот котелок, сейчас военные котелки вроде сплющенные, а тогда они были круглые, алюминиевые, белые. Мужчина был в полушубке, в левой руке у него был котелок. Поезд уже двинулся, и он бежал. Очень он старался догнать наш вагон. Дверцы вагона еще не были закрыты, в них стоял солдат, и я сквозь него видел, как этот человек бежит. И когда солдат понял, что мужчина нас уже не догонит, он выстрелил. Я помню, как плеснуло молоко, — очень часто мне это снится. И он растянулся на снегу. Это был рядовой случай. Бывали случаи смерти. Особенно много умирало людей, выселенных с гор. Это абсолютно вольные люди, их затолкали, как мух, в коробочку, и они не выдерживали. Медицинской помощи нам не оказывали, не было ни одного врача ни в одном вагоне. Но в отчетах НКВД санитарный час обозначался. На каждой станции, когда поезд на 15–20 минут останавливался, входили солдаты и проверяли, нет ли умерших. Люди скрывали, потому что надеялись предать тела земле по-человечески там, куда прибудут. У одного мужчины умерла мать, он положил ее к стенке, прикрыл одеялом, а сам лег к ней спиной — надеялся, что ее не найдут. Солдаты отобрали у него тело матери и выбросили в снег. Если кто-то сопротивлялся и не отдавал умершего, раздавались автоматные очереди. С нами не нянчились: малейшее недоразумение и несогласие — расстрел. Конечно, везти трупы две-три недели невозможно. На больших станциях их сгружали на пол, а на малых, где не было помещений, родственники зарывали тела прямо в снег. Обязательно читали молитву, но уже потом, в поезде. Мы приехали ночью. Сказать, что была темная ночь, нельзя, потому что все было белым-бело. Нас сгрузили на снег и оставили ждать до утра. Поезд уехал. Был страшный мороз. Костер разжечь нечем. Мы люди южные, в тапочках многие. Бабушка завернула меня в одеяло. Какой-то мужчина ходил между рядами людей и говорил: «Двигайтесь, шевелитесь, тот, кто засыпает, больше не проснется». Он поднимал тех, кто засыпал. Старики вспоминали, он многим спас жизнь. Когда замерзаешь, тянет ко сну, и этот крепкий, как бетон, снег кажется вам пуховой периной, лечь на него просто удовольствие — это смерть вас манит. Уже позже в Казахстане я сам несколько раз находился в таком состоянии. В ту ночь, я думаю, третья часть приехавших людей погибла. Наутро сидело по два-три замерзших вместе тела: отец, мать, ребенок. Особенно много было детей, кто-то лежал. Жуткая картина. Когда взошло солнце, я посмотрел вокруг и поразился: куда подевались горы, где они? Дома, в Ангуште, моя кровать стояла у окна, и я всегда видел гору, она нависала прямо над окном. Бабушка ответила мне, что здесь нет гор, это такая страна — ровная. Куда ни глянь — снег, небо от земли отличить невозможно. И пронизывающий холод. Это был ад, только не огненный, а морозный. «Бабушка, давай поедем домой!» — сказал я ей. Она дала мне кусочек мяса и замерзшего кукурузного хлеба, чурека, но я никак не мог его откусить, помню, я его сосал. Подъехали сани, запряженные в основном волами, много саней — это председатели колхозов приехали себе забирать рабочий люд. Где много детей — не надо! Их кормить придется. А если в семье несколько взрослых работоспособных человек, тех забирали. Это очень походило на работорговлю. Кого не разобрали — женщины, старики и дети — еще три ночи там оставались сидеть. Рассказывали, потом их перевезли в какой-то клуб, там было очень холодно, как на улице. Представляете, клуб не отапливается, 31–32 градуса мороза на улице. Нас подобрал председатель Михайлюк, потому что в семье было несколько рабочих рук: отец, дедушка, тетя и дядя. Подогнали сани, хорошо, что в них соломы было очень много. Вот туда две семьи с вещами погрузили и повезли, километров пятьдесят мы ехали. Я помню, нас поселили на квартиру к хозяевам, фамилия их была Баевы. Дед, бабушка — старики они были. Там мы у них до весны жили. Потом от них съехали. Они были люди неплохие, незлобные, добрые люди. И время от времени нам по одной картофелине давали, это было очень сильное подспорье к нашему скудному питанию. Питались мы кукурузной мукой. Там были жернова у всех людей, мы мололи и делали кукурузный хлеб. Ели утром и вечером, слово «обед» почти забыли. Утром и вечером — чтобы растянуть на дольше. Еще у нас горшочек масла был, бабушка понемногу каждому на кукурузный хлеб мазала. Ели мясо вяленое, толокно. По-нашему «джур» называется. Вечером бабушка брала понемножечку толокна — у нас была такая мерная ложка, и каждому на ореховые дощечки насыпала (ингуши раньше тарелок не знали, да и в русских деревнях, наверное, не было лишних тарелок). И мы ели, запивая водой. Село, в которое мы приехали, называлось Окраинка. Это Кустанайская область, Орджоникидзевский район, колхоз «Путь к коммунизму». От Челябинска 100 км. Мой отец был столяр по профессии. Он долго болел туберкулезом и впоследствии от этой болезни умер. Но работал он до последнего дня. От голодной смерти нашу семью и спасло то, что он был хороший мастер своего дела. Из нашей семьи, состоявшей из 13 человек, семеро ходили на работу. Существовало такое понятие — трудодни[47]. Можно было за день заработать трудодень, а за некоторые очень тяжелые работы — полтора, а то и два трудодня. Мой отец имел чистый трудодень каждый день, потому что работал в мастерской. Работали за минимальную еду, просто чтобы душа держалась в теле. Председатель колхоза Михайлюк был маленьким Сталиным, о людях не думал, главным для него была работа. Люди могли умирать с голоду, главное — чтобы они выполнили заготовки. После того как государство все забирало, там мало чего оставалось. На трудодни — 100 граммов, 200 граммов… Первый раз, когда мы получили за год шесть мешков пшеницы, мы говорили: вот это житуха! Хлеба я досыта наелся первый раз в 1948 году. Где-то в 1950 году в первый раз увидели деньги. Поначалу в селе к нам относились очень плохо, потому что обкомовские работники, энкавэдэшники, собирали людей и читали лекции: едут людоеды, головорезы, остерегайтесь их, берегите своих детей. Я помню, как первую весну вышел на улицу, и там бегали украинчата. Я издалека за ними наблюдал и знал имя каждого мальчика и девочки, потому что они играли и окликали друг друга. Мне тоже хотелось играть. Я подхожу к ним, а они — врассыпную. «Съист!» — по-украински кричат. Среди них была девочка Таня. Что я сделал? Я же ингуш, абрек. Там была яма, заросшая бурьяном, где они играли в прятки. Я устроил там засаду. И первой в засаду попалась эта Танечка. Я помню, у нее такое платьишко было, мне оно показалось очень красивым. Господи, что она со мной только не делала: плевалась, царапалась, кричала, кулачками била. А я твердил только одно: «Не надо, Таня, не надо». Детвора разбежалась, издалека смотрит, как я ее «ем», и кричат Тане: «Беги, беги до нас!» А я ее просто держал, я знал: мне никакой агрессии нельзя делать. Мне очень скучно одному было. Сидели мы с ней в яме, сидели, потом начали разговаривать. Она мне — по-украински, я ей — по-ингушски. Наверное, мы что-то понимали. На второй день я опять туда пошел, ребята стали от меня убегать, а Таня уже не так прытко, как все остальные. Я заплакал, и она пожалела меня, вернулась, мы снова сидели и разговаривали. С ингушскими детишками мы тоже играли, но интересно же играть со всеми. Например, мы жили так, что от нас до других ингушей было далеко, и шестилетнему ребенку страшно одному идти через неизвестное село. А здесь у меня под рукой украинчата в свои игры играют, веселятся, разговаривают. Позже мы научили их ингушским играм. У нас, у ингушей, есть детский ритуал прошения дождя у Бога: ряженые дети надевают на себя ветки, траву, бурьян, ходят по домам и молитвы читают; у вашего двора прочитали — вы берете ведро и на этого ряженого выливаете. Все вместе играли: украинцы, молдаване, ингуши, казахи. Мы научились Пасху праздновать! Поздравительные слова выучили, ходили по дворам и поздравляли всех. Но потом в школе нас всех выставили во главе со мной: «Ты же ингуш, как ты мог!» Я говорю: «Ребята ходили, и я ходил». Когда нас привезли в Окраинку, нам сказали, что выселили нас навечно, есть указ Молотова и что над нами устанавливается комендатура: без официального разрешения за переезд из села в село — пять лет. Из района в район — 10 лет. Из области в область — 15 лет. Из республики в республику — 25 лет. В нашем селе одна семья ингушей сбежала в самую суровую зиму, кажется, в Узбекистан. Они скрылись в одну ночь. Я не знаю их судьбу, но говорили, что они остались живы. Контроль и надзор за тем, чтобы никто никуда не убегал, осуществлялся комендантом и помкоменданта, его называли «полкоменданта». Каждый месяц в определенную дату необходимо было явиться и расписаться. Над некоторыми милиция осуществляла личный контроль. И местные очень хорошо доносили, кто на что способен. Доносительство было очень сильно развито. В селе жили всего две казахские семьи, остальные — разных национальностей. Семей пятнадцать ингушей, одна семья чеченская, две молдавские — их еще с 30-х годов выселили как кулаков, три семьи белорусы, украинцы и даже один курд. Много было немцев, семей десять. Они были в ужасном состоянии — война! Местное население относилось к ним как к фашистам. В школе некоторые учителя меня называли бандитом, а немцев — фашистами. Могли сказать: «А ну-ка, ты, фашистенок», или «Эй, бандючонок». Мы почти привыкли к такому обращению и даже гордились этим. Значит, я нормальный. Если какого ингушонка или чечененка не называли бандитом, значит, он или сексот, или нехорошее что-то. Однажды я стоял на улице, а в доме у нас молились: отец собрал сельскую паству. Вдруг вижу, по улице бежит девушка-немка, волосы растрепанные, и кричит: «Война закончилась! Война закончилась!» Я зашел в дом, встал в дверях и сказал: «Война закончилась!» Все повернулись ко мне. Я говорю: «Там тетя бежала, кричала: “Война закончилась!”» И тогда они сотворили молитву. Семь стариков — сначала мой отец помолился как имам, потом все остальные — возблагодарили Бога за то, что это великое человекопобоище кончилось. В 1952 году умер мой отец, и я попал в интернат для репрессированных в поселке Денисовка. Проучился я там недолго, после окончания пятого класса мне вернули документы и сказали на следующий год в интернат не приезжать, потому что места для меня нет, оно отдано для ребенка фронтовика. Я поехал к дяде домой, первую четверть раз-два в неделю ходил в соседнее село за 12 км в школу, мне было интересно, и я очень хотел учиться. И тогда я написал письмо председателю районо. В письме я рассказал, что я ингуш и хочу учиться, что у меня нет родителей, я сирота, окончил пятый класс, обещал вести себя нормально. Детское такое письмо — ну что может написать шестиклассник? Однажды подозвал меня директор школы и говорит: «Тебя вызывают в районо». Дает мне бумагу и показывает адрес. Помню, что был очень холодный день. Я сел на борт грузовой машины, доехал до районо, но был уже вечер, и все ушли домой. И тогда я начал ходить и спрашивать, где живет районо. Наконец мне показали дом, я постучался. Мне открыла женщина-казашка. Я говорю: «Я — Кодзоев Исса, ингуш, я писал письмо в районо». Она привела мужа, он меня спросил про письмо. Оказывается, оно его сильно тронуло, мое письмо. Меня очень хорошо приняли. Принесли большую чашку с теплой водой и с мылом, я помылся, а его жена мыла мне ноги — это было первый раз в моей жизни. Меня накормили. Я прожил у них неделю, отъелся и почувствовал себя уже нормальным гражданином Союза Советских Социалистических Республик. Очень хороший человек был этот казах, он искал для меня место, ходил и звонил. Нашлось оно в интернате в селе Ливановка Камышинского района. Поймали грузовую машину, снабдили меня харчами. Мороз стоял небольшой, градусов десять, но одежда у меня была не очень теплая, полуботинки парусиновые и простые носки. И мне сказали: «Все время танцуй, пока едешь!» В открытой машине всю дорогу, пятьдесят километров, я танцевал, ритуал зикр[48] совершал. Шоферу было приказано сдать меня коменданту с рук на руки. Село располагалось на кургане, и дом коменданта был там же. Меня высадили. «Вот тебе документы, во-о-он, камышовую крышу видишь? Хорошо видишь, ингуш?» Я сказал: «Хорошо вижу» ,— и тогда водитель дал мне пинка. «Катись, там директор, ему и отдашь документы». Встретили меня хорошо, сразу отвели в столовую. Надежда Васильевна, наша кухарка, большую миску борща мне поставила: «Все ешь, а то половником по голове огрею, сукин сын». А я и без нее бы все уплел! В интернате было семнадцать девочек и тринадцать мальчиков. Бывший помещичий дом, широкий коридор посередине, с одной стороны мальчики, с другой — девочки. Круглые сироты, как я, жили на полном обеспечении круглый год. Таких было человек десять, и мы получали свои деньги из Федоровского детдома. А прочие — их в табеле почему-то называли «прочие» — в учебное время учились, а на каникулы ездили домой. По национальности — русские, украинцы, казахи, немцы, девочки-литовки были. Так я жил с шестого по десятый класс, до 1956 года. Пионером я никогда не был, потому что у меня было плохое поведение. Я и не хотел быть пионером. Я не видел, что они особые ребята, эти пионеры, да ингушей не очень-то принимали. Потому что мы спецпереселенцы. Вдруг я потом великим шпионом заделаюсь, проникну в пионерскую организацию… В седьмом классе был такой предмет, назывался Конституция СССР. Преподавал его учитель Ким Иван Иванович, по национальности кореец. В нашем классе было трое репрессированных: я — ингуш, мой друг Арнольд, немец, и девочка-немка. Тесная комнатка, я сидел на первой парте, рядом была ниша с какими-то приборами, гербарий. Я поднял руку и спрашиваю: «Вы сказали, что все народы имеют одинаковые права, а почему для ингушей и немцев нет таких прав, как для остальных граждан СССР?» Учитель взял футляр из-под очков, стукнул меня им по голове и говорит: «Бандючонок, для бандитов и фашистов тюрьмы строят, а не конституции пишут». Я не удержался, схватил гербарий и надел ему на голову. Смотрю, девочка-немка плачет, Арнольд по-немецки что-то кричит. Учитель начал выгонять меня из класса, а я говорю: «Я не уйду!» Я уже в таком был физическом состоянии, что вполне мог дать ему отпор, если бы он попытался на меня воздействовать силой. Он схватил парту, тащит ее, а тогда в парте ученик сидел, как танкист в танке. Я уперся, ерзаю, а ученики хохочут. Зашла классная руководительница, из класса меня выгнали, приказали идти к директору. А директором у нас был Иван Маркович Неделько — Герой Советского Союза, белорусский партизан. Он был очень добрый и честный человек, но такого матерщинника я в жизни больше не встречал. Он матерился стихами. Плечо у него было выбито бронебойным снарядом, рука висела. Если он подходил и начинал раскачивать рукой, надо было отходить на безопасное расстояние. Но мужик был отменный. Я его очень уважал. Зашел я к директору, а он схватил большую геометрическую линейку и отхлестал меня хорошенько по мягкому месту. «Будешь, сукин сын, баловаться!» Иван Маркович позвал в класс классную руководительницу и говорит: «Посадите за парту этого сукина сына!» Он сделал так, чтобы меня спасти, чтобы меня не отправили в детприемник. Тот, кто попадал в детприемник, тот потом попадал в урки. В интернате мы любили петь сиротские песни. Например:Там в саду при долине
Громко пел соловей,
А я мальчик на чужбине,
Позабыт от людей,
Позабыт, позаброшен
С молодых, юных лет,
Сам остался сиротой,
Счастья доли мне нет.
«Вы покинете отечество, как покидает стадо хозяйский двор. Все вместе. Возвращаться будете, точно как стадо возвращается назад — кто впереди, кто сзади, кто бегом, кто запоздалый, кто раньше. Три года вы не вернетесь. Если после трех лет вы не вернетесь, вы будете семь лет. Если после семи лет не вернетесь, вы будете тринадцать лет».Мы в это верили. В школе мы с Арнольдом сидели за одной партой — с нами никто не хотел сидеть: я бандит, а он фашист. В классах было холодновато, а у Арнольда был тулуп. В тот день мы сидели, накрывшись тулупом, и давились от смеха — такая радость у нас у обоих! Шакал издох! А смеяться нельзя. Учительница подумала, что мы так ревем, что аж давимся. И она, плача, Арнольда по плечу похлопала: «Ничего, ребята, партия нас не оставит». Она нас таким образом выручила. Потом я говорю Арнольду: «Очень хорошие времена наступили, мы можем долго гулять и не учиться». У нас в школе была русская девочка, ее называли Плаксой. Мы ее на перемене поймали и пригрозили: «Как урок только начнется, ты заревешь. Не заревешь — мы тебе на перемене покажем!» Приходит учитель, урок начинается, и вдруг Плакса: «Господи, что мы будем делать, генеральный секретарь ЦК партии, вождь мирового пролетариата умер!» Девочки подхватывают, за ними мальчики. Тут уж и учительница — попробуй не заплачь! На второй день ее увезут, осудят. В общем, урок сорван. Мы занимались этим две недели. Потом нас расколола учительница географии, Марья Степановна, она меня перед уроком затащила в каморку, где наглядное пособие стояло. Говорит: «Зайди сюда, поможешь мне». А я с удовольствием, очень хорошая она была, интересно географию преподавала. «Кодзоев, угомонись! Хватит, учиться надо!» Я Арнольду отбой дал, и потом мы больше не «плакали». 1956 год, я был на зимних каникулах у дяди. В один день по селу вдруг начали ходить конторские уборщицы и собирать людей: «На собранию, на собранию!» Никто ничего не знал, говорили, что пришла какая-то бумага из ЦК. Поехали туда, где читают письмо. И вдруг объявляют про разоблачение культа личности Сталина, про то, что ингушей, чеченцев, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев репрессировали незаконно. Местные ингуши заволновались, начали переглядываться, и один из них говорит русскому: «Помнишь, я тебе сказал, что мы не виноваты!» Вот так объявили, что мы не бандиты, что мы обыкновенные нормальные люди, как все. Трудно передать, что это был за день. Это был день, когда меня окунули в море радости, в море чего-то светлого. С сердца сняли гарь. Мы очень хвастали перед другими этой бумагой. Потом не раз приезжали из обкома, не только читали письмо, но и разъяснительную беседу проводили. Хрущёва обожали. В каждом ингушском доме был его портрет. И сейчас старшие, когда бывают в Москве, обязательно посещают могилу Хрущёва. В тот же год после ноябрьских каникул я отправился на Кавказ. Приехал двоюродный брат, сказал, что они возвращаются, и дядя хочет, чтобы я поехал с ними. Я ворвался к директору со словами: «Иван Маркович, отдайте мои документы, я хочу домой». Он говорит: «Куда домой? Ты окончишь школу, я дам тебе полный аттестат, и потом поедешь». Я воскликнул: «Нет! Я сейчас хочу домой, если вы не отдадите, я так поеду». Он постоял у окна, затем полез в карман, достал какие-то деньги, я не помню, сколько их было, в глазах у него блестели слезы. «Аж завидно», — сказал. И я отправился домой. Стояла глубокая осень, когда мы двинулись на родину. Целый автопоезд. Дедушка Берс, ему было уже за сто, — позже я напишу о нем в «Казахстанском дневнике» — сказал: давайте попрощаемся с нашими погибшими. Мы повернули на кладбище. Было слышно, как он кричал, прощался. Все плакали. Это была жуткая картина. Приехали на станцию, погрузились. Во всех поездах — только чеченцы и ингуши. И все — на юг. Как перелетные птицы. Русскую речь очень редко можно было услышать. У моего дяди были карманные часы с красивой длинной серебряной цепочкой. Они у него остановились, когда нас депортировали. В Казахстане он надевал их просто как украшение, когда ехал на свадьбу, на торжество. И вот когда мы въехали на территорию Кавказа, слышим, что-то тикает. Мой двоюродный брат говорит: «Отец, это, верно, твои часы». Дядя отвечает: «Что ты, они уже 13 лет не ходят!» Достали их, а они идут! Вот такое чудо с нами случилось. Они шли потом долгодолго. На первой чечено-ингушской станции кто-то сорвал стоп-кран. Открылись двери. Что это было! Описать очень трудно. Все ринулись вниз, легли плашмя на землю, целовали ее, плакали, кричали: «Родина, родина!..» Я сначала не понял, а потом и меня захватило. 6 декабря 1956 года в Орджоникидзе мы сошли с поезда. Из 13 человек нашей семьи назад вернулось семеро. Отец, дед, бабушка, малолетние братья и сестры умерли, а мачеху увезли родственники в другой край. На станции мы встретили три знакомые семьи из Ангушта. «Почему вы не едете домой?» — спрашиваем. Оказалось, осетины организовали конную армию, власть им выдала новенькие двустволки и приказала ингушей ни в коем случае в село не пускать[49]. Пускай возвращаются назад, откуда приехали. Решили, что все вместе зайдем в охотничий магазин и скупим все ружья. Но там мало что осталось, и наша семья ничего не смогла приобрести. С собой у нас был только сельскохозяйственный инструмент, топор, ножи, которые есть в любом хозяйстве. Решили, что так и поедем домой. Нас собралось машин двенадцать. Перед отправкой вышел мужчина в длинной папахе и сказал: «Мы или завоюем нашу родину снова, или же навечно распрощаемся. Ничего бояться не надо. Женщины и дети пусть ложатся плашмя в кузов машины, если начнется пальба. Войти в село нужно в любом случае, другого выхода у нас нет!» И мы двинулись в путь. Через какое-то время показались осетины на конях, у всех новенькие двустволки. Пели «Варайду». Подъехали, остановились, встали поперек дороги. Мы вышли из машин, у дяди в руке был топор, у меня — нож, и какую-то железяку держали мои двоюродные братья. Осетинский командир спросил, куда мы едем. А тот мужчина в длинной папахе крикнул ему: «Домой!» И послал его по-русски. Взял коня рывком — тот чуть не сорвался в пропасть — и говорит нам: «Проезжайте! Мы едем домой, а не на чужбину!» Слава богу, мы проехали мимо этой армии и никакого трения больше не произошло. Въехали в Ангушт, остановились возле мечети, сгрузились. Я спрыгнул с машины и побежал на свой «золотой» мостик. Мостика не было. Несколько гнилых досок. И прямо в речке лежала дохлая свинья. А на кладбище я не нашел маминой могилы. Могильную стелу унесли. Наш дом был занят семьей казаков, и нам дали комнатку в доме по соседству. Через два месяца казак за плату отдал нам комнату в нашем же родном доме. Комнату, где в 1944 году жили военные, которые нас выселяли. В ней мы прожили год. Нас было восемь человек: дядя, его жена, трое сыновей, две малолетние дочери и я. Мне удалось устроить свою постель под дядиной кроватью. Там я не только спал, но и делал уроки. К хозяевам у нас претензий не было. Однорукий мужик, у него жена, малолетние дочки. Они приехали, купили у власти этот дом — куда теперь они могли деться? Ни о каком возвращении наших домов речи не было. Нам говорили: «Советская власть Гитлера победила, а вы хотите свой дом отобрать. Интересные вы люди!..» В 1957 году я поступил на историко-филологический факультет пединститута. Тогда же стал записывать рассказы и воспоминания: где бы ни собирались ингуши и чеченцы, разговоры сразу начинались о том, что и как было в день выселения. Не найти человека того поколения, кто бы пять-десять лет не отсидел за что-то. Я записывал рассказ за рассказом — скорее для себя, для памяти. Я назвал это «Казахстанский дневник». В моей любимой книге «Легенда об Уленшпигеле» были такие слова: «Пепел Клааса стучит в мое сердце»[50]. Их я взял эпиграфом к моему дневнику. Я не собирался его печатать, просто иногда читал отрывки студентам. Не думал, что делаю какое-то антисоветское дело. По окончании института я работал в селе Кантышево, был завучем средней школы и учителем русского языка в старших классах. Однажды я стоял дома на коленях перед кроватью — доставал из чемодана ручки, карандаши, чернила — и вдруг услышал в открытое окно: «Не шевелиться!» И тут же в дверях появились люди. Обыскали меня. Забрали рукопись «Казахстанского дневника», все мои бумаги, к каждому листочку составили отдельный протокол. Вечером отвезли в Грозный. А в Грозном уже арестовали моего друга Али[51] — нашего очень талантливого поэта. Он с ингушским языком делал то, что Паганини делал со скрипкой. Начались допросы, обвинения в антисоветчине. Я долго не понимал, какая антисоветчина в том, что я рассказывал. Мы с Али решили не врать, ни ради спасения, ни ради чего. Мы сели и договорились просто быть честными. Плохое — говорить плохое, хорошее — говорить хорошее. Некоторые решения ЦК КПСС нам не нравились, мы в письмах друг к другу писали, что это ерунда, что социализм построить практически невозможно, потому что природа человеческая не такая, не социалистическая. В итоге две статьи нам «пришили»: антисоветская агитация и пропаганда и распространение антисоветской националистической литературы. Арестовали меня 4 июня 1963 года. Допрашивали по каждой страничке дневника: что это такое и почему, что здесь написано, почему так написано. «Пепел Клааса стучит в мое сердце», — почему так? Я объясняю, что есть такая книга — «Легенда об Уленшпигеле», такой лейтмотив главного героя. Его отца сожгли на костре по обвинению. Наших людей не сожгли, но погубили. Мы треть народа в изгнании похоронили. Что такое пепел? Это память, я помню о погибших, о родных своих. На это следователь мне говорит: «Что вы все время твердите: нас выселили, нас выселили? Что вы за это так цепляетесь, когда вы эти басни перестанете рассказывать? Это надо забыть, надо жить дальше, партия же исправила свои ошибки!» — «Интересные вы люди, — отвечаю. — Когда ингуш с голоду крадет полмешка пшеницы, он преступник, и его на пять лет сажают. А когда вы закапываете треть народа в землю — это ошибки. Где критерий? Весы ваши что-то хандрят». Такая вот шла нудная беседа. Потом к делу добавили нашу переписку с Али. Мне говорили: «Сопляк, ты поднял руку против советской власти! Ты знаешь мощь Советского Союза?» Как не знать, я ее на себе испытал. Мой друг Али, если ему нужно было возразить следователю, придумывал цитату, приписывал ее Карлу Марксу или Фридриху Энгельсу, ссылаясь на номер тома. Три месяца шло следствие, и никто не догадался проверить! Они считали, что мы Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса назубок знаем и этими вот знаниями готовились свергнуть советскую власть. Считалось, это был первый случай открытого выступления против советской власти на территории Чечено-Ингушетии. Из нас сделали революционеров. А мы просто говорили то, что думали, ни о какой революции, ни о каком восстании и помыслов у нас не было. Я думал, что мне дадут минимум 20 лет. Говорили, что мое преступление так велико, что вряд ли я когда-нибудь выйду живым из тюрьмы. Но теперь я понимаю: честное, правдивое слово было для них настолько опасно, что терпеть они его не могли. Нас с Али приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительно-трудовых колониях строгого режима для политзаключенных.

«Чечевица» — операция по депортации чечено-ингушского народа Операция по депортации чечено-ингушского народа началась 23 февраля 1944 года в два часа ночи. Выселению подлежало 459 486 человек. Местом расселения были определены Казахская и Киргизская ССР. Эта операция стала самой массовой и интенсивной из всех операций по депортации народов, огульно обвиненных в пособничестве немецко-фашистским захватчикам. Подготовка к проведению операции началась за два месяца. Вся территория республики была разделена на четыре оперативных сектора. 120 тысяч офицеров и бойцов войск НКВД были заблаговременно направлены и расквартированы в населенных пунктах Чечено-Ингушской АССР. Среди жителей была распространена «легенда» о якобы начавшихся военных учениях в горной местности. Тем не менее в официальных документах есть сведения как о разглашении некоторыми офицерами «государственной тайны» отдельным представителям населения, так и о подозрении самих жителей о предстоящей депортации. В ночь на 23 февраля все населенные пункты были оцеплены, заранее намеченные места засад и дозоров заняты опергруппами с целью воспрепятствовать попыткам выхода жителей за территорию селений. На рассвете все мужчины были созваны на сходы, где им на родном языке объявили решение правительства о выселении чеченцев и ингушей. Операцией, рассчитанной на восемь дней, руководил на месте лично нарком внутренних дел СССР Л. П. Берия. О случаях неповиновения и сопротивления депортации говорят как количество изъятого огнестрельного оружия — 20 072 единицы, так и число арестованных — 2016 человек, а также убитых — от 27 до 780 человек. Масштаб и массовость операции, ограниченные сроки ее проведения, несомненно, сказались на условиях этапирования людей: в вагоны вместимостью 25–30 человек загружали по 45 человек. Из-за скученности, духоты страдали больше всего старики и дети. Многие из них не смогли перенести транспортировки и умерли в пути. 28 февраля Берия издал приказ о мероприятиях в связи с окончанием операции и на следующий день доложил Сталину об итогах депортации, в результате которой были выселены 478 479 человек, из них 387 229 чеченцев и 91 250 ингушей. В Среднюю Азию было отправлено 180 эшелонов: в Казахстан — 239 769 чеченцев и 78 470 ингушей, в Киргизию — 70 097 чеченцев и 2278 ингушей. В первый год жизни на спецпоселении отмечалась высокая смертность из-за плохих жилищных условий, недостаточного питания, болезней. 7 марта 1944 года по Указу Президиума Верховного Совета СССР Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована. Только в 1957 году автономия была вновь восстановлена.
СЕВИЛЕ ИЗИДИНОВА

Севиле с мужем Сабри и сыном Али. Москва. 1960-е годы
Интервью записано 20 апреля 2016 года. Режиссер Валерий Туголуков. Оператор Александр Кононов.
Севиле Рефатовна Изидинова родилась 21 мая 1944 года в поезде, перевозившем высланных крымских татар. Вместе с родителями Севиле жила в Узбекистане до 1960-х годов. Окончила филологическое отделение Самаркандского государственного университета, преподавала французский язык. В 1968 году вышла замуж и переехала в Москву. Работала на кафедре иностранных языков Академии наук, преподавала португальский и испанский в Институте международных отношений. Защитив кандидатскую диссертацию, перешла во Всероссийскую библиотеку иностранной литературы, заведовала сектором тюркских языков. Докторскую диссертацию защитила в киевском Институте востоковедения. Родители Севиле Рефатовны смогли вернуться в Крым только в 1975 году.
«Я родилась в теплушке на третий день пути»
Зовут меня Севиле. Мой папа, Рефат Алиев, был сыном Али, муфтия Бахчисарая. Мой дед в 1924 году умер от голода. Мама — Исмаилова Хатича. Когда началась война, она была студенткой педагогического института, хотела стать преподавателем, но жизнь сложилась иначе. Когда нас депортировали, папе было 25 лет, а маме 20. За ними пришли без предупреждения. Рано утром ударили в дверь прикладом и вошли, даже не спросив разрешения. «Собирайтесь. Вас ведут на расстрел», — было сказано. Мои родители смогли взять с собой только сумочку с документами. Мама успела положить туда и папин диплом. Потом она часто говорила папе: «Благодаря мне твой диплом сохранился». В течение недели арестовали почти всех крымских татар. Некоторые сумели бежать в Турцию. На тех, кто прятался в горах, устраивали облавы. Людей сгоняли на железнодорожную станцию между Севастополем и Бахчисараем. Там родителей вместе с другими посадили в вагон и отправили на восток. Я родилась в этой теплушке на третий день пути — 21 мая 1944 года. Мама рассказывала, что в вагоне было около двух сотен человек. Люди стояли лицом к лицу, чтобы другие могли немного поспать. Потом менялись местами. Мама очень переживала, как же она родит. И вдруг на третий день пути началась бомбежка. Поезд остановили, открыли двери и сказали: «Выходите». Все бросились в поле, но мама не могла. И тут начались роды. Папа принял меня. Когда все вернулись, я уже родилась. Никакой детской одежды для будущего ребенка родители взять не смогли. Когда я родилась, меня положили на какой-то мешок, прочитали молитву, и мулла сказал: «Счастье какое! Ребенок родился. У кого что есть? Дайте завернуть ребенка». Это мне мама рассказывала. И люди помогли: кто рукав оторвал, кто кусочек своего платья, чтоб меня завернуть. Обстоятельства моего рождения всегда влияли на мою жизнь. Родители верили, что у меня особенная судьба, и все время это мне повторяли. Если я отказывалась что-то делать, не хотела учиться, они говорили: «Для чего тебе жизнь оставил Бог?» У них на глазах дети и старики умирали в том поезде. А я выжила. Все мое детство к нам приходили люди и просили: «Покажите нам ту девочку, которая родилась в поезде». Мне уже лет четырнадцать было, я возмущалась: «Ну сколько можно? Что я, кукла, что ли?» А мама говорила: «Ничего-ничего. Можешь показаться людям, иди». Поезд с депортированными шел целый месяц, и людям даже не сообщили, куда их везут. Они ехали в полном неведении. Мама рассказывала, что из еды давали только хлеб и немножко воды. Умирали в основном дети и старики. Умерших на остановках забирали. Не знаю, хоронили ли тела или просто выбрасывали. Прибыли в Бекабадский район Узбекистана. На станции нас уже ждали представители из разных колхозов. Они приехали набрать людей к себе на работу. Выбирали, видимо, сильных и крепких. Родителей моих не взяли, потому что у них был маленький ребенок. Они до вечера просидели на станции. И вдруг подъехала повозка: русская семья — сосланный когда-то деникинский офицер с женой. Они забрали нас к себе, чтобы папа с мамой помогали по хозяйству. Моя бабушка рассказывала, что в первые годы после депортации многие татарские семьи умерли от голода. Их никуда не брали на работу, не на что было купить даже хлеба. К тому же люди тяжело переносили среднеазиатский климат, постоянную сорокаградусную жару. Поэтому мои родители всегда были благодарны той русской семье, которая взяла их к себе. Мама вспоминала: «Они выделили нам для жилья курятник, и спасибо им за это! Но там было очень много змей, и я их очень боялась. Ты спишь, а вокруг кроватки змеи ползают». Я спрашивала: «Неужели они меня не кусали?» А мама говорила: «Нет, представь себе, не кусали. Они, наверное, чувствовали, что ты ребенок». Татарин без своих родственников — это не татарин. Обязательно должны быть родственники рядом. Видимо, хозяева понимали, как одиноко себя чувствуют мама с папой, и через два года они помогли нам перебраться в Самарканд, где жила наша родня. Это долгий и страшный рассказ — о том, как родители бежали через пустыню в Самарканд. Но они добрались. В Самарканде сняли угол в доме, где уже жило множество ссыльных и эвакуированных. До сих пор помню, улица называется Сузангаранская. Папа устроился на работу: он был строителем и смог получить место прораба. С его зарплатой мы стали жить чуть лучше. Мама научилась шить брюки и продавала их на рынке. Родители смогли накопить немного денег и вместе с дядей, маминым братом, купили маленький домик, состоящий из одной комнаты. Самарканд, Старый город, огромный базар — все это до сих пор перед моими глазами. Рядом с нами жили и другие татарские семьи, а еще балкарцы, чеченцы, крымские цыгане, таджики. Очень хорошие соседи. Многодетные, добрые, отзывчивые. От каждого домика веяло добротой. Садики и дворы с фруктовыми деревьями днем никогда не запирались. Мы, дети, заходили и срывали фрукты, но хозяева нам никогда не запрещали, не ругали. А самый прекрасный праздник был, когда домой возвращался солдат. Он идет, ищет свою семью, и толпа детей водит его по улицам… И вдруг он видит своих родных. Они бросаются друг другу навстречу, плачут, рыдают! А дети ждут, потому что после будет обряд, который называется «козайдын»: нам раздадут угощение — конфеты или кусочки сахара. Это был самый прекрасный момент. По соседству от нас снимала домик чеченская семья: десять детей целый день сидели голодными. Вечером приходил их отец и приносил лепешку — я не знаю, где он ее зарабатывал. Эта лепешка по сантиметрам разрезалась и раздавалась детям. И если в этот момент я оказывалась в их доме, мне тоже давали кусочек. Мама очень меня за это ругала: «Мы не голодаем, а ты берешь чей-то кусок хлеба! Нельзя этого делать!» Невозможно это забыть. После войны в Самарканде жило очень много людей, эвакуированных из разных мест. Особенно запомнились польские евреи. Они жили в каких-то конюшнях и ждали, когда смогут вернуться к себе на родину. Татары перестали ждать, они смирились с тем, что останутся здесь навсегда. А евреи все время жили в ожидании. Я помню, как тетя Берта радовалась, когда мы с мамой заходили в гости: «Ой, кто к нам пришел!» У нее всегда находились для меня какие-нибудь лакомства и сладкие слова. Необыкновенные были люди! Я хорошо запомнила, как на «студебеккерах» привозили американскую помощь. За ней выстраивались огромные очереди — нужно было по пять-шесть часов стоять. Однажды мама оставила меня в очереди, а сама ушла по делам. Моя очередь уже подошла, а мама так и не вернулась. Пакеты с продовольствием выдавал американский солдат. Я ему говорю: «Мама и папа на работе. Можно, я возьму?» — «Можно, — отвечает, — но ты же сама не донесешь это до дома. Подожди немного, я тебе помогу». Закончилась раздача помощи, и он меня спрашивает: «Где ты живешь?» Я повела его. И пока мы шли, я все время оборачивалась и смотрела ему в лицо. А он всю дорогу шел и плакал, этот молодой американец. Всю дорогу шел и плакал. Он донес этот огромный пакет до нашего дома. Я сейчас уже не помню, какие продукты были в том пакете, но этого человека я никогда не забуду! Мама говорила, что первые два года местные жители очень плохо к нам относились — могли толкнуть на улице, даже ударить. «Предатели! Ты из семьи предателей!» Так относились ко всем сосланным крымским татарам. Однажды, когда я была еще совсем маленькой, я видела, как на базаре избивали одну татарскую семью. «Предатели! Предатели!» Я сидела совсем рядом, сторожила чемоданчик с брюками, которые мама принесла на продажу. Сидела и плакала. Это была обычная семья — нормальные люди, просто своими делами занимались, а их схватили и начали избивать. Помню случай в начальной школе: я шла по дороге и встретила компанию ребят — девочек и мальчиков. Они стали кричать: «А-а! Татарская морда!» И началась драка! Я тоже дралась, дала сдачи. Когда я вернулась домой, мое платье и банты были порваны. Мама ничего мне не сказала, она все понимала. Она просто села и все заштопала. Постепенно отношение местных жителей изменилось, во всяком случае, агрессия исчезла. Возможно, они увидели в нас своих единоверцев. Мы ведь с ними вместе ходили в мечеть. К нашей семье стали относиться по-особому после того, как к нам вернулся дедушка, мамин отец. Он был из рода шейхов — последний шейх. Он получил замечательное образование: окончил Стамбульский университет, религиозный факультет, потом Университет аль-Азхар в Каире, в Египте. В 1924 году вернулся на родину. Ему дали работу. Он девять месяцев был главным судьей Крыма, а потом его отправили на 25 лет в Сибирь. Когда его выпустили, он нашел нас в Самарканде. В то время я тяжело болела, и одна знакомая сказала маме: «Там около рынка стоит человек, он последний шейх Крыма, он вылечит твою дочь молитвами». Это был мамин отец. Он вернулся страшно измученным, несчастным. Когда мама привела его домой, он потерял сознание. Вот в каком был состоянии. Последний шейх Крыма. К нему были очереди. Все хотели попасть к нему, чтобы он благословил, прочитал молитву. Теперь местные относились к нам с большим уважением. Я помню, рядом с нами жил милиционер-узбек. Однажды он пришел и предупредил: «Сегодня ночью придет милиция, будет всех проверять. Если что нужно, спрячьте». А прятать надо было единственную ценную вещь в доме — наш Коран на арабском языке. После революции многие крымские татары отвернулись от религии. Я видела в кинохронике, как юноши и девушки бегут разрушать мечети. Моя тетя говорила, что перед войной в Крыму был полный религиозный паралич. Безверие было невероятное. Я слышала от тетушек и мамы, что если в доме и устраивали молебен по случаю рождения ребенка или свадьбы, то закрывали окна наглухо, чтобы соседи не услышали, не вызвали милицию. И только пережив эту страшную депортацию, попав в Узбекистан, мои соотечественники стали возвращаться к вере. В Средней Азии к религии относились по-другому — я это видела. Узбек или таджик — кем бы он ни был на работе, даже преподаватель университета, декан или ректор — дома надевал свой чапан и молился и в мечеть на праздник шел вместе со всеми. Над мечетью могло висеть красное полотнище с лозунгом «Да здравствует коммунистическая партия!» — и все спокойно шли мимо него на молебен. Я сама это видела. Хоронили по всем обрядам, по всем обычаям. И свадьбы справляли по обрядам, по обычаям. И это тоже повлияло на моих соотечественников-мусульман. Несмотря на то что к нам относились хорошо, мы были бесправные в Средней Азии. Мы привыкли к этому бесправию и не лезли на рожон. Родители обязаны были регулярно ходить в милицию отмечаться: сначала — раз в неделю, потом — раз в месяц. Наша бабушка любила иногда уезжать в соседние деревни в гости к родственникам, и мама страшно из-за этого переживала. Я помню, как она волновалась: «Надо идти отмечаться, а бабушки нет, нас посадят в тюрьму за это!» В нашем доме всегда были наготове, сложены в определенном месте, деньги, наши паспорта, документы. Мы все знали, где они лежат. В каждой татарской семье так было. Я помню, как часто плакали люди вдали от родины. Какое рыдание бывало на похоронах, даже страшно становилось. «Там осталась наша земля, а мы здесь». Как плачут пожилые люди, наши старики и старушки, — это невозможно выдержать. Однажды в Узбекистане нас, школьников, послали в колхоз собирать хлопок, и я оказалась в татарской семье. Я слышала, как одна бабушка-татарка выла. Я спрашиваю: «У нее кто-то умер?» — «Нет, — говорят, — она часто так плачет, воспоминания о родине ее одолевают». Постепенно мы, татары, понемногу стали приходить в себя. Все старались дать своим детям образование — и мальчикам, и девочкам. Многие поступали в вузы, в Самаркандском университете училось много наших ребят. Кому не удавалось получить высшее образование, обязательно шли в техникумы или училища. Меня устроили в школу № 21 на улице Ташкентской. У нас была завуч младших классов Марья Зариповна, казанская татарка, она страшно возмущалась и требовала, чтобы меня убрали — перевели в школу за городом, куда ходили дети депортированных. «Вот там для тебя место». Иногда она просто не пускала меня в класс. На такой случай в нашем доме на стене висела особая сумка. Я знала, что в этой рваной сумке лежит бутылка водки. Завучем старших классов был Иван Иванович, который, как я думаю, любил выпить. Мама хватала эту сумку и летела в школу: «Иван Иванович, помогите!» Получив в благодарность бутылку, он вел меня в класс и требовал, чтобы меня не трогали. И в один прекрасный день мне надоело просить маму о помощи. Меня опять не допустили в класс, и я решила сама распорядиться этой бутылкой — положила ее в портфель и пошла в школу. Я поднялась на второй этаж и торжественно, при всех, вручила бутылку заведующему. Произошел страшный скандал, но после этого меня перестали трогать, и я свободно ходила в свой класс. Так было не только со мной: с моим двоюродным братом так же поступали, а он с золотой медалью окончил школу. В детстве я знала, что нас депортировали, родители объясняли. Но очень многих вещей мне не рассказывали. Например, о тех родственниках, кто был расстрелян или находился в заключении. Например, Мусановы, двоюродные братья отца: одного расстреляли в 1937-м, другого в 1940 году. А их жен в лагеря отправили. Я помню, как жена Фивзи Мусанова вернулась из лагеря, как она сидела у нас в доме и плакала, а я спрашивала у мамы: «Почему она была в тюрьме? Она что, воровка?» — «Нет-нет! Ты ошибаешься, ты не знаешь ничего!» И меня выпроваживали из комнаты. В 1953 году умер Сталин. В школе нас собрали на митинг. Все рыдают: и учителя, и ученики. А я стою и жду, когда же нас отпустят. Я бегу домой, открываю дверь, влетаю и говорю: «Ура! Сталин умер! Мы вернемся на родину!» И тут мне родители так ударили по губам! Шепотом: «Ты что такое говоришь!» Они боялись еще долго. Но самое интересное, когда я говорила о Сталине «будь он проклят», мама мне отвечала: «Ни в коем случае так не говори. Он не виноват — его сердце Бог ожесточил. Поэтому совершает с людьми такое». Очень многие так говорили про Сталина. Все, что мама зарабатывала, она тратила на мое образование. Она всегда говорила: «Закрой глаза, не обращай ни на что внимания, образование — это главное». Я могла прийти к маме и сказать: «Мама, вот эта учительница очень плохо ко мне относится: не спрашивает, не слушает меня, если я говорю». Такое случалось. Мама была очень дипломатичная и очень умная. Она тут же брала подарок, шла в школу, встречалась с этой преподавательницей, находила с ней общий язык, и все заканчивалось хорошо. Мама дипломатично убирала все преграды на моем пути к образованию. Она водила меня в музыкальную школу. У меня была замечательная преподавательница музыки — Екатерина Аркадьевна Смирнова. Я до сих пор храню ее фотографию. Она была женой дирижера Мариинского театра, ее мужа расстреляли у нее на глазах. Это была какая-то дворянка необыкновенная! С такой статью! Она учила меня, как правильно ходить, сидеть за столом, есть. С восьмого класса я занималась французским и испанским языками. К нам приходил университетский преподаватель Тигран Ашакиевич. Армянин. Он научил меня испанскому, я понемногу начала интересоваться и португальским языком. Я окончила десять классов, в 1961 году поступила в Самаркандский государственный университет. У нас были замечательные преподаватели! Многие из столичных университетов — прекрасные, известнейшие ученые. После защиты диплома я осталась в университете преподавать французский. Преподавала чуть больше года, а затем в один прекрасный день меня сосватали за моего соотечественника, который приехал с мамой из Москвы. Внимание моих родителей привлекло то, что он тоже родился в дороге, как и я. В 1934 году их семью раскулачили и отправили из Крыма на Урал. Вот он в дороге и родился. Судьба. Судьба всегда меня преследовала. Его звали Сабри Асман-Ула Изидинов, он работал в Карпинском институте, был кандидатом наук, начал писать докторскую. И меня выдали за него замуж. После свадьбы мы переехали в Москву. У нас родился сын. Я нашла работу на кафедре иностранных языков Академии наук: сначала методистом, затем преподавателем французского языка. Восемнадцать лет там проработала. А еще преподавала португальский и испанский в Институте международных отношений. Муж иногда говорил мне: «Ты преподаешь европейские языки, но что-то очень плохо говоришь на своем родном!» Сам он говорил на родном языке великолепно. И в один прекрасный день я поехала в Ленинскую библиотеку, выписала книги по крымско-татарскому языку и начала заниматься. В результате я поступила в аспирантуру в тюркский сектор Института языкознания. Когда я сдавала вступительный экзамен по языку, в комиссии сидел один пожилой человек, который задал мне массу вопросов, и все на моем родном языке! Я тогда подумала: «Надо же, как хорошо наш язык знает». Это был Эрванд Владимирович Севортян — профессор, крупный ученый-тюрколог. Он стал моим научным руководителем. Я хотела заниматься словарем XIII века, литературными памятниками крымских татар. «Ах, нет. Ты этой темой заниматься не сможешь. Тебе не дадут, — сказал он мне. — В 1944 году я собирался защищать диссертацию по крымско-татарскому языку, и вас выселили, ты не представляешь, через что я прошел здесь». Он плакал, когда это говорил. «Давай, — говорит, — выберем тебе безобидную тему кандидатской, например грамматику». Я выбрала тему «Диалекты крымских татар в ареальном освещении», но и она не оказалась достаточно безобидной. Пришел новый заведующий кафедрой, вызвал меня в кабинет и сказал: «Так вы, оказывается, по крымско-татарскому языку диссертацию пишете? Нет, не может быть и речи!» И началось такое! Вы даже не представляете! Меня заставили убрать из диссертации главу «История языка». Это была моя любимая глава, но ее запретили. После защиты месяцами не выдавали диплом, заставили меня повторно защититься в ВАКе, это Высшая аттестационная комиссия. С огромным трудом я защитилась и получила диплом. А это были уже 1970-е годы. Депортированным татарам невозможно было вернуться на родину до конца шестидесятых. В 1963 году, на третьем курсе университета, я ездила в Крым, погостить у дяди Васи, друга моих родителей. И дядя Вася все время меня предупреждал: «Никому не говори, что ты крымская татарка!» Он еще помнил, какие облавы устраивали на татар, прятавшихся в горах. И как их убивали. Он мне об этом рассказывал. С 69-го, с начала 70-х годов татары стали постепенно возвращаться в Крым. Мои родители решились на переезд только в 1975 году. Они купили домик под Симферополем, но их, как и многих вернувшихся татар, не прописывали. Каждый месяц папа звонил нам с мужем: «Приезжайте, опять нас выгоняют». Прописать родителей в Крыму удалось с огромным трудом. Мы с мужем задействовали все свои связи и знакомства, собрали множество подписей и бумаг, только благодаря этому проблему удалось решить. В 1976 году я видела пожилую семейную пару, которая купила домик недалеко от моих родителей, но их отказывались в нем прописать. Однажды вечером прибыла бригада с трактором, и дом, в который они въехали, снесли. Их вещи выбросили во двор. И два старика, муж с женой, сидели и плакали. Очень нелегко было вернуться в Крым. Рядом с родителями жил очень неприятный сосед: каждый раз, когда папа начинал делать во дворе ремонт, он подходил к забору и говорил: «Рефат, а ты не боишься, что вас снова депортируют?» И папа тут же бросал все, уходил в комнату и начинал плакать. При Горбачеве началась реабилитация. Это был настоящий праздник. Хотя многие не сразу в это поверили. Мои родители получили документы о реабилитации, но никаких денежных компенсаций. И я никогда не слышала, чтобы кто-то их получал. С 1975 года я каждый год езжу в Крым. По три месяца там живу. Кажется, уже во всех городах была, все знаю, все видела. Но в прошлом году мой сын арендовал машину, и мы ездили по Бахчисарайскому району. Я видела много очень красивых мест, но такой красоты нигде не видела! Мы остановились на самой высокой горе, там кто-то сделал скамеечку. Я сидела и молилась. Вокруг зеленые горы. И над нашими головами летали орлы. Я посмотрела вниз, а там даже не видно земли. И вот теперь я каждый день рано утром встаю на молитву, и эти горы у меня перед глазами.
Постановление Государственного комитета обороны «О крымских татарах» Семья Севиле Изидиновой, как и все крымские татары, была навечно выселена с исторической родины в мае 1944 года. Ее жизнь вплоть до 1989 года, когда депортация крымских татар была признана незаконной, была борьбой за право учиться, работать и быть полноправным гражданином СССР. Тотальная депортация крымских татар, огульно обвиненных в пособничестве немецко-фашистским захватчикам, началась через месяц после освобождения Крыма. 11 мая 1944 года было принято постановление ГКО (Государственного комитета обороны) «О крымских татарах», в соответствии с которым все татарское население Крыма подлежало выселению. Местом расселения были определены районы Узбекской ССР. Операция началась на рассвете 18 мая 1944 года и продолжалась три дня. 20 мая Берия отчитался перед Сталиным и Молотовым об окончании операции, в результате которой были выселены 180 014 человек и отправлено 67 эшелонов к новым местам расселения. По окончательным данным, из Крыма были депортированы 191 014 крымских татар (более 47 тысяч семей). Для расселения депортированных отделу спецпоселений НКВД Узбекской ССР надлежало приготовить 359 спецпоселков и 97 комендатур. Трудные условия жизни в спецпоселках привели к высокой смертности среди крымских татар, только в 1944 году умерли 16 тысяч человек, и еще 13 тысяч — в 1945 году. Восстановление прав народа началось в 1967 году, после принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму», который признал:
«...после освобождения в 1944 году Крыма от нацистской оккупации факты активного сотрудничества с немецкими захватчиками определенной части проживающих в Крыму татар были необоснованно отнесены ко всему татарскому населению Крыма».В годы перестройки, 15 ноября 1989 года, Верховный Совет СССР осудил и признал незаконной и преступной депортацию крымских татар.
ГАЛИНА ДВОЙНИШНИКОВА

Галина Кутепова (в замужестве Двойнишникова) с братьями Робертом и Владимиром, 1940 год
Интервью записано 14 ноября 2016 года. Режиссер Валерий Туголуков. Оператор Александр Кононов.
Галина Ивановна Двойнишникова родилась 11 февраля 1936 года в уральском селе Чаша. Ее отец, Иван Андреевич Кутепов, работал директором школы. В 1941 году его призвали в войска НКВД, сопровождавшие заключенных. В 1944 году он был арестован за «клеветническую контрреволюционную пропаганду» и осужден по статье 58–10-2 УК РСФСР. Опасаясь ареста, мать Галины Ивановны собрала вещи и бежала вместе с тремя малолетними детьми. Спустя несколько лет скитаний и голода семье удалось обосноваться в Харькове и наладить скудный быт. Галина окончила восемь классов школы и поступила в гидрометеорологический техникум. Вскоре она вышла замуж и перебралась в Москву. Работала в Гидрометцентре, а затем вместе с мужем-военным отправилась на Семипалатинский испытательный полигон, где проработала много лет. Заочно окончила Всесоюзный экономический институт.
«Дорогой Иосиф Виссарионович, пожалуйста, отпустите папу, он ни в чем не виноват»
Мы жили на Урале. На берегу красивого озера Чаша было село Чаша. Отец там работал директором школы, а мать была пионервожатой в этой школе. Я родилась 11 февраля 1936 года, была первым ребенком. Через год родился мой брат Роберт, еще через год — брат Владимир. Я помню, жили мы неплохо. Квартира у нас была прямо в здании школы. Свое хозяйство — свиньи, куры. Отец общительный был, учителя его любили, часто у нас собирались. Мы жили дружно и весело в этой Чаше и не знали никаких забот и бед. В 1941 году началась война, и отец был призван в войска НКВД. Он ушел, а мама осталась с тремя детьми и продолжала работать в школе. В войсках НКВД отец возил заключенных, репрессированных и вскоре сам попал в их число. Потом и его повезли. У меня есть текст приговора военного трибунала по делу отца:«Приговор от 21 июня 1944 года по делу красноармейца Кутепова Ивана Андреевича 1914 года рождения. Обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 58, часть 10, пункт 2 УК РСФСР, статьей 193, пункт 15-Д УК РСФСР. Кутепов на протяжении 1942 года среди красноармейцев и в письмах к жене проводил клеветническую контрреволюционную пропаганду на руководителей партии, на Красную армию, сеял неверие в сообщения Совинформбюро».Когда отца арестовали, он успел передать маме записку. Я помню, как вечером поздно пришел человек в военной форме, помню, как мама его кормила и читала записку. Когда он ушел, мама быстренько расстелила шаль на кровати, собрала детские вещи и сказала нам троим: «Пойдем, погуляем». И мы, вцепившись в ее подол, пошли гулять в никуда. То есть скрылись. Не знаю, что было в этой записке написано. Помню, что мама всю дорогу плакала. А мы тащились с ней вместе по темному лесу. Мы шли всю ночь до станции пешком. Сели на товарняк, куда-то ехали. Потом вышли, потом снова куда-то ехали. Я помню, что мы ехали, где-то выходили, где-то тихо сидели, потому что мама строго-настрого приказала, чтобы мы ни с кем не разговаривали и не общались. Она нигде не говорила своей фамилии. О нас никто не должен был знать. Мне в то время было уже восемь лет, а братьям — семь и шесть. Мама, чтобы нас прокормить, продавала последние вещи, которые захватила с собой. Помню, как она на рынке продавала ножницы. И еще помню, что мы мотались по товарным вагонам. Мы побирались, просили есть. Помню, как нам дали хлеба, а хлеб оказался в керосине, как мы его ели и потом нас рвало. Мы остановились на какой-то станции, и мама пошла работать — пилить бревна для паровоза. А мы на вокзале прятались и сидели тихо. Ну и иногда побирались. Потом рабочие этой станции пожалели маму, вырыли яму — там много бревен было за станцией, большие толстые бревна, — за ними выкопали яму, и мы стали жить в этой яме под бревнами. Ни окон, ни дверей не было, застилали тем, что нам принесли рабочие. А когда мамауходила — у нас же почти ничего не было, — мы по одному из этой ямы выбегали, надевали одежду друг друга и просили еду или собирали траву. Кормились крапивой, лебедой, от которой тоже рвало сильно. В школу мы не ходили. Мы жили в этой яме, как собаки в норе. Вечно голодные и вшивые. Мы не мылись. Нас поедали вши. Ох, и мучение было с этими вшами. Жили там две зимы. Война закончилась, но мы все еще там жили. До тех пор, пока отца не отпустили, а его отпустили в 1946 году. Вскоре, видимо, когда закончилась война, но я точно не помню, за забором расположилась воинская часть. Доски у за бора были редкие, и солдаты часто давали нам еду. Они не жалели для нас ничего. Солдаты оборудовали нам печурку, и мы на ней уже готовили. По весне снег растаял, и нашу яму затопило. Мы оттуда повыскакивали и побежали к солдатам. Они пришли, всю воду оттуда вычерпали. Один солдат стал чаще захаживать, стал носить нам больше еды — иногда по буханке хлеба. Его звали Павел Яковлевич. Он был из Харькова, его жена при бомбежке погибла, остался взрослый сын. Потом военную часть расформировали. Павел Яковлевич поехал в Харьков и сказал маме: «Я поеду, там все выясню и тогда приглашу тебя». Он уехал и через некоторое время вызвал нас к себе. А до этого наша тетушка по отцовской линии забрала себе самого младшего, Володю. Мы остались втроем. И втроем на товарняках с трудом добрались до Харькова. Стали жить с Павлом Яковлевичем. Я называла его папой — он был очень хороший человек. Мы жили позади завода ХЭМЗ в Харькове — это завод большой величины был. Павел Яковлевич устроился на завод работать, ему дали комнату в квартире. Этот барак строили пленные немцы — они отстраивали разбомбленный Харьков. Я запомнила, что у них были толстые деревянные колодки. Их строем водили, и когда они шли, гремели по мостовой. Мы всегда сопровождали их криком, нехорошими словами, еще и камнями кидались. В Харькове было ужасно после войны. Город разгромлен. Топить печурку нечем, а рядом была железная дорога, и когда поезда медленно проходили, мальчишки забирались в вагоны с углем и руками сбрасывали этот уголь, а мы собирали и по домам растаскивали. И я помню, как один мальчик попал под поезд и, конечно, погиб. Это тоже мне врезалось в память. В Харькове мы пошли в школу: брат — сразу во второй, а я в третий класс. Девяносто четвертая средняя женская школа. Учителя ко мне нормально относились, а девочки как-то узнали, что мой папа в тюрьме, и сторонились меня. Поэтому никаких друзей у меня в школе не было. Как только заканчивались уроки, я быстренько бежала домой. Никаких кружков, никаких занятий — домой. Мне нужно было уголь добывать или помогать соседке торговать семечками. Меня не принимали ни в какие общественные организации, поскольку я считалась «членом семьи врага народа». Я не пионерка и не комсомолка. А потом, когда пошла в техникум, я поумнела — никому ничего не рассказывала. В Харькове у нас была очень тяжелая жизнь — мы так же голодали, с трудом сводили концы с концами. Отец вернулся в 1946 году и узнал от тетушки, которая забрала младшего брата (мама переписывалась с ней), что мы в Харькове. Он, конечно, разозлился и не стал поддерживать связь с мамой. Он обосновался там же, в Чаше, а мы, значит, в Харькове. Плохо нам жилось, и мама решила среднего брата отправить к отцу в деревню: посадила в поезд до Челябинска, отец там его встретил. И вот уже Володя и Роберт жили у отца в Чаше. Через год я тоже уехала к отцу, поскольку в Харькове было очень голодно. Отец был реабилитирован в 1946 году. Он снова работал директором школы. Его потом даже наградили значком «Отличник народного просвещения». До того как он ушел на фронт, отец был раскованный, веселый, общительный. А вернулся весь поседевший — совершенно неузнаваемый, другой. О своих мытарствах рассказывал, но не нам. Мы только могли краем уха услышать. Вот я однажды слышала, как он говорил о том, что в тюрьме применяли пытки. В Чаше отец женился на эстонке по имени Сельма — во время репрессий эстонцев по всему Союзу разгоняли. Сельма была не очень доброжелательна. У нее была своя дочь, она ее любила, а нас жестко воспитывала. Она все нас заставляла делать: травы нарвать свинье, кур накормить. У отца в школе я окончила шестой и седьмой классы. В Чаше была школа-семилетка, и я должна была вернуться в Харьков, чтобы продолжать учиться дальше. Но тогда в школе после седьмого класса надо было платить за учебу — 150 рублей в год. А у нас не было этих денег. Я окончила восемь классов и пошла в гидрометеорологический техникум. В техникуме я познакомилась с девочкой, она стала моей первой подругой. Я часто гостила у нее дома, была очень близка с ее сестрой и мачехой. Однажды к ним приехал из Москвы дядя, который учился в Военно-инженерной академии имени Куйбышева. И вот мачеха этому дяде говорит: «А ты, Павлик, почему не женат?» А он отвечает: «Да еще не встретил девушку». А она ему: «А вот девушка-то, как раз для тебя». И сосватала меня. Мне было семнадцать лет. Мы сразу поехали и поженились. Я помню, зашла домой за паспортом и говорю: «Мама, я замуж выхожу». Мама вообще не отреагировала, потому что и речи об этом не было. Я взяла спокойно паспорт и пошла. И вышла замуж. А когда мы пришли все с хлебом и солью, вот тогда мама поняла наконец, взяла полотенце и полотенцем меня отхлестала. А новый муж пытался меня защитить. Я еще полгода жила в Харькове, окончила первый курс и перевелась в Москву к мужу. В столице я окончила техникум, работала год в Гидрометцентре — это как раз был 1957 год, когда в Москве проходил Всемирный фестиваль, вот это я запомнила. После окончания академии мужа отправили на Семипалатинский испытательный полигон. Когда мы приехали в гарнизон, я сразу поступила на работу в отдел ударной волны. Но заочно продолжала учиться: окончила Всесоюзный экономический институт, потом курсы повышения квалификации почему-то в автодорожном. Я сколько живу, все время стараюсь где-то учиться всему, но не как-нибудь, а вполне серьезно. В гарнизоне у нас родился сын. Там, кстати, был сухой закон, на этом полигоне, абсолютно сухой закон, но для приборов использовали спирт, и муж пристрастился к этому спирту. В результате мы разошлись. Сын уже в это время был взрослый — решил стать военным. Окончил военно-морское училище в Ленинграде, служил на подводной лодке на Дальнем Востоке. Женился он на женщине с ребенком, и этот мальчик тоже стал подводником. Сейчас сын с семьей живет в Санкт-Петербурге. Со своим нынешним мужем я познакомилась случайно в том же Семипалатинском гарнизоне. К тому моменту я уже была разведена. Зима стояла какая-то слякотная, наледи были, я вышла из дома и чуть не упала, а он поддержал меня. И предложил: «Давайте я вас провожу, видите, как скользко». Ну и проводил. Мне повезло с Михаилом Васильевичем. Вот бывает в жизни такое. Всю жизнь не везло, а вот с этим мужем повезло. Выдержанный, воспитанный, никогда не повышает голоса. С пониманием относится, всегда старается мне помочь. Честно сказать, все знакомые завидуют. Недавно исполнилось тридцать лет, как мы вместе. Когда отца посадили, я написала письмо: «Дорогой Иосиф Виссарионович, — выводила буквы. — Пожалуйста, отпустите папу, он ни в чем не виноват». Я не помню точно содержания, но начало было такое. И это письмо действительно ушло туда. Не знаю, сыграло оно какую-то роль или нет, но я лично обратилась к Сталину. «Дорогой Иосиф Виссарионович» — это нам в школе четко определили. Так и не иначе. Отношение к Сталину стало меняться уже после его смерти. Я училась в техникуме в Харькове, когда умер Сталин. Все рыдали, я тоже. Даже не потому плакала, что все плачут, а потому, что искренне жалко человека — умер. Ну тогда все рыдали. Правда, все. Многие пытались в Москву уехать. Народ цеплялся за вагоны: все хотели в Москву, на похороны Сталина. Я не цеплялась, но тоже думала ехать туда. Мы бегали на вокзал, но мест не было. Все было народом облеплено. Даже к составу не подойти — вот сколько народу хотело проводить его в путь последний. Общая волна всенародной любви захватывает. Дома у нас как-то о Сталине речи не было. Потому что повседневные трудности нищенского существования поглощали все мысли. Мы не ходили в кино, мы даже на праздники и демонстрации не ходили. Вот так жили. Я помню, когда училась в техникуме, мы экономили три копейки на трамвае и поэтому далеко не заходили в вагон, а цеплялись всегда на лестнице, чтобы можно было, если появится контролер, сразу убежать. Три копейки. Это я запомнила. В таком положении уже думать о чувстве собственного достоинства не приходилось. Настолько были мы унижены. Очень тяжело жили. Детства, юности не было. Не было любви, не было встреч. Все это из жизни вычеркнуто. Я начала по-настоящему жить, когда приехала в гарнизон. Там совершенно другая атмосфера: честь, порядочность, достоинство. До доклада Хрущёва мы не знали, что такая масса народу пострадала. Я не думала, что один мой отец, но и не думала о миллионах. Не знала даже о таких видных деятелях, как Блюхер[52], Тухачевский[53], Якир[54]. Я считаю, что о репрессиях умалчивать не надо. Все равно народ все знает. Почему мы должны скрывать эту часть? Почему должен народ забыть свои страдания? Почему я должна вычеркнуть из жизни все свое детство? И ту вшивость и голод. Ну как я должна забыть? Мы должны говорить обо всем. Для того чтобы все это анализировать, делать выводы и не повторять в будущем.

Положение членов семей репрессированных Жизнь Галины Двойнишниковой — это судьба целого поколения, детство которого пришлось на период репрессий и военные годы. Чувство всепоглощающего страха было присуще не только тем, кто оказался в лагерях и тюрьмах ГУЛАГа, в неменьшей степени его испытывали те, кто оставался на свободе и каждую минуту ожидал ареста. Нищета, голод, чувство постоянного унижения — таков был удел членов семей репрессированных. Дети «врагов народа» нередко становились изгоями, с ними боялись дружить, их не принимали в пионерскую и комсомольскую организации. Изменения в обществе по отношению к осужденным за контрреволюционные преступления и членам их семей начались в 1956 году. 25 февраля 1956 года на закрытом заседании XX съезда КПСС руководитель страны Н. С. Хрущёв выступил с секретным докладом «О культе личности и его последствиях», осуждающим сталинские репрессии 1930-х годов. С этого момента в стране начался постепенный процесс освобождения и реабилитации невинно осужденных.
МАРИЯ ТУМАНОВА

Мария Туманова, 1961 год
Интервью записано 15 мая 2016 года. Режиссер Мария Гуськова. Оператор Денис Гуськов.
Мария Афанасьевна Туманова (в девичестве Смирнова) родилась 17 февраля 1924 года в городе Клинцы Брянской области. Во время войны находилась на оккупированной территории. В 1943 году Мария вышла замуж за хирурга, подпольно лечившего советских партизан. Вскоре они оба были схвачены немцами. А 23 января 1945 года в советской тюрьме Марию Афанасьевну приговорили к 15 годам ИТЛ (статья 58–1а УК РСФСР) за связь с оккупантами, а ее мужа осудили на 10 лет (статья 58–1б УК РСФСР). За почти 11 лет заключения Мария Туманова прошла множество лагерей, в числе которых — Дубравный лагерь в Мордовии и Озерный лагерь в районе Тайшета. После освобождения поступила в Московский технологический институт молочной и мясной промышленности. После окончания попала по распределению в Брянск и много лет работала техником на молочном заводе. С момента освобождения в 1955 году Мария Туманова добивалась реабилитации для себя и покойного мужа, но получила ее лишь в 1963 году.
«Это был наш последний танец — вальс»
Мне было 17 лет, я только окончила школу, когда началась война. В августе 1941-го наш город Клинцы был оккупирован немцами. На фронт меня не взяли из-за возраста, и я устроилась в школу учительницей немецкого языка. А вскоре произошла встреча с моим будущим мужем Константином. В апреле 1943-го мы стали мужем и женой, расписались в ЗАГСе, а уже в июле нас арестовали по обвинению в антинемецкой деятельности. Мой муж, хирург, был связан с подпольем, оперировал партизан, а я по собственной инициативе писала антифашистские листовки на немецком языке. Нас отправили в немецкую тюрьму в Гомель. Мне было 19 лет, и я была на втором месяце беременности. Помню, как нас привезли, и ночью меня бросили в камеру. Я оказалась возле параши — там было все загажено, меня свалили в эту мочу, я была вся мокрая. На нас уже смотрели не как на людей, а как на средство, чтобы вытащить нужные сведения. Они готовили нас на расстрел, грузили в кузов машины, придавливали досками, затем сверху садились те, кто будет убивать, и везли на полигон, где расстреливали. Но прежде раздавали лопаты в руки: копайте ямы. Потом начинали расстреливать поодиночке. Я только копала ямы, и меня увозили обратно. Не расстреляли меня, а почему? Это провидение Божие. А может быть, от меня хотели каких-то сведений и поэтому пытали. Во время допросов Костю специально выводили из камеры, чтобы он слышал мой крик. Меня раздевали, связывали ремнями руки, валили на пол, и четверо мужчин били меня дубинками, обвитыми проволокой. Потом волокли в камеру со связанными руками. И девочки, нас шесть человек было в камере, зубами развязывали эти ремешки на руках. Проволока рассекала тело, раны не обрабатывали, они гноились. Было лето, жара стояла, а окна в тюрьме были выбиты: залетали мухи, облепляли раны. И голод. Нам давали какую-то вонючую белесую жидкость, слегка заваренную отрубями, хлеба не было. Я грызла собственные руки, впивалась зубами до крови, я не выдерживала этого голода. Ребенок требовал питания, меня он всю разрушил: зубы мои крошились — как намоченный сахар рассыпались. А мне было 19 лет. Передачи запрещали. Однажды, правда, моей маме удалось передать мне горшочек гречневой каши и хлеба. Русский охранник пожалел меня, взял у мамы мешок, открыл ночью нашу камеру и высыпал кашу прямо на пол. В сентябре советские войска уже подступали к Гомелю, и нас решено было отправить в концлагерь. Везли в товарном вагоне в четыре яруса досок, по десять человек на каждом ярусе. А полвагона занимал конвой и награбленные вещи заключенных. Остановили нас возле польской границы, потому что в вагоне лежал больной менингитом. Это был мой муж. Помню, как трогаю, трясу его, а он не реагирует, он потерял сознание. У него была высокая температура, я это чувствовала, прикасаясь к нему. Когда поезд замедлил ход, я прыгнула из вагона и побежала что есть духу искать Красный Крест любой нации, мне все равно. Конвой спрыгнул за мной. Я проползала под вагонами, конвой — за мной. А живот у меня был уже большой. Наконец я увидела Красный Крест, там был какой-то фельдшер, немец, я к нему обращаюсь по-немецки, просто уже кричу срывающимся голосом, что мы — эвакуированные, что в вагоне умирает врач, пожалуйста, введите ему камфару или что-нибудь, оживите его! Он, увидев позади меня конвой, все понял. И тогда он берет сумку, и мы пробираемся к нашему поезду. После укола я опять начала трясти Костю, спрашиваю его: «Как меня зовут? Как меня зовут?» И вдруг он мне ответил: «Мария…» Позже он говорил мне, что чудом остался жив. А я так и не узнала, как звали этого фельдшера, я не успела. Костю на носилках сняли с поезда, но я выпрыгнула из вагона, ухватилась за него и не отпускала. Конвой не знал, что с нами делать. Потом нас все же погрузили обратно. Наш вагон дальше не пропустили: немцы боялись инфекции, и у них было постановление не провозить заразных больных. Нас прицепили к какому-то паровозу и отправили в город Мозырь, это бывшая Западная Белоруссия. Так мы оказались в мозырьской тюрьме. Меня поместили в женскую камеру, она находилась в холодном подвале: на цементном полу не было ни соломки, ни подстилки, ничего. Нас по-прежнему не кормили, но допросов и издевательств уже не было. Я не работала, сидела в подвале и ждала своей участи. Ситуация на фронте менялась, немцы отступали, и в декабре 1943-го нас освободили. После освобождения нам с мужем пришлось уехать в Брест, где Костя еще до войны служил врачом: у нас не было никаких документов, а в Бресте его помнили и могли подтвердить личность. Мы смогли бы восстановить документы. Он устроился в городскую больницу хирургом. Вскоре я родила нашу первую дочь Ирочку. Она родилась длинная и кричала день и ночь. Очевидно, пережитый голод на нее тоже подействовал. У меня не было молока, и пришлось перевести ее на разбавленное коровье, но его она не могла переваривать. В октябре 1944 года я с младенцем отправилась в Клинцы. Было решено оставить Иру маме: она вполне еще могла смотреть за Ирочкой. Маме было всего сорок восемь лет, и главное — у нее была корова. Когда я вернулась в Брест одна, Костя загрустил: зачем ты оставила нашу девчурку? Сказал, что поедет назад за Ирочкой. И он поехал. А на следующий день после приезда в Клинцы его арестовали. Очевидно, за ним следили стукачи. Мне дали телеграмму, якобы от мамы:«Мура, выезжай немедленно, Костя тяжело заболел тифом. Выезд телеграфируй. Буду встречать. Мама».По стилю телеграммы я догадалась, что писала не мама. Она ко мне не обращалась «Мура», Мурой меня в школе звали. Мама звала меня Марией. Я поехала в Клинцы, но сошла на остановку раньше, чтобы меня не перехватили, и пошла пешком десять километров. Дома Володя, мой брат, — он нянчился с Ирочкой — сказал, что арестовали Костю и что мне нужно немедленно уезжать. Я все поняла: телеграмму мне дало МГБ. Я вернулась в Брест, собрала документы партизан, письма с фронта и передала в МГБ человеку, которому мы когда-то давали показания, что сидели у немцев в карательной тюрьме и были освобождены. Мы знали, что это чревато: немцы почти никого не освобождали, не вербуя. Но при получении документов в органах советской власти необходимо было указывать, по какой причине их нет, и мы ничего не скрывали. И вот сейчас я сказала, что в Клинцах арестовали Костю. Он пожал плечами и отправил меня домой. А на следующий день меня арестовали и в сопровождении энкавэдэшника отправили в Клинцы. Меня поместили в КПЗ. Напротив располагалась гэбэшная контора, в которой проводили допросы, и попадали туда через КПЗ. Однажды я гвоздем выцарапала на стене послание Косте (я же поэт еще!) в надежде, что, когда его поведут на допрос, он увидит:
И горе и радость — все к цели одной,
Все в жизни — к высокому средству.
Пройдет лишь немного, и мы, дорогой,
Займем в этой жизни опять свое место.
Помнишь, милый, помнишь лето?
Собирали мы ромашки-васильки,
И запомнился взгляд лукавых глаз,
Как у нашей крошки-пусеньки как раз.
Ты ведь знаешь — измениться не могла.
Ты ведь знаешь — все такая, как была.
Только брови чуть нахмурены сильней,
Но люблю тебя еще нежней.
И помни, милый мой, что я твоя навек.
Что у нас с тобой один есть человек,
Что дороги нам с тобой перекрестил,
Их надеждою и верой озарил.
«Милые мои девочки! Серые тучки закрыли солнышко, травы уныло притихли, ожидая грозы. Где-то вдали гремит гром, иногда и ветер колышет листья осины под моим окном. На столе остались только фотографии и прощальная записка. А по вечерам нет клинцовских васильков [это мои глаза голубые], и печальных, и покорных… нет лукавой девчурки, нет лукавой девчурки Линочки».И вагон покатился, а Костя остался в Тахтамыгде — по-монгольски это означает «беги от смерти». Но он не убежал, он там так и умер: после операции аппендицита возникли осложнения, и его не спасли. Врачом он был от бога, ну и боженька забрал его. Когда мне сообщили о его смерти, я поняла, что потеряла все. Я упала и не поднималась долго. Очнувшись, я помню каких-то женщин, которые мне твердили: «Мура, Линочка очень больна, она кричит и плачет». Кое-как придя в себя, я поняла, что умирает мой ребенок. Оказалось, пока я была в беспамятстве, кто-то напоил мою дочку ягодным соком из заклепанной сплавом эмалированной кружки. Как уже потом сказали в больнице, произошло окисление, и Линочка отравилась. Слава богу, выжила девочка моя. Тогда же в больнице мне вдруг приснился Костя. Он говорил мне: «Ты не можешь прокормить Линочку, Линочка ничего не ест у тебя. Отдай мне ее, я сумею ее прокормить». Я ему отвечала: «Нет, Лину не отдам, если я отдам, то она умрет. Ты же умер». Вскоре из Орги нас перебросили севернее. Везли только матерей в какой-то специальный детский дом. Нам выдавали замороженное в плитках молоко, мы растапливали его на буржуйках, но по дороге сопровождающий украл продаттестат и уехал, и мы, голодные, без продуктов добирались кое-как сами. Многие заболели, я попала с Линочкой в больницу: у нее были нарывы на ножках. Ко мне приехала мама — забрать Линочку, это был единственный раз, больше она не приезжала, некогда, на ней были уже две мои дочери. Мама приехала не одна, она привезла Иру. Ей было уже пять лет, а оставила я ее в семь месяцев. Когда Ира увидела меня в длинном халате, их в больнице выдавали, она только и сказала: «Нет, это не моя мама, моя мама красивая». Я была очень страшная. Я попала на строительство БАМа, лес валили, шпалы укладывали, костыли в них забивали. Однажды я заболела. Сижу у костра на лесоповале, черная, как головешка, — у меня был мокрый плеврит, бок болел сильно. Охранник говорит: «Девка, что ж ты в гроб носом смотришь? Ты черная, ты что, больна? У нас охотники продают барсучий жир, и тебе надо пить — тогда выздоровеешь». Через некоторое время смотрю — тащит целый трехлитровый бидон, полный жира, как топленое масло, чуть-чуть подтаявшее такое. Я взяла и начала пить. Оказалось, он мне потом признался, это был не барсучий жир, а он убил свою собаку, Шарика. Мне, правда, было нехорошо поначалу, но потом привыкла. И я съела собаку. Болели в лагерях часто, многие погибали. Зимой минус 56 градусов — как это выдержать? Нам давали телогрейки и дополнительно сверху бушлат, но они не спасали. Делали дырки для глаз в платках, надевали на лица как маски. Но они от дыхания становились мокрыми и замерзали. Кожа трескалась до мяса — оно быстро на морозе темнело, раны кровавые не заживали. Лицо было покрыто струпьями, это была пытка. Работали по двенадцать часов; в бараках разрешали топить, и мы со смены на себе таскали дрова, а это неблизко, километра три до лагеря. Часть забирала себе вахта, часть — кухня, и часть оставалась нам. В бараке стояла бочка, днище с обратной стороны было пробито, и туда мы бросали дрова, бочка раскалялась докрасна. Если дежурный ночью не засыпал, до подъема в бараке было тепло. Будили рано, пока звезды еще не погашены. Яркое воспоминание о лагерях — запах. В бараке, закрытом помещении, стояла параша, куда мы справлялись. Она набивалась полной, прежде чем мы, маленькие женщины, ее с трудом выносили. После БАМа был Тайшет[56], Озерлаг[57], уже в Сибири. Звучит красиво — Озерлаг, но на самом деле это закрытый особо режимный лагерь. Я попала в Озерлаг, хотя по приговору был ИТЛ, так как кто-то из «органов» посчитал, что 15 лет — это очень большой срок, надо бы меня туда. Там тоже были железная дорога, стройка и лесоповал. Однажды в меня стреляли с вышки. Мы укрепляли дерном насыпь. Я договаривалась с вольными, чтобы мне дали однорельсовую тележку, вывезти дерн, его надо было далеко заготавливать, а он был очень тяжелый. И я случайно заступила за знак, такая фанерка на колу. Конвой с вышки прокричал: «Ложись!», кругом была вода, и пока я думала, куда лечь или сесть, пуля пролетела над моей головой. Вообще стреляли часто. Был случай, в пургу нас вели на фабрику «щипать» слюду для электроприборов. Это была вольнонаемная слюдяная фабрика, но работали там и заключенные. Многие, кстати, умирали от силикоза — на вскрытии все легкие блестели от слюды. Так вот, идем мы на фабрику, и вдруг — выстрел из автомата. Стоны, крики. Тех, кто остался на ногах, погнали дальше, и мы не знали, что случилось, кто убит, кто ранен. После смены, когда возвращались назад, увидели кровь, присыпанную снегом. Убитых и раненых увезли. Но раненые так и не вернулись. Человек, наверное, 10–12 мы недосчитались. Конвой шел с обеих сторон. И будто справа конвоир оступился и случайно нажал гашетку, пустил очередь. Будто бы. А может, зло на нас вымещали. Мы не знаем… Сопротивления заключенных против системы, каких-то попыток восстания, как это было в Кенгирском лагере[58], в Казахстане, у нас не было. Но бежать из лагерей пытались, конечно. В Тайшетлаге украинские девочки, бандеровки[59], бежали, но их поймали. Сколько их ловили: день, два, три? А нас держали в это время в зоне, никуда не выпускали, потому что все были на облаве. Охрана лагеря, все до одного. Когда девочек вернули, некоторые женщины-заключенные плевали им в лицо. Из-за них, мол, весь лагерь тоже страдал. Конечно, это были не те страдания, которые были у беглянок: им полностью восстановили сроки, которые они уже отбыли, и выслали куда-то еще. У меня никогда не было мысли о побеге. Потому что бесполезно. Куда? Тайга кругом. Убежишь — пропадешь в лесу. Это надо быть очень, очень смелым мужчиной. А куда женщине бежать? В лагерях помогала выживать надежда на освобождение. Мы все время писали: и Сталину, и Калинину, кому только не писали. Но все было бесполезно. Я тоже писала, никогда не останавливалась. И когда освободилась, писала, добивалась реабилитации и признания, что мы невиновны. Очень много было напрасно арестованных. Конечно, мы винили нечеловечную власть, Сталина. Узнав о его смерти, мы радовались, и откровенно так: наконец-то помер! Для нас это означало, что что-то изменится и нас могут раньше выпустить из лагерей. Последний лагерь, Дубравлаг[60] в Мордовии, «политический», был самым легким. Я работала в швейных мастерских, мы шили кальсоны, военные гимнастерки, галифе. Именно там я и освободилась в 1955 году: мне скостили часть срока, из 15 лет я отсидела 11. Это была амнистия благодаря Хрущёву. На дорогу дали наградные, двести пятьдесят рублей. Это были мои деньги личные. Я доехала до Москвы, оставила свой сидор на Белорусском вокзале — это мешок так называется у заключенных, — а сама побежала в «Детский мир». Купила школьную форму на Иру и Линуську. Фартучки кружевные, черненький и беленький. Все деньги потратила на них и приехала. Меня встречали мама и девочки. Мама меня, конечно, узнала. А дочки — нет. Лине было уже девять лет, я вернулась в день ее рождения 4 ноября. Но слава богу, приняли они меня быстро. Все по-божески, в праздник Казанской Божией Матери, очень грозный праздник. Я получила справку об освобождении со снятием судимости и поражения в правах, поступила в институт. После возвращения мне все время снились кошмары: лесоповалы, и мертвецы, и раненые — вот они лежат, стонут, кричат. Лагерь… Я с ним, а он со мной, как-то связан. Ничто не может это стереть. Это навеки.

Мария Туманова Судьба Марии Тумановой и ее мужа, прошедших в годы войны застенки гестапо, а после освобождения — сталинские лагеря, кажется невероятной. Многие из нас думают, что подпольщики и партизаны всегда были окутаны народной славой. Но в годы сталинской власти все, кто чудом уцелел в фашистском плену, попадали под подозрение в пособничестве врагам. Во время Великой Отечественной войны лагеря были наполнены осужденными за «измену Родине» по обвинению в сотрудничестве с немецко-фашистскими захватчиками. Все они попадали под действие статьи 58–1а, 1б УК РСФСР. Под сотрудничеством подразумевались все виды «общения» с врагом. Повышенное внимание органы госбезопасности уделяли тем, кто был в плену, особенно в тюрьмах гестапо, и вышел оттуда живым. Уже этот факт нередко рассматривался как подтверждение сотрудничества и вербовки со стороны немцев. За «измену Родине» приговаривали к расстрелу или к заключению в лагерь сроком от 10 до 25 лет. По статистике в начале 1951 года из 339 тысяч, осужденных по статье 58–1а, 1б, только около 52 тысяч человек попали в лагеря за действительное участие в зверствах оккупантов и службу в карательных органах. Впоследствии все необоснованно осужденные по этой статье были реабилитированы.
МИХАИЛ ПЕЙМЕР

Михаил Пеймер с Лидочкой, 1952 год
Интервью записано 26 октября 2018 года. Режиссер Елена Никифоренко. Оператор Леонид Никифоренко.
Михаил Николаевич Пеймер родился 25 февраля 1923 года в Харькове. В 1940 году поступил в Гвардейское Московское военное училище артиллеристов-ракетчиков. Будучи курсантом, участвовал в битве за Москву. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны в составе 72-го гвардейского полка ракетных войск. До августа 1942 года был командиром огневого взвода 338-го дивизиона, начальником разведки 337-го дивизиона на Брянском фронте. В октябре 1942 года назначен командиром батареи 336-го дивизиона. Прошел всю войну: участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы, разгроме гитлеровских войск в Восточной Пруссии. Накануне победы был арестован по доносу офицеров. Донос был направлен в контрразведку «СМЕРШ» — по статье 58–10, ч. 2. Михаил Николаевич получил 10 лет ИТЛ, пять лет поражения гражданских прав после окончания срока и был отправлен в Воркутлаг[61]. В Воркутлаге офицер Пеймер работал в шахте, добывал уголь, но вскоре стал начальником планового отдела, возглавлял бригаду строителей. Был освобожден на три года раньше срока, но из-за поражения в правах вынужден остаться в Воркуте. По направлению начальства отправлен в Кемеровский горный институт, который окончил с отличием, снова вернулся в Воркуту и прошел длинный путь от мастера до заместителя начальника комбината «Печершахтострой». В 1965 году Михаил Николаевич Пеймер реабилитирован.
«А Сталин что, не ошибается?»
Это было вскоре после революции. Гражданская война только-только утихла — еще пушки были горячие. Так случилось, что мои родители разошлись. Причин развода я не знаю, это их дело. Но с трех лет я периодически жил то у мамы, то у папы, а то и у бабушки. Когда мне было восемь лет, мы переехали из Харькова в Запорожье, и я жил постоянно с папой и мачехой. Это время — пик Голодомора. Голод был страшный. На улицах Запорожья лежали трупы мужчин и женщин. Надо было спасаться, куда-то уезжать. Отец работал тогда на стройке. Но в 1933 году, на наше счастье, приехал вербовщик — приглашать рабочих в Ярославль. Отец принял предложение и стал прорабом на Ярославском резиново-асбестовом комбинате, который в ту пору занимался строительством клубов и школ в городе. Так случилось, что он построил ту самую школу № 37, в которой впоследствии учился я и в которой познакомился со своей первой и единственной любовью — Лидой Луговкиной. Однажды на школьном новогоднем вечере я пригласил Лидочку на танец и предложил: «Давай дружить!», и она сказала: «Давай!» Тогда мы в первый раз поцеловались. Это был мой первый поцелуй, и я запомнил его на всю жизнь. В школьные годы я был всем примером. Папа меня отправлял в пионерские лагеря. А в пионерских лагерях проводились, как правило, военные игры. К 40-му году я уже был обладателем значков ГТО («Готов к труду и обороне!») и «Ворошиловский стрелок». Я сдал все нормативы. Мечтал о военной службе. И я был не одинок, потому что в то время об этом мечтало подавляющее большинство мальчишек. Десятилетнее образование было необязательным (обязательной была семилетка). Пока я учился в военном училище, началась война. Мы дежурили в Москве вместе с курсантами других военных училищ и военных академий. Ночами ловили диверсантов, боролись с пожарами. А потом, когда немцы подошли к Москве, наш дивизион и вовсе выставили в полосе обороны 16-й армии. То есть я участник обороны Москвы. Мне было девятнадцать лет, мальчик совсем. Я еще не брился, а меня уже назначили командиром батареи реактивных установок «Катюша», в которой сто пятьдесят бойцов, шесть офицеров и заместитель по политической части. Мне тогда казалось, что я такой взрослый, такой мудрый. И надо сказать прямо, вел я себя достойно. Прошел Сталинградскую битву. Все двести дней битвы. Ранеными убывали очень многие. Их отправляли в госпитали, в медсанбаты. Ночью я получал пополнение, а днем от батареи оставалась половина. Я никогда не видел таких бомбежек, как в Сталинграде. Помню, как 23 августа в небе шли сотни бомбардировщиков и сыпали бомбы, словно горох. Казалось, никого после этого не могло остаться в живых. А мы выходили из укрытий и вновь открывали огонь по врагу. На участке, что защищал наш полк, мы ни разу не попятились. Конечно, страх был. Я каждый день просыпался с мыслью: «Господи, пронеси. Оставь в живых». Но в то же время мы ни на одну минуту не были сломлены. Ни на минуту. Я скрежетал зубами, но отдавал команды по рации на открытие огня. Скрипел зубами, матерился и орал: «Вот, гады, вам. Не пройдете!» Немцы очень методичны. Они тогда были победителями и воевали только днем. Ночью они ложились спать. Ну, и нам выдавался отдых, но отдых коротенький. Лето, ночи короткие. Но все равно мы урывали где-то час: выпить, поговорить, помечтать о победе. Разговоры, конечно же, о девочках. О невестах, о девчонках, которые остались нас ждать. После Сталинграда я был участником операции «Багратион» по освобождению Белоруссии и Литвы. Это была блестящая операция. Вот тут мы немцам дали за все. Они бегали по лесам, попадая в окружение, мы их гоняли, как зайцев. Они десятками тысяч сдавались в плен. Тогда по Москве провели сто тысяч пленных (только с нашего фронта, с Белорусского). Специально — по центру Москвы, чтобы москвичи видели. Вот они, завоеватели в кавычках. В какой-то момент против меня была устроена провокация. А именно вечером, в одиннадцатом часу, на подступе к местечку Гульдаб в Восточной Пруссии. К нам в блиндаж зашел младший лейтенант Китаев, парторг дивизиона, и сказал: «Слушай, комбат, у меня печка дымит. Завтра ее починят или заменят. Разреши, я у тебя переночую». Я ответил: «Какой разговор, конечно. Заходи, места хватит». Я был не один в блиндаже. Со мной были мой заместитель, старший лейтенант Егоров, и электротехник батареи, лейтенант Кудрявцев Костя. Я его называл Косточка. Уже перед сном мой ординарец принес нам ужин на всех. За этим ужином Китаев начал политические разговоры провокационные, вынуждая меня ответить. О ликвидации Коминтерна, о сталинских репрессиях. У нас не было тогда слова «ГУЛАГ», были «враги народа». Все знали о репрессиях: у моего папы половина сотрудников была арестована, эти люди бывали у нас дома, а потом пропадали, и мы узнавали о том, что они арестованы. Я тогда сказал Китаеву: «Выходит, что методы борьбы с врагами у коммунистической партии и у гитлеровской Германии одинаковые?» Тот на следующий день все переложил на бумагу и отправил в контрразведку. Это было в декабре 44-го. И вскоре меня отправили офицером связи на командный пункт 11-й гвардейской армии. Там я встретил Новый год. Надо сказать, что еще до этой провокации, когда мы были в Литве, я в политотделе устроил скандальчик. Мне стало известно, вернее, я своими глазами увидел на станции, как грузили наших бывших военнопленных, которых мы освободили из немецких концлагерей. Их грузили в «телятники» с конвоем, с автоматами, с овчарками. Это было поздно ночью, а утром я пошел в политотдел к подполковнику Холодилову, все это ему выложил. И сказал со всем моим азартом: «Как это можно? Они были у Гитлера в концлагерях». Холодилов мне ответил: «А может быть, среди них лазутчики?» Я ему: «Какие лазутчики, мы их бьем. Они скоро, так сказать, копыта отбросят». Он в ответ: «А может быть, там англичане, американцы затесались?» Я парировал: «Но они же наши союзники». Он закончил разговор: «Таков приказ Сталина». А я и ляпнул: «А Сталин что, не ошибается?» Такое говорить про Сталина никому не разрешалось и не прощалось. Когда уже следствие шло, в контрразведке, следователь капитанНовоселов мне сказал: «Благодари Бога, что тебе дали десять лет, потому что я тебя запросто расстрелял бы. Имя вождя неприкосновенно». Из-за этого доноса меня сразу же исключили из партии. Но я понял, к чему все идет, хотя партбилет еще у меня оставался. Товарищи мне сказали: «Будет партийная комиссия фронта. Тебя туда вызовут, решат окончательно». Но я уже тогда знал, что меня арестуют. Если честно, я был в полном смысле слова раздавлен, сокрушен. В голове повторялись одни и те же мысли: «Жизнь кончилась». Военный трибунал длился буквально пять-шесть минут. Не успел я переступить порог, а уже председатель трибунала покачал головой: «Ай-яй-яй, какой молодой. Как же так? До чего вы дошли? До чего вы дожили? Это после Сталинграда, это после обороны Москвы, после операции “Багратион”?» И это мне говорил какой-то негодяй, который всю войну пороха не нюхал, который только и делал, что людям приносил зло и несчастья. И вот эти люди творили с нами все, что хотели. Ну, естественно, статья была одна — 58-я. Обвинить меня в измене Родине ни у кого, даже у контрразведчиков, язык не повернулся. Значит, в чем обвиняют? В антисоветской агитации. А я следователю говорю: «Кого я агитировал? Подполковника Холодилова в политотделе? Или парторга, младшего лейтенанта Китаева? Я понимаю, агитация — это если бы я выступил на открытом сборище и призвал бы людей к чему-то». Это тогда так называлось, когда не за что было арестовать, но нужно было, давали вот эту статью — «антисоветская агитация». Пункт 10-й, пятьдесят восемь, часть 2-я. Срок десять лет и пять лет поражения в правах. Сразу после ареста я попал в пересыльную тюрьму в Инстербурге (нынешний Черняховск Калининградской области). Тюрьма, организованная в казармах, бывших до прихода войск в Германию училищем юнкеров — гитлерюгенд[62], запомнилась мне до мелочей. Бывшая классная комната, приспособленная к содержанию заключенных, была очень высокой, все окна были закрыты доверху, кроме одного, закрытого на три четверти (под самым потолком оставался продолговатый проем с металлической решеткой для дневного света). В камере нас было более сорока человек. Спали на полу, и только привилегированные, ворье, воры в законе — на нарах. Когда начался артиллерийский грохот, праздничный салют, конвой открыл дверь камеры и крикнул: «Немцы капитулировали!» Мы все подскочили, обнялись, встали плечом к плечу и орали по какой-то инерции, не сознавая, да и не слыша собственного крика, потому что орала вся тюрьма. Кричали с окаменевшими лицами, по которым не капали, а текли слезы. Никто их не замечал и не утирал… Эта стихия продолжалась нескончаемо. Наступило утро, а грохот и ор не уменьшился. И только настойчивые призывы и угрозы охранников заставили нас опуститься на нары, на пол и замолчать. В лагерь нас везли через Ярославль. На остановке я на клочке бумажки из-под махорки огрызком карандаша написал адрес, завернул камешек и бросил. На станциях у товарняков всегда стояла толпа. Таких эшелонов проходило много, и люди выходили к поездам, пытались разузнать хоть что-то о своих. В основном это были старушки и женщины. Какая-то девочка лет двенадцати подняла мою «посылку», развернула, прочитала, кивнула мне головой и побежала. И я надеялся, что к поезду успеет прийти моя любимая и единственная Лида или ее мама. Я сразу понял, что Лидочка — это любовь на всю жизнь. У меня это никогда не вызывало вопросов. Нас еще в школе называли Пеймерами. Когда я уходил на фронт, мы не тяжело прощались — мы обнимались и целовались, клялись в великой дружбе. Мы были так воспитаны: защита Родины — выше жизни. Мы прощались по-комсомольски, как пел Утесов:Дан приказ: ему — на запад,
Ей — в другую сторону.
Уходили комсомольцы
На Гражданскую войну.
Цыганский быт и нравы стары,
Для нас, друзья мои, не новы.
Аккомпанируют гитары,
Танцует Зоя Сапогова!
«Приехать не смогу по семейным обстоятельствам».Сталин и перед своей смертью умудрился самую большую подлость совершить — процесс против врачей. Начались повальные аресты. Лида была напугана, поэтому отправила мне такую телеграмму. Я сгоряча через несколько месяцев (а я был парень ничего, девки осаждали) женился на Тамаре Бражник. Она как молодой специалист, инженер-технолог, углехимик, приехала по распределению после института в Воркуту. Я стал ее мужем, она родила мне двоих детей. Все было прекрасно, но я ее не любил — уважал. Снова с Лидочкой мы встретились только в 1984 году, когда я уехал из Воркуты насовсем, вернулся в Ярославль. К этому моменту мы оба овдовели, но в феврале 1985 года сыграли свадьбу. Нам обоим было за 60 лет. Это была комсомольская свадьба, пришли наши школьные товарищи. Мы прожили 30 счастливых лет. Мы много путешествовали — вставали утром, открывали карту, тыкали пальцем и говорили: а давай поедем сюда! Я любил в жизни только раз. Я — однолюб.

Михаил Пеймер Михаил Пеймер, боевой офицер, участник битвы за Москву, Сталинградской битвы, операции по освобождению Белоруссии, стал жертвой доноса уже в самом конце войны. Осужденный по статье 58–10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) на 10 лет лагерей, он попал в один из самых крупных «островов» ГУЛАГа — Воркутинский ИТЛ (Воркутлаг), расположенный в Заполярье. Основной производственной деятельностью Воркутлага была добыча угля. В годы войны воркутинский уголь, добытый заключенными, отправлялся в блокадный Ленинград. Численность заключенных Воркутлага после войны достигала 73 тысяч человек. Генерал Михаил Митрофанович Мальцев, начальник комбината «Воркутауголь» и одновременно начальник Воркутлага, был одним из тех редких типов руководителей ГУЛАГа, о которых бывшие заключенные вспоминают с чувством уважения. Пренебрегая приказами и распоряжениями, Мальцев назначал на инженерно-технические должности политических заключенных, одним из таких был Михаил Пеймер. Будучи заключенным, он прошел путь от шахтера до начальника планового отдела стройуправления на строительстве новых шахт.
АЛЕКСАНДР ГРИЦАЮК

Александр Грицаюк (слева) с другом Николаем Ковачом, Челябинская область, 1954 год
Интервью записано 6 октября 2016 года. Режиссер Людмила Садовникова. Оператор Антон Андросов.
Александр Андреевич Грицаюк родился 11 ноября 1929 года в Польше, в селе Золочовка Ровненской области. В 1944 году поступил в медицинское училище в городе Луцке. Был арестован 20 ноября 1946 года по показанию знакомого. Обвинялся в укрывательстве националистического подполья. 17 января 1947 года осужден Военным трибуналом войск МВД Волынской области по статье 54–1а УК УССР. Приговорен к 10 годам ИТЛ. По кассационной жалобе приговор был пересмотрен, и 19 февраля 1947 года определением Военного трибунала войск МВД Волынской области изменен на пять лет ИТЛ. Александр Андреевич был отправлен в Южкузбаслаг[65] на общие работы, затем работал фельдшером в лагерной больнице. Полностью отбыл срок и был освобожден 13 октября 1951 года. Получил поражение в правах, не мог проживать на Украине, а также в российских областных и районных центрах. Был направлен в Челябинскую область. Работал на шахте. В 1953 году попал под амнистию, был восстановлен в правах и смог покинуть место проживания. Переехал в Москву, работал электрослесарем на Казанском вокзале. Полностью реабилитирован 17 июня 1957 года.
«Следователь сказал: “Все равно тебя посадят”»
Я родился в Польше, в селе Золочовка Ровненской области, хотя до 1918 года это была Россия. В 1918 году по договору Троцкого и Ленина эту землю отдали полякам[66]. Ну что ты сделаешь? Это власть. Все конторы, все кругом стало по-польски. Украинские школы закрыли. Я поступил в школу в восемь лет. Мы учились вместе с поляками, изучали латынь, учились читать-писать по-польски. Дома на украинском языке говорили, а в школе — на польском. Поляков мы не любили, лупили их, а они жаловались. Учителя имели право нас бить, у них были такие трости, специально гибкие. У нас учитель был, мазур, очень строгий. Схватит за штаны и даст как следует. Доставалось нам от него, чтобы мы не дрались. В школу к нам приходил священник. Мы изучали молитвы по-украински — «Верую», «Отче наш» и прочие. А к полякам приходил ксендз. В селе была православная церковь и большой польский костел. С первого класса на большие праздники нас водили в храм. А поляки в костел ходили. И нас туда водили, орган слушать. У нашей семьи было пять гектаров земли. Мы пахали, сеяли рожь, пшеницу. Я серпом жал с самого детства. Отец часть зерна продавал на рынке, остальное вез на мельницу, молол. У нас мешки стояли — и такая мука, и такая. Все было разложено по полочкам. Корову держали, овец, свиней, гусей. Мы не голодали, но одевались бедно. Я видел, как другие ребята, поляки, в школу приходили. А мы — шваль против них. Были у нас и бедные поляки. Нищих вообще было много. С мешком, с сумой ходили и просили хлеба. Они все новости приносили и пересказывали — вот так и так, скоро будет война. Родители про нее тоже все время толковали. 1939 год, 1 сентября мы как раз в школу пошли. А там нам говорят: война. Какая война? От нас она далеко была. Отцов заставили вырыть траншею возле школы — в случае, если будет бомбежка, детей туда прятать. Я воочию видел, как русские пришли. Однажды вдруг появились три всадника, на гору поднялись — разведка. Потом прошла одна рота — пехотинцы в обмотках, другая… Много их шло, не знаю сколько. Ну, мы их приветствовали — и все, больше ничего. Россию ждали, потому что поляков не любили. Я — быдло, а он — пан. Ему все было дозволено, а мне ничего. В село прислали красных комиссаров с Донбасса. Они народ созывали на собрания: мы вас освободили! Повсеместно агитировали за колхозы. Отец каждый день на сборы ходил. «Вы будете вместе работать, будете получать “палочки”[67]. Зачем тебе держать лошадь, корову? Ты будешь молоко получать, готовое масло будут тебе давать. Объединяйтесь! Сдавайте всё!» Подпольные коммунисты, которых поляки вылавливали, сразу стали властью, им, как дружинникам, красные повязки сделали — теперь они порядок на селе наводить станут. Жить стали, конечно, хуже. За Польшей мы как налоги платили? За пять гектаров 50 злотых заплатил на год — и все. Советская власть пришла, и сразу: корова есть — молоко сдай или за землю плати. Корова или свинья есть — мясо сдай. Налоги, налоги, налоги… Никакой торговли не стало. Один кооператив сделали, а народу-то сколько! Из одежды или обуви ничего нельзя было купить. Богатых поляков, украинцев, евреев начали вывозить в Казахстан. В селе говорили: того забрали ночью, того арестовали, того посадили. С 1939-го по 1941-й очень много арестов было. Почувствовали, что советская власть не туда клонит, и пошли против нее. У нас национальное подполье было еще при поляках. Националисты сначала против них боролись, а теперь против советской власти. И тут уже ждали немцев. Ждали-ждали, и вот 1941 год, война. На второй или на третий день немцы были уже в райцентре. И мы туда побежали — я, мой брат, нас целая орава. Посмотрели — и правда немцы! Пехота на велосипедах, артиллерия, танки. Идут на Ровно, от райцентра примерно 80 км. Вот за эти пару дней, как немцы пришли, националисты взяли власть в свои руки. Согнали народ, немец приехал красивый такой, высокий, в шинели. Соседа, что через два дома жил, выбрали старостой. Набрали полицию из местного населения. Для евреев сделали гетто, их оттуда никуда не выпускали. Вышел приказ: спрятал еврея — расстрел. Бывало, бежали из гетто. Ну сколько можно скрываться — день, два, а есть же охота, вот они и приходили по ночам. Постучат в окно: «Дай кусочек хлеба». Боялись им хлеб давать. Поймают его: «Кто тебя кормил?» — «В этом доме кормили…» Ну и все, тебя забирают. Украинцы сочувствовали, но ничего не могли сделать, потому что приказ очень жестокий. Поэтому мало кто прятал. Разве что ребенка могли спасти. А потом в один день собрали всех евреев в центре Луцка и расстреляли. Они сами копали ров. Раздевали догола всех — малых и больших. Участники этого дела рассказывали, местные. В 1944 году немцев прогнали. Советская власть перепись населения сделала: кто, сколько, с какого года. Объявили мобилизацию и всех мужиков забрали подчистую. И отец пошел. Куда денешься? У нас в селе НКВД каждый день облавы устраивало на бандеровцев — это же враги, они против советской власти. Но слово «бандеровцы» в селе не говорили, просто «партизаны». Я даже понятия не имел, кто такой Бандера[68]. Ну, партизаны и партизаны. К нам в хату все время приходили вооруженные энкавэдэшники, все кругом обыскивали. То там посмотрят, то здесь пошныряют, то под кровать заглянут. Если находили хлеб, сало, что-нибудь съестное — забирали. Но искали именно партизан. Они делали схроны, по-украински — крыивка, в лесу или погребах, днем прятались, когда их искали, а ночью выходили. Днем одна власть, ночью другая! Теперь он хозяин, он приходит к тебе и стучит в окно: «Дай еды, дай самогонки!» Не дашь? Дашь! И были провокаторы, завербованные, они самые страшные. Специально идет к тебе вооруженный — как ему не дать? Даешь. Приходит НКВД (он уже на тебя донес): «Почему не заявил, что партизана видел?» Вот тебе и срок. Вот так и меня забрали. В 1945 году я поехал в Луцк. Там и школы открылись, работа какая-то была. Записался в медучилище на фармацевтическое отделение. Учился и подрабатывал: разгружал вагоны с медикаментами в областной лаборатории. В Луцке у меня была знакомая тетка, я жил у нее на квартире, в семи километрах от станции. Товарный поезд «Львов — Луцк» ходил раз в сутки: в воскресенье ночью я в него садился, ехал в Луцк, на вокзале дожидался утра и шел на учебу. А в субботу ночью опять домой. На учебу ездили с товарищами — кто в Львове учился, кто в Луцке. В тот день, нас восемь человек было, уже поздно вечером шли на станцию. Вдруг нам навстречу — трое с автоматами. Все тогда ходили в основном в военной форме. Остановили: «Вы куда?» — «Мы идем на станцию, учиться едем». — «Документы!» Я показал справку, что учусь в медучилище, товарищи тоже показали. И все, мы разошлись. А один из наших, Андрей, он какой-то, не знаю, ненормальный, что ли, пришел к себе на квартиру (он у энкавэдиста снимал) и сказал: «Я сегодня видел бандеровцев». — «А где ты, Андрюш, видел?» Тот и рассказал, как у нас документы проверяли и будто бы еще и агитировали. Неужели бандеровец выйдет документы проверять? Это были завербованные НКВД. Мы потом это узнали. Прошло две недели, мы с товарищем вышли из поезда в Луцке. На станции постоянно энкавэдэшники крутились. Подошли к нам двое с пистолетами: «Ты Грицаюк?» — «Да». — «Арестован. И не вздумайте бежать!» Ну куда я побегу? Я знаю, что я ни в чем не замешан, ни в чем не виноват. Привели меня, сутки или больше я сидел в каком-то кабинете. Там был дежурный, он меня спросил: «За что тебя арестовали?» Я говорю: «Я не знаю». — «Арестовали, и не знаешь, за что?!» Ведро воды мне поставил, туалет. На второй или третий день слышу: «Выходи!» Спустили меня в подвал, коридор длинный, темнота! Открыли камеру, и меня — туда. Елки-палки! Лампочка чуть горит, смрад, столько народа, там сотни, может быть! Дежурный крикнул: «Староста, принимай!» Недели три, наверное, я там сидел. А потом вызвали к следователю, лейтенанту Зайцеву, сбоку от него сидел Андрей. «Ну, рассказывай, как дело было». — «Какое дело?» — «Ну, как вы шли, бандеровцев видели». Я ему говорю: «Почему бандеровцев? Это, наверное, “ястребки”[69] были». У нас так называли истребительный батальон. Меня тоже хотели в «ястребки» взять, но я уже в Луцк бежал, чтобы только туда не попасть. Следователь мне: «А мы знаем, кто это был. Андрей, расскажи». И Андрей начал что-то плести. Как это произошло, я не знаю, но я на него бросился, чтобы ударить. Ну как же, он врет! А следователь как дал мне коленом, и я повалился сразу. «Убрать его», — сказал. Пришел солдат, заволокли меня обратно в камеру. Когда я отошел, снова к следователю вызвали: «Расскажи, как дело было». Ну, я рассказал. «Почему ты не заявил?» — «А что я буду заявлять? Куда я побегу заявлять?» В таком духе допрос был. А следователь тем временем протокол составлял. Я не знаю, что он написал. «Читай, расписывайся», — говорит. Я отказался. И ни один протокол не подписал. «Ну, все равно тебя посадят. Можешь не расписываться, можешь говорить, можешь не говорить». Два месяца я там просидел. Измотали меня в этом изоляторе. Я не чувствовал уже ничего. Что будет, то и будет. Ты не можешь оправдаться, ты не можешь абсолютно ничего. Тебе ни слова не дают сказать. Это ужас какой-то. В изоляторе выдавали паек, кому-то приносили передачи. Я был под следствием, и мне передачи были запрещены. Моя мать пешком прошла тридцать километров, принесла мне булку хлеба, может, еще сала. А как передать? Тогда в Луцке было много военнопленных, они там работали, и один немец возил в тюрьму воду. Мать его спросила: «Знаешь такого молодого и чернявого?» Я чернявый тогда был. Немец ответил: «Да есть, знаю!» И она отдала ему передачу. Немец пришел, сел возле меня, стал гостинцы доставать, говорит мне: «Мать, мать передала…» Но тут блатные накинулись и все отняли. Арестовали меня 20 ноября 1946 года, а 17 января 1947 года нас восьмерых судил военный трибунал. Сутки мы сидели в маленькой и низенькой камере, а ночью отвели нас в какую-то комнату. Там был большой красный уголок, за столом сидели прокурор, судья, все со звездочками. Нас поставили лицом к стенке, четыре автоматчика стояли сзади. И по алфавиту выкликивали — называешь имя, отчество, фамилию, и тебе озвучивают приговор: обвиняетесь в том, том и том-то, 10 лет исправительно-трудовых лагерей. И так каждому. Дошла очередь до Андрея, а его фамилия Феногенов, он последний был: «…срок — 15 лет каторжных работ». Тому, кто доносил на нас. Один наш товарищ, Семен, учился в Львовском университете, у него обыски были. Нашли книги, вытряхнули открытку, где Гитлер работает на своем участке. Была такая открытка, ее даже показывали по телевизору, с вилами или с лопатой — что-то такое. «Почему ты держишь портрет Гитлера?» Он говорит: «Это же не портрет, это же открытка. Мне прислали поздравление, там же написано, кто прислал, откуда. Вы что, не понимаете?» Единственный спор с ним был. Но ему все равно 10 лет дали. После оглашения приговора из следственного изолятора нас в тюрьму загнали. И посадили всех вместе. Все сразу на Андрея: задушить готовы, растерзать, а он кричит! Нам сказали, что можно написать конституционную (кассационную) жалобу в Верховный Совет Украины: меня оклеветал тот-то. Заставили и его написать, что он нас оклеветал. Через месяц нас вызвали в кабинет, выстроили уже лицом вперед. Снова по алфавиту вызывали: у первого фамилия на «Б» начиналась — 10 лет, второй был я — пять лет. Четверым уменьшили срок, по пять лет дали, троим по 10 лет, а Андрею 15 лет каторжных работ так и оставили. Через пару дней нас погрузили в специальный вагон и привезли во Львов на пересыльный пункт. Там нас сортировали. Андрея от нас отделили. Всех забрали, а я один остался. Каждую ночь подселяли новую партию арестованных. Однажды привезли группу молдаван и министра иностранных дел Молдавии. Как шмонали блатные! Их специально к ним запускали, говорили, у них где-то золото есть. Блатные даже каблуки от их ботинок отрывали. Наконец дошла очередь и до меня. Забрали меня в лагерь в самом Львове, на ламповый завод. Там я заболел. Пошел к врачу, температуры нет, врач меня и выгнал. Утром я не вышел на работу, спрятался. И по-моему, к вечеру меня опять на пересылку взяли, отправили обратно как больного. В пересылке я был дня четыре. Потом погрузили в поезд, вагон набитый, человек 60–70 — одни калеки. Без ног, без рук, страшное дело. Помню двух танкистов: обгорелые лица, волос нет, я не знаю, как глаза еще видят. Им по 10 лет лагерей дали. За что — не могу сказать. Привезли нас на станцию Броды, из вагонов очень долго не выпускали, из поезда уже кричали: «Воды дай! Жарко, задыхаемся!» И начали долбать костылями. Раскачали вагон, честное слово! Охранники не знали, что делать. За нами должна была машина приехать. Кормить нас надо, а нечем. Где-то наварили нам пшенной каши, принесли небольшие такие корытца, как для свиней. В это корыто вылили кашу, мы по очереди садились, хлебали кто чем. Потом объявили, что машины не будет, надо идти пешком 40 километров. Ну и что, что на костылях? На каменную гору нужно было подниматься, наверху монастырь стоял, туда нас и гнали. Пришли чуть не к утру. Там уже нас накормили как положено. Это был доминиканский монастырь XVI века, его магнаты польские строили. Жили в кельях бригадами. В монастыре был колодец глубиной около 100 метров, наша бригада оттуда здоровой бочкой воду поднимала. На тросе спускался человек, а шестеро сверху крутили. В колодце — маленькая ниша, садишься на корточки, наливаешь в бочку воду из родника. Целые сутки так работали. Спускались в колодец по очереди. Я боялся спускаться — оторвется трос, и ничего не сделаешь. Я написал письмо домой — где нахожусь, что жив-здоров. Письма проверяла цензура — что я мог еще написать? И что вы думаете? Отец приехал ко мне на лошади. Я любил на колокольню лазить, однажды вижу: кто-то едет, на отца похожий. Точно, отец! Вызвала меня женщина-надзиратель, привели в комнату, отец меня обнял. Я заплакал сразу. Я даже не знаю почему, но надзирательница что-то заподозрила, она нас тут же выгнала. Отец за ворота пошел, а я на — колокольню: «Папа! Папа!» А рядом вышка часового. Он закричал мне: «Стрелять буду!» А я раскипятился: «Ну и стреляй!» Уже и дух у меня появился. А потом пришел начальник караула, и отца отогнали от ворот. Но он все-таки передал для меня посылочку. Не пойму, почему я тогда расплакался. Может, что виноват перед отцом, что так попался. Может, из-за этого. В монастыре я провел около месяца. После врачебной комиссии нас, человек тридцать, погрузили в машину и в сопровождении автоматчиков опять отправили во Львов на пересылку. Снова я там несколько дней побыл в набитой камере. И однажды ночью нас погрузили в вагоны и повезли в Сибирь. Недели через три приехали в Новокузнецк, он тогда Сталинск назывался. Выгрузили в чистом поле. Участок, веревкой обтянутый, — полевая кухня. Загоняют туда, кормят, потом пересчитывают. Собрали 400 человек — 300 мужчин и 100 женщин — и гнали нас пешком три дня. Переправились мы через речку Томь, а вокруг горы, начинается настоящая тайга. Через несколько километров увидели бараки. Это была уже зона. Нас там помыли, побрили, накормили, переодели, выдали лагерную одежду. Брюки и куртку, рубашку солдатскую, трусы какие-то женские трикотажные. Разбили на три бригады по 25 человек, выдали топоры, пилы и километров за пятнадцать в тайгу пешком отправили. Там уже дороги не было, только тропинка, три лошади вьюченные шли, кругом конвой. Прибыли на место. Вокруг горы — это Горная Шория. Длинный каньон. Горы, пихтой поросшие, красотищи не знаю такой, а внизу, где овраги, девственный лес — кедры огромные. На вершине только лиственница растет, кусты очень большие, и медведи ходят. Честное слово! Они чувствуют, что людей нет. Медведя-то я воочию видел. Первым делом начальник лагеря нам сообщил: «Побег бесполезен. Вы можете пытаться — не пытаться, вы никуда не уйдете отсюда. Лес будете пилить. Но первым делом надо построить лагерь». Мы разбились на строительные и дорожные бригады. Сделали шалаши, каждая бригада — свой. Стропила елочкой накрыли. Проложили лежневую дорогу[70], чтобы машина проезжала. Начали строить бараки. За неделю уже барак стоял. Шириной примерно два-три метра, длинный-длинный. Баню себе соорудили, парилку. Лагерь мы построили быстро. Там такие мастера, такие специалисты работали! Мы сами для себя строили и сами огораживали свою территорию. Я когда на строительстве работал, заболел. Питание плохое, работа тяжелая. Мне 17 лет, измотался. Чувствовал, что силы теряю, но все равно цеплялся: надо что-то делать, работать. Как там говорили — крылья нельзя опускать, иначе хана будет. Я бревна тесал, и у меня пошли чирьи, такие большие, что бригадир сказал: «Иди в санчасть, погляди, какие у тебя фурункулы». У меня все-все усыпано было. А я чесался и не сдавался. Фельдшер меня посмотрел, стал марганцовкой мазать. Я говорю ему: «Мне бы ихтиолку». — «Откуда ты знаешь?» Я рассказал, что учился в медучилище. Он заинтересовался, спросил, какие лекарства знаю, умею ли писать. Ну, лекарства я какие-то знал, конечно, потому что в лаборатории работал до ареста и многому научился, латынь понимал. «Да ты, — говорит, — медик!» Так меня в санчасти оставили. Там я подкормился. Прошло две недели, чувствую, я поправился, у меня какой-то жир завязался. Этот фельдшер, его Николаем звали, все время смывался — к своей подруге в женский лагерь бегал, а я там сидел за врача. Я тупой совсем был. А там как: не умеешь — научим, не хочешь — заставим. А потом, месяца через три, врача прислали. Меня как политического заключенного пришел приказ отправить на общие работы, и я попал на лесоповал. Лес валили, бревна пилили, тесали, шкурили. Норма — четыре куба на человека, звено — три человека, 12 кубов нужно было дать. Пайка — 300 грамм хлеба, если норму выполняешь. Если перевыполнил, то добавлялось 50 грамм. Если не выполнял норму, то еды давали меньше. Ребята пилили, а у меня очень хорошо получалось обрубать сучья. Я ими костер разжигал, чтобы не холодно было. Костер горит, они валят, а я обрубаю. Длина бревна должна была быть 6 или 4,5 метра, чтобы в вагоны грузить. Вагон 18 метров или чуть больше, три бревна по 6 метров или четыре по 4,5 ложились вдоль. Приходил приемщик, замерял и специальным молотком отметку на бревне делал. Если завалишь здоровый кедр — уже 16 кубов. Смотря в какой лес попадешь: здесь вырубил — дальше идешь, вырубил — дальше. Я с детства трудился, мне было легко, а если человек никогда физическим трудом не занимался, не умеет ни пилить, ни стругать… Пригнали однажды этап эстонцев, профессуру Тартуского университета. Как они были одеты! Я таких шуб никогда в жизни не видел. У них и щетки позолоченные были, зубы чистить. А их много было — и музыканты, и артисты. И всех их заставили пилить, норму давать. Даст он норму? Нет, конечно. Я не могу сравниться с ними, и они — со мной. Дистрофиков очень много было. Молодых ребят, которых с Запада привезли, из Германии. Дистрофия — страшное дело. От человека одни кости оставались, ноги тонкие, руки тонкие, еле-еле ходит, а то и ходить уже не может — упадет и лежит. Как тут работать и норму давать? Если не выполнил норму и тебе недодали еды, еще и в карцер посадили — все, ты погибаешь. Уже трудно восстановиться. А поделиться нечем. Ну чем ты поделишься? У тебя 300 грамм хлеба — все. Ты же пайку свою не отдашь. И питание — мука, килька, вода — вот тебе и вся баланда. Или чечевица. Или ложку каши дадут. Там же еще был хозрасчет. Тебя одели, обули, посчитали, сколько что стоит и сколько ты заработал. Если ты не заработал, за одежду высчитывали. Много умирало. Хоронили в яму: закопали, столбик поставили — и все. Работали по девять часов. Все по-армейски, строго. Подъем, туалет и — в столовую строем, побригадно. Двое-трое дежурных из бригады расставляли еду. Поели — пошли на перекличку. Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья и срок. И вечером после работы такая же перекличка. Так каждый день, как молитва. Выходишь из лагеря — обыскивают, заходишь — обыскивают. Так наработаешься в лесу, придешь в барак, шлепнешься — и все. А в выходной в бараке рассказывали всякие военные небылицы. Там же солдаты были. Они прошли всю Европу. Вспоминали, как богато там жили люди, а в наших колхозах — голь-моль. Говорили, что систему надо менять, колхозы все отбирают, ничего не дают, и заработка никакого нет. В таком духе. Я очень любил их слушать — такие рассказы, такие путешествия. И они уже не боялись, что на них донесут, — уже донесли дальше некуда, десять лет дали. В лагере было много побегов. Там такие ребята были, они фронт прошли, в разведке служили, они бежали с концами, их не находили. Однажды сбежали двое, они работали на строительстве лежневой дороги. Что они придумали — между собой вроде учинили драку, а охранник подошел их разнять, они раз — отняли винтовку у него, потом и второго разоружили. И с концами. Возле речки Томь большой склад был. Баржи привозили продукты, муку. Они этот склад взломали, забрали тушенку. Но были и неудачные побеги. Беглецов ловили, но обратно не возвращали. Из тайги сложно убежать. Вот ты убежал из лагеря. Ну, день ты блуждаешь, два. Там поселения были, высланные жили или кто — я не знаю. Тебя обязательно накормят, задержат, расскажут, где тропинка какая, а по своей связи уже передадут, что здесь беглецы. Деревенские получали по 15 кг муки награды за информацию и поимку, охотно сотрудничали с НКВД, это выгодно было. Тайга. Там не сочувствовали. Я знаю по рассказам тех, кто бежал, им по три-пять лет к сроку добавляли. Я никогда не пытался бежать. Куда бежать? Это бесполезно. Около трех месяцев я проработал на лесоповале — январь, февраль и март, — а в апреле из Москвы приехала врачебная комиссия. Осматривали нас побригадно. В санчасти была медсестра, единственная женщина на сто с лишним человек. Она ко мне какую-то симпатию проявила. Я когда зашел в кабинет, она что-то врачу шепнула. Женщина-врач спросила: «Вы медик? Откуда? Где учились?» Я ей рассказал. Она еще что-то спросила, и все. Я ушел. Это было вечером, а утром на построении слышу: «Грицаюк, выходи из строя!» Я думаю: «Да что ж такое? Где я провинился?» Вызвали еще около тридцати человек, совсем больных людей, дистрофиков. Позже я узнал, что мне дали третью группу инвалидности, а с такой группой на лесоповал не положено. Это, наверное, была заслуга врача. Меня перевели в центральный лагерь. Поместили в специальную комнату с койками, как в больнице. С кухни таскали в бочках пищу, никуда нас не выпускали, кроме туалета. И мы так должны были лежать две или три недели. Хорошая кормежка, когда поправишься — выпускают. Пришел однажды врач, спросил: «Ты медик? Полежи тут еще пару дней, я потом тебя к себе заберу». И я ходил с врачом, немножко занимался. Что я там мог? Придет больной, я же должен его обследовать, а я ничего не понимаю. Но никуда не денешься. Послушаешь трубочкой, фонендоскоп называется, температуру померишь. А начальник сидит, смотрит. Раз температуры нет — не могу дать бюллетень, все — иди, гуляй или работай. Часто, чтобы получить бюллетень, в лагере делали мастырку. Намеренно руку или ногу чем-нибудь кололи, заносили инфекцию. Конечность распухала, температура поднималась, и человеку давали освобождение. А еще бывало, поставишь градусники и смотришь внимательно, чтобы градусник не начали набивать. Или что-нибудь теплое под мышку положат. Один даже картошку нагрел. Когда градусник вытащил, я даже не понял: он должен был умереть, у него зашкалило все. Такое было. С полгода, наверное, я там пробыл. Утром и вечером — осмотр, а целый день я ходил свободный. Была рядом столярная мастерская. Окна, двери, кадушки, шайки для бани делали. Мне там очень понравилось, я с ребятами подружился, ходил к ним. У нас был начальник культурно-бытовой части, Поляков, он меня заметил, стал опекать и вскоре перевел в мастерскую. Правда, к тому моменту уже прислали в санчасть московских врачей после института, медсестер. Там очень хорошие специалисты работали, один крымский татарин бочки меня научил делать. Я ему говорю: «Как вы дно вставляете, как высчитываете?» — «Ну как, как… Возьми ширину бочки, замерь, умножь на 3,14, и будет тебе круг». Я не знал этого! Это жизнь. Я быстро научился, парень-то деревенский, легко и бочки делал, и кадушки. Я почти два года был заведующим инструментальной мастерской. Работали в мастерской двое вольнонаемных: инвалид без ноги, участник войны и пожилой человек. Они ночью работали — топорища делали, пилы точили, а я — днем. Выдам инструмент — и мне нечего делать. То начальник позовет картошку посадить, то урожай собрать. Вот так я до самого конца в этой инструментальной и жил. Ну, повезло мне, честно скажу. Не знаю почему, но так создано было: бухгалтер, кассир, ну и я в «придурках»ходили. «Придурок» — значит начальник. Это было даже почетно, потому что не работаешь, а руководишь. И спали мы в отдельной комнате, нас там четверо или пятеро человек было. Я ходил свободно. Летом хорошо: пойдем, искупаемся. Был у меня очень страшный эпизод, на всю жизнь запомнился. Где-то в 1950 году дело было. Я выдавал топоры, пилы, вечером принимал инструмент обратно. На бригаду полагалось 25 топоров и 10 пил. И вдруг однажды бригадир говорит: «У нас топор украли». Как так? Я сразу докладываю: «Бригада такая-то, не сдали топор». Бригаду задержали, стали обыскивать, узнавать, как дело было. Проходит неделя, если не больше. Пришел я в столовую, молодой парень стоит у «кормушки» — место, где окно открывается, повар выдает первое, второе, хлеб. Вдруг в столовую зашел один из блатных, бушлат на нем длинный-длинный. А тепло было. Сбросил бушлат, вытащил топор и этого парня в голову сзади саданул, и тот упал. Я окаменел. Блатной топор из головы вытащил и ушел. Я, кажется, описался — так испугался. Потом он принес топор на вахту, бросил и сказал: «Такой-то — труп». Тут его задержали, скрутили. Говорили, он проиграл в карты, и ему дали задание: если убьешь этого — оправдаешься, если не убьешь — убьют тебя. Это не люди, звери. Я знаю, как они грабили, обдирали. Посылки мне в лагерь присылали нечасто, но присылали — сало, колбасу. Бедные мы были, нечего было присылать. И потом еще отец умер. Я узнал об этом из письма, тяжело вспоминать, хоть и давно это было. Письма писал все время — и туда, и сюда, три брата у меня, а двоюродных я насчитал человек пятнадцать. Кто в тюрьме сидел, кто в армии служил, по-разному. Там сплошные аресты были. Родные мне сочувствовали, спрашивали, чем помочь. Я не вор, не украл ничего, не убивал, шел по дороге, и вот тебе на — споткнулся и 10 лет получил. Вот такое дело. В лагере я духом не падал никогда. Я ж не один, в коллективе. Там все равны. Там нет национальности. Надо работать, и больше ничего. Очень страшно было, когда следствие вели, когда за неправду унижали. Я очень ждал освобождения. Но мне пророчили: у тебя политическая статья, тебе еще прибавят. Я этого боялся. Но нет, когда закончился срок, вызвали и сказали: «Вы свободны». Дали выписку, пожали руку — можете уходить. Отправился я в район за 15 километров от лагеря, там оформляли паспорта, ставили отметки о статье. У меня были ограничения на проживание — ни на Украине, ни в России в больших городах я жить не мог. Я когда освободился, почувствовал свободу, но не знал, с чего начинать: нужно кормиться самому, одеваться, все такое. Это сложное дело — такой переход. Поддержки никакой нет, домой не пускают. Дали мне направление, и поехал я на шахту в Челябинскую область. Устроился навалоотбойщиком, общежитие хорошее дали. Проработал год, не выдержал и в первый же отпуск к маме поехал — шесть лет дома не был. Пришел в сельсовет, а меня там помнят, говорят: «Саша, тебе надо уматывать отсюда, но так и быть, побудь, но никуда не ходи». Моя мама очень пострадала, жила бедно, одна с маленьким братом на руках. Я, конечно, ей помогал. Посылал посылки, деньги, одежду брату. В марте 1953-го умер Сталин. Столько страху было, столько горя, столько несчастья. Это же гений умер. Как же мы жить будем?! Мы же страдать будем без него! Ну, и ударный труд надо сделать — еще смену или две отработать бесплатно. А я обрадовался. Я в душе думал: «Ну, сволочь, давно пора!» После смерти Сталина Берия сделал амнистию. Можно было поменять паспорт. Я тут же побежал в паспортный отдел и получил чистый паспорт. В 1954 году получил расчет и поехал в Москву в гости к товарищу, с которым вместе делили комнату в общежитии. Познакомился там со своей будущей женой и вскоре женился. Устроился работать электрослесарем на Казанском вокзале. Окончил железнодорожный техникум. Я тихонько работал, спокойно. Меня избрали председателем профсоюзного комитета, потом в президиум дороги, это высокий пост очень даже. На работе так и не знали, что я по политической сидел. Я никому ничего не говорил. И родные не знали и до сих пор не знают. Жена знала. Она мне сочувствовала, защищала. Мы на любые темы беседовали, у нас откровенность была. В 1957 году к нам домой пришел участковый, просил меня зайти в милицию. А это самое страшное для меня было. Я ночь не спал. На второй день пошел, меня встретили и отвели в райком партии. Начали расспрашивать: сколько ты сидел, где сидел, за что сидел, и дальше — больше. Абсолютно все знают! А я же никому ничего не рассказывал, что сидел. А когда все закончилось, говорят: «Мы вам пришлем реабилитацию, вы оправданы, можете получить денежную компенсацию». Вот только тогда у меня отлегло, когда я услышал это «вы оправданы». Это судьба такая, и больше ничего, не я один такой — миллионы. Ничего не сделаешь. Но я считаю, мне повезло. Я даже сам удивляюсь. Жена всегда говорила: ты счастливый человек. Серьезно. Я в Бога верю с самого детства. Я же при Польше жил, там церкви не запрещали. Католики — отдельно, мы — отдельно, но учились-то вместе. Отец и мать очень набожные были. Молитвы знали, хотя писать не умели. В лагере я обязательно молился, а когда спать ложился, читал молитву, крестился, чтобы никто не видел. Я даже когда в следственном изоляторе сидел в Луцке, мы с немцем, который воду возил, вместе колядовали. Он по-своему, по-немецки, а я — по-своему. Вот так Рождество и справляли.
Александр Грицаюк Александр Грицаюк родился и вырос на территории Западной Украины, которая с 1921 по 1938 год входила в состав Польши. Он стал свидетелем эпохальных событий, определивших судьбу региона на десятилетия. 1 ноября 1939 года был принят Закон СССР «О включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением ее с Украинской ССР». Присоединение территории стало непосредственным результатом подписания Договора о ненападении между Германией и СССР с секретным протоколом к нему, по которому в сферу интересов СССР были отнесены страны Балтии, территории Западной Украины и Белоруссии, Бессарабии и Северной Буковины. На присоединенных территориях начался процесс советизации, выразившийся в изменении не только государственного устройства и политического режима, но и социально-экономических отношений. Полным ходом шли процессы коллективизации крестьянского хозяйства и ликвидации всех видов частной собственности. Начались репрессии в отношении членов оппозиционных партий, непролетарских групп населения. Наибольшее сопротивление оказывала ОУН (Организация украинских националистов), которая, несмотря на репрессии, продолжала подпольную борьбу за независимость Украины. Наиболее известным лидером ОУН был Степан Бандера (1909–1959). Деятельность организации носила антипольский, антисоветский и антикоммунистический характер. Борьба советской власти с «оуновцами», или «бандеровцами», на Западной Украине продолжилась в 1944 году сразу после освобождения этой территории от немецких захватчиков. Активные члены организации подлежали аресту и суду. Члены семей «бандеровцев» направлялись в отдаленные районы страны на спецпоселение.
ЗОЯ ВЫСКРЕБЕНЦЕВА

Зоя Выскребенцева, 1959–1966 годы
Интервью записано 7 мая 2015 года. Режиссер Мария Гуськова. Оператор Денис Гуськов.
Зоя Ивановна Выскребенцева родилась в 1924 году в Москве. Ее отец был инженером, мама — медицинским работником. После войны Зоя работала в Институте криминалистики. Однажды в 1948 году она провела вечер в компании своей подруги и ее приятеля-американца, что стало поводом для их ареста и обвинений в измене родине. После года, проведенного в лубянской тюрьме, Зоя Ивановна была приговорена к 20 годам исправительно-трудовых лагерей по статье 58–1а. Она провела в мордовском лагере особого режима около семи лет. В годы заключения работала на лесоповале и в швейном цеху. В 1956 году Зоя Выскребенцева была реабилитирована и вернулась в Москву. Работала в Театре им. Моссовета, Госкино, газете «Совершенно секретно» и телепрограмме «Взгляд».
«Я не понимала, какой родине я изменила»
Я родилась в Москве, в роддоме Грауэрмана на Арбате. Наша семья жила в переулке Сивцев Вражек — арбатская хорошая семья. Дедушка до революции был главным инженером на заводе Гужона, бабушка работала в больнице, она фельдшер. Потом нас с Арбата выселили в Дегтярный переулок, в общую квартиру, но комната была хорошая — 29 метров. Папа — уроженец Орловской области, города Мценска. Он в юности приехал в Москву, получил здесь театральное образование, поступил в третий МХАТ. Но понял, что актерство — это не его конек, и ушел: окончил институт, получил второе образование. Последние годы перед смертью он работал главным инженером Сталинской водопроводной станции. Мама в Москве родилась, она медик по образованию. Родители познакомились, когда мама пришла в студию Вахтангова, где папа учился. Папа для сцены взял фамилию Свободин, потому что Выскребенцев не звучит! Он стал Свободиным и уговаривал маму тоже на эту стезю ступить. И мама тогда ради шутки два раза к ним на лекции приходила и взяла фамилию Крепостная. Веселые родители! У меня были очень хорошие отношения с мамой и папой. Мы все любили друг друга. Я пошла в 172-ю школу, где учились двое детей Сталина — Светлана и Вася, а еще дети Молотова, Микояна. В общем, школа для детей высокопоставленных родителей. Дочь Сталина училась в параллельном классе: белолицая и с веснушками, рыжевато-коричневатые глаза и волосы рыжие. Она была очень милой, спокойной, тихой девочкой. А ее старший брат — хулиган из хулиганов. К Светлане в школе хорошо относились, потому что она себя вела нормально. А Вася изображал из себя хозяина положения. Я ходила на каток на Петровке, и когда там появлялся Вася, мы все убегали, потому что он приходил с оравой ребят, и там начиналось бог знает что. Все боялись его. Я помню, как-то Вася набедокурил, и нашего завуча по фамилии Толстой вызвали куда-то и так пропесочили за то, что он Васю с урока выставил! Директор школы стелилась, как ковер, под ноги всем этим детям. Поэтому после третьего класса родители перевели меня в другую школу, где учились обычные мальчики и девочки и не было страшного чинопочитания. Одновременно я занималась в музыкальной школе и дома с преподавателем изучала два языка — немецкий и английский. Я была октябренком, пионеркой, потом вступила в комсомол — как все тогда. Перед началом войны поступила в музыкальное училище — ЦМШ при консерватории. Год прозанималась, а потом началась война. Папу не взяли на фронт, потому что он белобилетник — у него порок сердца был. К этому времени дедушка уже умер, остались бабушка, мама, папа и я. Нам предлагали эвакуацию, но мы не поехали, решили: если умирать, так дома. Так что все бомбежки, все обстрелы и тревоги мы перенесли в Москве. А немец нас бомбил! В одиннадцать часов вечера каждый день объявляли тревогу. Первые несколько дней мы бегали в метро на «Маяковскую», а потом решили, что лучше умирать дома, и как только объявляли тревогу, мы залезали в постель и там пережидали до отбоя. В 1944 году умерла бабушка, она была очень верующая, святой человек. Папа заболел и умер в 1945 году. И мы с мамой остались вдвоем. В начале войны все мои музыкальные «колледжи» эвакуировались, так что я с музыкой распростилась. Начала работать: сначала на маленьком заводе в Каретном Ряду, в райисполкоме Коминтерновского района, а потом меня по каким-то рекомендациям устроили в Институт криминалистики. Я там проработала года два до ареста — меня арестовали в марте 48-го года. Еще подростком я слышала об арестах и репрессиях. В 1937 году арестовали папиного брата, дядю Васю. Он был главным инженером завода Мосгаз, жил с женой и сыном в Лялином переулке. Дядя Вася был такой хлебосольный, хороший мужик, немножко пошутить любил. У него был день рождения, собрались друзья, выпили, и он рассказал анекдот — у себя дома, в квартире. А анекдот, как мне потом рассказывала тетя Маруся, его жена, был такого содержания. Спорили Калинин и Рузвельт, где лучше живется. Калинин говорит: «У нас есть пословица: “везде хорошо, где нас нет”». А Рузвельт ему: «Вот именно, везде хорошо, где вас нет». Ну, выпили, закусили, посмеялись, разошлись. А утром за дядей Васей пришли и увезли его на десять лет. Его увезли под Норильск, а там еще ничего не было — ни города, ни поселков, первое время заключенные жили в снежных землянках — делали их, как медведь берлогу. Он там просидел десять лет. В 1947 году вернулся домой и через три дня умер. Арестовывали людей у папы на работе, на водопроводной станции, у мамы в поликлинике арестовывали. Второй папин брат, дядя Федя, по комсомольской линии пошел в органы работать. И он там сломался. Увидел, что делается вокруг, и, проработав там три года — уже дали ему чин, дали ему все, он работник хороший, честный, — он ушел оттуда. Пошел работать на завод простым слесарем. Так что жизнь была такая, при которой надо было рот все время держать на замке. До своего ареста я думала, что я ничего такого не говорю и не делаю. Я думала, меня никогда это не коснется, а коснулось. У меня была приятельница — Воропаева Лида. Мы познакомились в начале войны, подружились, она ко мне домой приходила, ночевала иногда у нас с мамой. Во время войны Лида работала в бригаде, которая переносила дирижабли: их поднимали в воздух во время тревоги, это было как преграда самолетам, наверное. Я в этом ничего не понимала. Я ее спрашивала, а она говорила: «А я ношу и никого ни о чем не спрашиваю». Лида считалась военнообязанной. И она, на мою беду, познакомилась с американцем. Они встречались, ходили гулять, в театр ходили. И Лида меня с ним познакомила. Мы встретились всего один раз: она нас познакомила, и мы пошли то ли в кино, то ли на концерт. Сидели рядом. Он сказал, что работает в посольстве. Ну, в посольстве так в посольстве, мне какое дело. Вот и все, на этом знакомство кончилось, я больше его не видела. Я даже забыла, как его зовут. А потом Лиду арестовали за контакт с иностранцем. Когда ее привезли на допрос, она сказала (следователь, наверное, на нее нажал): «У меня есть знакомая, которая работает в Институте криминалистики Министерства внутренних дел, я ее тоже познакомила». И что-то еще приплела, потому что потом следователь нажимал очень на то, что я этому иностранцу что-то передавала — вроде каких-то секретных вещей, которыми занимался наш институт. Криминалистика — какие там секреты? Как снимают отпечатки, как исследуют следы и запахи? Но она сказала, и следователя это устроило. Значит, зацепились. Меня арестовали в марте 1948 года. Я шла домой с работы, часов в восемь вечера. В нашем Дегтярном переулке у первого подъезда мужчина подошел ко мне и сказал: «Вы такая-то?» Я ответила: «Да, а что случилось?» — «Надо поговорить, пройдемте». Я говорю: «Только я должна предупредить маму». Он говорит: «Ничего, я ей скажу». Ну, вот я и поехала, не зашла домой. У меня и в мыслях не было, что меня могут арестовать. Меня привезли на Лубянку, посадили в какую-то темную, без окон, камеру-одиночку. Там продержали двое суток. Я не понимала, в чем дело. На следующий день после моего ареста пришли к маме с обыском. Она мне потом рассказывала, что перевернули все в доме. Забрали почему-то папины фотографии. Хотя папы уже не было в живых в это время. Зачем? Какое дело хотели ему состряпать? Так мама узнала, что меня арестовали. Через двое суток меня вызвали к следователю, и пошло-поехало: сказали, что меня подозревают в измене родине. А потом пошли допросы. Я ничего не понимала до тех пор, пока не устроили очную ставку с Лидой. Это было примерно через неделю после моего ареста. Я еще обрадовалась, когда ее увидела, по-моему, даже сказала: «Лидуша, здравствуй». Хотела встать ей навстречу и поцеловать ее в щечку. Мне сказали: «Не надо этого делать». Потом начался перекрестный допрос. Она подтвердила, не глядя так особенно на меня, что я ей передавала какие-то сведения — рассказывала о своей работе в институте. А что там рассказывать? Это же не секретный объект, не завод какой-то. Это Институт криминалистики. Там делали анализы, писали научные работы, защищали диссертации. И Лида сказала мне в глаза: «Но ты же мне рассказывала, как и для чего вы это все делаете». Тогда я поняла, что влипла в историю более чем неприятную и что все это идет от нее. В результате Лиде дали вроде пять лет за связь с иностранцами и услали в Сибирь. Вернулась оттуда она или нет, никто не знает. А я получила гораздо больший срок — двадцать лет, потому что моя статья 58–1а — «измена Родине». Я около года сидела на Лубянке. В неделю раза три-четыре вызывали на допрос. Меня не били, нет, меня допрашивали, иногда долго допрашивали, усиленно настаивали на своем. Отвечала на все вопросы, которые задавали, а что следователь писал, я, на грех мой, иногда не читая подписывала. Некоторые показания я сначала отказывалась подписывать, но потом все равно подписывала, потому что он говорил, что будет хуже. Все упиралось в измену родине. Я ему доказывала, что я была пионеркой, октябренком, комсомолкой. И в этих трех организациях у меня не было никаких недочетов и замечаний. С чего бы мне быть настроенной против? «А ваша знакомая говорит, что вы ей из института передавали какие-то сведения». Я говорю: «Не передавала». — «А она утверждает, что передавали». Если не видно, что я не верблюд, я этого доказать не могу. Иногда меня спрашивали о знакомых: говорили ли при мне что-то подозрительное? Я отвечала: «Нет, таких вещей не было». И никогда ни на кого ничего не подписала, это правда. В тюрьме был очень четкий график: нас поднимали в шесть часов утра, отбой был в одиннадцать. С шести утра до одиннадцати вечера состояние «товсь». Это значит, ты пойдешь сначала на оправку — помыться, потом поесть, потом сиди, жди своей участи, потом обедать, потом жди участи, потом ужин, а в одиннадцать отбой. И самое «веселое» время для следователей и для нас, наверно, начиналось ближе к часам отбоя, потому что спать можно было только с одиннадцати, значит, вызывали до этого времени, а отпускали часа в три ночи. Значит, ты придешь с допроса, поспишь, если заснешь, а в шесть тебя снова поднимут — режим есть режим. Меня три раза переводили из камеры в камеру — не знаю почему. В камерах было по 10–12 человек. Днем можно было только сидеть на кровати, не прислоняясь к стенке. А если ты возьмешь подушку и положишь ее между собой и стенкой, а надзиратель это заметит, можно было в карцер угодить. Так что сидеть можно было только в положении «смирно-товсь». Лежать — ни в коем случае. Следователь вел допросы очень въедливо, очень настойчиво, иногда с каким-то двойным смыслом, но ничего очень грубого не было, кроме единственного раза. Меня вызвали на допрос ночью, после отбоя. Там было два следователя, и они устроили, наверное, состязание по знанию русского матерного языка. Я такого мата не слышала никогда нигде и, наверное, не услышу. Не трехэтажный, а семиэтажный. А я такая ошарашенная, наверное. Не били, нет, ругались очень сильно. И один другому говорит: «Вот ты тут ругаешься, весь из себя вышел, а она, смотри, сидит, и ей хоть бы что, даже не обижается». Ну, я же дура, точно. Я внутренне встала в позу, не успев этого заметить, и говорю: «Ну что вы, ведь обижаться можно только на тех людей, которых уважаешь». Ну не дура? Дура. И тут же, не заходя к себе в камеру, я спустилась на лифте в подвал, где были одноместные карцеры. Мне дали двадцать пять суток карцера, как это они написали, «за безобразное поведение во время допроса». Карцер — это квадратный метр, в котором стоит бак с крышкой. Это, значит, на твои нужды бак. Раз в день его нужно выносить. Спать можно только сидя — дадут тебе на ночь картонку или дощечку, 50 на 50 сантиметров: можно сесть и ножки под себя поджать. И так поспать. Днем ее забирают, а пол цементный. Окна нет. Кормят только один раз в день — четыреста граммов хлеба. И крысы. Я очень боюсь мышей и крыс, а там из дыры каждый вечер вылезала крыса. Она вылезет, а визжать нельзя, будешь визжать — тебе еще хуже сделают. И я с ней делилась хлебом, чтобы она уходила от меня. Крыса брала кусочек, юркала в норку, и все на этом кончалось. Меня выпустили на день раньше — через двадцать четыре дня. Помню, какая радость была — не светлая, но радость, что отмучилась, потому что тяжело было сидеть и дышать в этом глубоком подвале на Лубянке. В тюрьме я заработала астму. Приступы удушья начались на нервной почве где-то через полмесяца после ареста, когда я уже поняла, что мышеловка захлопнулась. У меня был молодой человек, с которым мы собирались пожениться, Станислав. Мы встречались года полтора. Я познакомила его с мамой. У нас были очень теплые, хорошие отношения. А когда меня арестовали, он через следователя передал, что со мной все порывает, что мы больше незнакомы. Когда ты ни с того ни с сего загремела в тюрьму, и тебя там жарят-парят на сковородке, и вдруг тебе человек, которого ты любила, заявляет такое… У меня было шоковое состояние. Но теперь я понимаю, что он тоже боялся. Тоже боялся загреметь, тем более что он работал в Министерстве иностранных дел. Тогда все боялись. Когда кого-то арестовывали, все вокруг боялись, что зацепят и их тоже. Следствие длилось почти год. Они старались что-то еще найти. С Лубянки вообще никто быстро не уходил. Я сидела в трех камерах, и нигде не было, чтобы человек меньше четырех-пяти месяцев просидел. Наверное, у них такая метода была. Наконец однажды меня вызвали после отбоя, наверное, в час ночи. В кабинете был мой следователь и с ним двое других. Они сказали: «Ваше дело закончено, мы вам зачитаем решение Особого совещания[71]». Мне показалось, что весь воздух из груди вышел, когда я услышала «двадцать лет за измену родине». Я не понимала, какой родине я изменила, в чем была моя измена, почему двадцать лет. Я им сказала: «Я надеялась, что вы разберетесь». Мне ответили: «У вас так много всего — мы разобрались, и Особое совещание решило, что вам срок — двадцать лет исправительно-трудовых лагерей». Я подписала, что ознакомлена с приговором. Я была как человек-автомат, ничего не соображала, меня как будто по голове стукнули, и я все делала механически. Потом меня отвели в камеру. Там все спали, я не стала никого будить и пролежала до утра. Утром сказала, что у меня все в порядке и что скоро меня, наверное, увезут. Через несколько дней меня на поезде повезли в Мордовию. Вот тогда я поняла, что такое столыпинский вагон: там двери в купе закрываются и решетка вместо стекла. Нас было четыре человека в этом купе. С нами в вагоне ехало очень много людей, которые говорили не по-русски. Оказалось, это были литовцы. Нас высадили на станции Потьма, в Мордовии. Мы со своими котомками вышли из вагона, нас привели в какой-то барак, где был сплошной настил из нар, и мы, человек тридцать, лежали вповалку на этих нарах. Уголовницы украли у меня пальто и теплые сапожки. Это место называлось «пересылка» — оттуда заключенных развозили по лагерям. Вокруг было то ли двенадцать, то ли пятнадцать лагпунктов. Мордовия — республика лагерей. Там до сих пор они есть. Из Потьмы нас повезли на большой машине в Явас. Почти восемь лет это мой постоянный адрес был: почтовый ящик «Явас дробь 1385». Мне немного легче стало, потому что я поняла: это пункт назначения, и здесь мне придется пребывать. Я же не знала, сколько я просижу. Я думала, что я там и кончусь. У меня не было никаких далеко идущих планов, жила одним днем. Там были такие же люди, как я, — лучше, хуже, всякие-разные. В Мордовии были только политические лагеря, там не было бытовых преступников. В нашем лагпункте находилось около трех тысяч женщин — это был женский лагерь особого режима. И когда правил нами «отец родной», у нас был очень тяжелый режим: мы работали по четырнадцать часов в сутки. Дали казенную одежду: платье, какие-то бахилы, косынку и телогрейку. На спине на телогрейке был номер «Г-747», на платье на правой коленке вытравлено хлоркой «Г-747», и на косынке черной краской — «Г-747». Так что я была все восемь лет не Зоя Ивановна и не Зоя, а Г-747. Лагерные конвоиры никого не называли по именам, только по номерам. Сложно к этому привыкнуть, но человек, когда не имеет другого выхода, со всем мирится. Куда денешься? Никуда не денешься. Так отвечай на Г-747. В бараке было двести человек. Двухъярусные нары, удобства на улице. Еда была такая, которую можно есть, только если очень голоден. Как у нас шутили: «В супе крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой» — перловая или пшенная крупа, иногда попадались кусочки картошки, а в основном это была вода. Когда захочешь есть, то будешь есть и это. В лагере подъем в семь часов. До выхода на работу нас всех строили по бригадам и по баракам около проходной, делали проверку. По фамилиям не выкликали — по номерам. Когда поголовье посчитали, разводили на работу: кого — в пошивочный цех (там шили военные телогрейки цвета хаки), кого — на лесоповал, кого — на земляные работы. Сначала меня определили на лесоповал, но я, наверное, не справилась, и меня отправили в пошивочный цех. Я шить дома никогда не умела, но здесь строчила что-то, кажется, хлястики для телогреек. Одна операция, знаете. А потом меня перевели в бригаду раскройщиков: на столах раскладывали большое полотно, по лекалам «намелку» делали и выкраивали, потом отдавали в пошив. Так вот я на этой «намелке» была. Это все-таки лучше, чем в швейном цеху, где все время жужжат моторы. Вечером, перед тем как нам по баракам расходиться, был ужин и разрешали зайти в санчасть. У меня почти каждый день приступы астмы случались. Задыхалась, нечем дышать было. В медсанчасти давали таблетку, но на руках никаких лекарств не было. Раз в десять дней нас водили в баню. Иногда, это большое исключение, разрешали зайти в библиотеку, взять какую-нибудь книжку почитать. По режиму я могла получать только два письма в год и писать два письма в год. Написанное письмо нужно было отнести цензору-оперу, он проверял наши письма и потом отправлял. Я переписывалась только с мамой. Она мне писала всякие слова успокоения: как она себя хорошо чувствует, и чтобы я не беспокоилась за нее, а «только береги себя» — все в ее характере. Я писала, что у меня тоже все более или менее хорошо, в пределах нормы. Мы друг друга обманывали, очевидно, потому, что, если бы она или я написали, как на самом деле плохо, мы в двадцать раз хуже бы себя чувствовали. Один раз в год можно было посылку продуктовую получить. Когда она приходила, тебя вызывали в каптерку и там все вскрывали. Банки с консервами вскрывали, остальные продукты резали на тонкие кусочки — искали, не передали ли тебе что-то запрещенное с воли. Однажды у меня на глазах одна заключенная повесилась — молодая хорошая Зина Кулешова. Это было как гром среди ясного неба. Я все-таки очень домашняя, я тосковала по маме, знала, что ей очень тяжело, где-то считала себя виноватой в том, что она мучается, болеет, нуждается потому, что меня нет. Я чувствовала свою вину и очень переживала. Зинка тоже очень переживала. Она была с Украины, у нее мама очень больна, сестренка младшая, они там очень нуждались, плохо жили. У нее срок был 10 лет, и она не находила выхода, не получала ни писем, ни посылок, она писала, и ничего, ни ответа ни привета. Это просто нервный срыв был, я думаю. Очень страшно. Она сделала это, лежа на своих нарах на втором этаже: где-то зацепила петлю и затянула вокруг шеи. А потом соседка ее увидела и подняла бучу. Вызвали медсестру, та тут же прибежала и констатировала только, что Зина уже мертва. Мы сначала очень горевали, она хороший человек была, а потом кто-то сказал: «Вы не думаете, что она отмучилась?» Правда, отмучилась. Дома ничего хорошего, кроме младшей сестры, нужда, здесь ничего не светит, она бы мучилась все эти восемь оставшихся лет. Да, философия иногда бывает странной. Сила жить — это в какой-то степени инерция. Я для себя поняла, что если будет Его воля, то все будет, а если не будет, то не будет. Я и сейчас так думаю — что я живу только благодаря тому, что Господь мне помогает. В марте 1953 года умер Сталин. Нас специально собрали, прочитали сообщение в торжественной траурной обстановке. Я плакала. Вместе со всеми, дура, плакала. Это в нас воспитано было с пеленок — что он самый лучший, самый справедливый, самый добрый, делает все для нас, заботится о нас. Мы же доверчивые были, как дети. До смерти Сталина в лагере режим был очень строгий. А когда «отец всех несчастных», наш «отец родной» ушел в мир иной, с нас сняли номера, дали нам возможность надеть цивильное, если у кого было, так что немножечко жизнь полегче стала. Нам разрешили заниматься художественной самодеятельностью, и я стала руководить кружком. Такие номера делали — девчонки пели, танцевали. Каждый человек по-своему способен и талантлив. У нас была бригада, мы даже ездили в два-три соседних лагпункта с концертами — турне было. Вскоре после этого одна из литовских заключенных освободилась и через мою маму передала мне какую-то микстуру на травах от астмы. Она там в Литве ее сделала, привезла маме, а мама отправила посылку в лагерь. Эта микстура стояла в санчасти, и я, когда мне было плохо, приходила и пила. В 1954 году ко мне приехала мама. От Потьмы до нашего лагеря восемнадцать километров, и никакого сообщения — ни машин, ни грузовиков, ничего абсолютно. Мама пешком шла восемнадцать километров ко мне, три часа нам дали на свидание, а потом восемнадцать километров она шла обратно. Но свидание было. Я на нее наглядеться не могла. А мама радовалась, конечно, но потом, когда мы уже дома были, она говорила: «Ты знаешь, чего мне стоило не плакать». Если бы она заплакала, мне бы было еще хуже. Она была такая веселая эти три часа, мы и покушали, и посмеялись, и поговорили. «Как ты? Как ты себя чувствуешь? А как дышишь? А как глазки?» Естественные вопросы у мамы к дочери. И я ее спрашивала, как она себя чувствует, что нового. Хотелось плакать. А мы друг перед другом изображали, что у нас все хорошо, что относительно все нормально. Мы такие маленькие актрисы. Грустно. Очень грустно. Она мне ничего не говорила про Стаса, абсолютно ничего, боялась, что мне будет больно. Ну, к тому времени мне уже больно бы не было. Она могла рассказать, что он приходил к ней, когда я сидела на Лубянке. Он тогда пришел и сказал: «Извините, я здесь свою записную книжку оставил, я могу ее забрать?» А мама тогда не знала, что он приходил на Лубянку и через следователя разорвал со мной отношения. Она его еще хотела напоить чаем. Он сказал: «Нет, нет, спасибо». И ушел. Но мама не говорила ничего. После свидания с мамой я как заново родилась. Для дочери, у которой нет своей семьи, мама — это единственная вершина, которая есть. Я ей все рассказала, дала какие-то объяснения тому или другому поступку и сказала, куда надо обращаться, что надо говорить, что писать. После этого мама куда-то написала, и я тоже написала Генеральному прокурору, что я не виновата, что измены родине ни в мыслях, ни на бумаге не было. Попросила, если можно, пускай возьмут характеристику с моего места работы. В результате всего этого в конце 1955 года меня освободили. Сталин умер в 1953 году, а меня освободили в 1955-м, в декабре, 17-го числа. Почти через восемь лет после ареста. Меня вызвали в оперативный отдел и сказали: «На тебя пришло освобождение — тебе снизили срок до фактически отбытого». Я говорю: «Что это значит?» — «Теперь твой срок семь лет и девять месяцев: ты его отсидела, собирай свои манатки, завтра будет лошадь, мы тебя отвезем на станцию Потьма к поезду, поедешь домой». Такой телячий восторг! Знаете, как телята маленькие бегают, бедные, ногами задними взбрыкивают, вот и мне такое хотелось делать! Это был какой-то новый прилив сил, несмотря на то что я была слабой и задыхалась. Правда, это было удивительно! Это было очень радостно! Меня на лошади довезли до станции, посадили в поезд, дали билет. Перед отъездом я попросила разрешения послать маме телеграмму. Мама встретила меня в Москве на вокзале. И мама моя прошла мимо меня. Она меня не узнала, несмотря на то что видела меня за полтора года до этого. Прошла мимо, а потом оглянулась — все-таки свое взяло верх. Мы взяли такси и поехали домой. Только тут я узнала, что, пока меня не было, мама нашу большую комнату в Дегтярном переулке обменяла с доплатой на двенадцатиметровую комнату на Малой Дмитровке. Да мне хоть три метра! Важно, что я дома, с ней вместе. К маминой кровати мы приставили четыре стула, и я легла рядом с ней. Первую ночь мы не спали — разговаривали. И все рассказывали, каждый пустяк двадцать раз обсудили, и возмущались, и плакали, и смеялись. Первое время, пока я не получила реабилитацию, в Москве мне жить нельзя было, но я все равно ночевала у мамы. А у нас в квартире жила одна старушка — очень вредная. Она знала, что я была в лагере, и иногда делала вид, что звонит Берии: в коридоре был общий телефон, она брала трубку и говорила: «Товарищ Берия! У нас тут объявилась одна арестантка…» Мне пришлось ехать под Москву, где-то временно прописываться, я несколько недель пробыла там, а потом все успокоилось: соседка перестала «звонить» Берии. Я подавала заявления, ходила в Военную прокуратуру на бывшей улице Кирова (теперь она снова называется Мясницкой). Следователь, который прочитал толстый том моего дела, спросил: «Как вы могли это все подписать?» Единственное, что я ответила: «Если бы вы были на моем месте, может быть, тоже подписали бы». Тогда следователь сказал мне, что я подписала на себя очень много, я ответила, что делала это только, чтоб от меня отстали, многое подписала, даже не читая. Очевидно, он поверил, потому что действительно в деле были факты, противоречащие один другому. Через некоторое время меня вызвали и сказали: «С вас сняты все обвинения». Я сначала не поняла, что значит «сняты обвинения» — думала, опять «до фактически отбытого срока», а мне говорят: «С вас снята судимость. Вы теперь реабилитированы». Я ходила, как дура, по улице, всем улыбалась, всем улыбалась! У меня были именины сердца. Конечно, глупо, если посмотреть: идет женщина тридцати двух лет и улыбается во весь рот. Но мне было хорошо на душе очень! Очень хорошо! Я ходила по улицам и специально проходила мимо милиции, мимо военных. Это невероятное торжество правды над неправдой. Я была счастливая-пресчастливая! Счастье — оно бывает разное. А это счастье, когда ты вылезешь из гроба, это счастье не приведи бог никому! После возвращения я пошла работать в детскую поликлинику им. Семашко, в регистратуру. Как-то раз, когда я была на работе, к нам домой зашел Станислав, мой бывший жених, сказал маме: «Я хочу с Зоей повидаться». Мама посмотрела на него, как на свалившийся с неба кусок планеты, и спросила: «Простите, а вы кто?» Он говорит: «Зинаида Федоровна, вы же меня знаете, я ведь приходил к вам». Она ответила: «Простите, мы с вами незнакомы. Закройте дверь». Это у меня мама такая была! Я столько маме принесла горя и несчастья. Когда меня арестовали, на ее работе начались косые взгляды, разговоры не с ней, а о ней. Она ушла сама, работала уже не по специальности — просто где придется. Работала за такую мизерную плату, которой на человека не хватит, а еще мне в тюрьму нужно было носить передачи. Мама жила на деньги, оставшиеся от обмена квартиры, но она их использовала на посылки мне, на поездку ко мне на свидание. А главное, она осталась совсем одна. У мамы была приятельница, тетя Катя, они с мамой вместе росли. Мама к ней пришла, а она сказала: «Не приходи ко мне, у тебя дочь арестовали». Знаете, как маму это расстроило! Это все людские характеры и трусость людская. Тетя Катя приходила к нам потом, после моего освобождения. Я думала, что мама откажется с ней говорить, но нет, она выдержала, приняла ее хорошо. Она молодец у меня была. С мамой мне повезло! Вот ее нет уже с 1978 года, а я так ее люблю! После реабилитации я получила компенсацию: сто восемьдесят рублей за каждый месяц заключения. В 1956 году это была довольно большая сумма (мама получала зарплату сорок пять рублей), но она у нас быстро ушла: мы с мамой что-то купили ей и мне, я сейчас уже не помню, что именно. Удивительный случай: вскоре после того, как я получила реабилитацию, в нашу общую квартиру въезжала новая соседка — я смотрю и вижу: входит Гутеберовна Марголис — я с ней сидела на Лубянке. Она была такая истая иудейка и за это где-то три года отсидела. Мы с ней были в одной камере на Лубянке, потом она в одну сторону поехала, я — в другую, разные сроки провели в лагерях, а потом оказались в одной квартире, опять стали соседками. Гутеберовна иногда на всю квартиру говорила: «А вы знаете, когда Зойке присылала Зинаида Федоровна посылки, мы все ели, всей камерой». Однажды я встретила одного из следователей, занимавшихся моим делом в 1948 году. Когда мне устроили допрос с изяществом русского языка, он там был — не принимал участия в этом концерте, но был свидетелем. Он меня узнал на улице, а не я его. Он сказал: «Как вы? Что вы? Вы, слава богу, вышли». Я ответила: «Да, все нормально, уже реабилитацию получила». И он сказал, что он очень рад, и так далее. А я не стала спрашивать, как он. Случилось так, что к нам в поликлинику зашел Сережа Юдин, актер театра имени Моссовета, мы с ним были знакомы еще до моего ареста. Он предложил мне работу в театре. Их театром руководил Юрий Александрович Завадский — лауреат Ленинской премии, знаменитый режиссер. Я стала у него работать: сначала заведующей канцелярией, а потом референтом. Очень смешной отголосок: оказалось, в юности мой папа и Завадский вместе учились в школе-студии Вахтангова, но Завадский вырос в режиссера, а папа ушел и стал инженером. Когда Юдин нас познакомил, Завадский вспомнил моего отца. Мы очень хорошо с ним работали. А потом я перешла в Госкино, где проработала двадцать с лишним лет. Фильмы смотрела, актеров многих знала, сценарии читала — интересно было. Потом меня встретил Юлиан Семенов и взял на работу в свою газету «Совершенно секретно». Там я работала даже после его смерти некоторое время, а затем ушла в телепрограмму «Взгляд» и там поработала немного, а потом решила, что уже хватит мне, сколько можно работать? Пора отдыхать. Я пенсию даже не оформляла, когда мне исполнилось пятьдесят пять, считала, что, если я работаю, зачем я буду оформлять пенсию. Знаете, какая-то дурацкая чистоплотность. Ушла на пенсию в шестьдесят девять. Вот это мой трудовой стаж. Теперь уже давно не работаю, где-то лет двадцать. Живу на пенсии. Что бы про Хрущёва ни говорили, я ему по гроб жизни обязана, потому что он освободил миллионы людей, ни в чем не повинных. Он, может быть, этого и не хотел, но благодаря тому, что он развенчал культ личности Сталина, миллионы невинных людей вышли. Поверьте мне, это дорогого стоит! Это важнее, чем отдельные его промахи. Возможно, ни по уровню культуры, ни по своим знаниям он не дотягивал до уровня руководителя страны, но все равно я ему по гроб жизни обязана. И такие, как я. Правда, так любой человек скажет, который хлебнул этих щей.
Особые лагеря Зоя Выскребенцева стала одной из многих жертв послевоенных репрессий, отправленных в лагеря для особо опасных государственных преступников. С целью засекречивания существования ГУЛАГа и принудительного труда в СССР советское руководство с начала 1948 года приступило к интенсивной реорганизации всей репрессивной системы. Началась работа по созданию особых лагерей для содержания заключенных, осужденных по политическим мотивам. В феврале 1948 года Совет Министров СССР принял секретное постановление, которое предписывало установить в особых лагерях и тюрьмах строгий режим содержания заключенных, запретить все льготы, трудоспособных использовать только на тяжелых физических работах. С мая 1948 года особым лагерям в целях конспирации стали присваивать красивые, иногда даже поэтические названия: лагерь № 1 — Минеральный, № 2 — Горный, № 3 — Дубравный, № 4 — Степной, № 5 — Береговой, № 6 — Речной, № 7 — Озерный, № 8 — Песчаный, № 9 — Луговой, № 10 — Камышовый, № 11 — Дальний, № 12 — Водораздельный. Среди особых лагерей самыми крупными были Речной лагерь (Воркута) — 34 980 заключенных, Озерный (Иркутская область) — 34 913 и Песчаный (Караганда) — 31 732 заключенных. Зоя Выскребенцева была отправлена в Мордовию, в Дубравный лагерь, где находилась одна из крупнейших женских зон для политических заключенных. По воспоминаниям бывших узников особых лагерей, самым страшным в спецлаге было «ощущение тупика», которое порождалось, в частности, многочисленными случаями «пересиживания». Правительственное постановление содержало пункт, который почти узаконивал это явление. В нем говорилось:
«Направление осужденных для содержания в особых лагерях и тюрьмах производить по назначению органов МГБ; освобождение из особых лагерей осужденных по отбытию ими срока наказания органам МВД производить по согласованию с МГБ СССР».
СЕМЕН ВИЛЕНСКИЙ

Семен Виленский, 1948 год
Интервью записано 2 апреля 2016 года. Режиссер Таисия Круговых. Оператор Василий Богатов.
Семен Самуилович Виленский родился 13 июня 1928 года в Москве. В 1945-м поступил на филологический факультет МГУ. В 1948-м был арестован по обвинению в антисоветской агитации. Почти год находился под следствием, 100 дней — в особо секретной Сухановской тюрьме. В 1949-м был осужден Особым совещанием на 10 лет лагерей. Срок отбывал на Колыме (Берлаг[72]). После освобождения в 1955-м и реабилитации в 1956-м занимался литературным трудом. В 1963-м вместе с бывшими узниками колымских лагерей Зорой Гандлевской, Бертой Бабиной и Иваном Алексахиным создал колымское товарищество, впоследствии зарегистрированное как Московское историко-литературное общество «Возвращение». Составитель сборника «Доднесь тяготеет», хрестоматии для старшеклассников «Есть всюду свет / Человек в тоталитарном обществе», антологии «Поэзия узников ГУЛАГа». Был главным редактором издательства «Возвращение» и журнала узников тоталитарных систем «Воля». Автор сборников стихов «Каретный Ряд», «Широкий день».
«Интеллигенты, быть тверже стали! Кругом агенты, а первый — Сталин»
Мой отец Самуил Соломонович был специалистом по организации лесных производств. После революции работал на восстановлении Транссибирской железной дороги Москва — Владивосток. Какое-то время он даже сидел на Лубянке, но его выпустили в 20-х годах. Моя мама рано умерла. Во время войны у меня была мачеха — не мачеха (отец на ней не женился). Ее звали Полина Михайловна Чаусовская, она была знакомой отца, которая увезла меня весной 1941 года (я тогдаучился в пятом классе) в Оренбургскую область. Когда началась война, Полина Михайловна была аттестованным военным врачом в звании майора. Она получила задание организовать госпиталь в Сорочинске (не путать с гоголевской Сорочинской ярмаркой). В Оренбургской области есть такой торговый купеческий городок Сорочинск. Под госпиталь были отданы все двухэтажные дома и бывший огромный постоялый двор, где разместили две тысячи коек, а может, даже и больше. Поскольку она любила моего отца и боялась, что я сбегу от нее, то выполняла все мои капризы. И я ездил с ней, обычно рано утром, на станцию. Мы встречали прибывающие санитарные поезда. Толпились местные жители из окрестных сел в надежде найти своих. Милиция отгоняла всех от платформы, к которой подходили поезда. Я сначала приезжал вместе с мачехой. А потом уже самостоятельно. У меня была лошадь Машка, запряженная в телегу. В телеге лежал толстый слой сена, чтобы уложить раненого. И мы, подростки, лет по четырнадцать нам было, тащили вместе раненых из поезда, укладывали их на телегу, на сено. Дорога от станции до госпиталя километра два с половиной была совершенно разбита. Я не сидел на телеге, а вел лошадь под уздцы, чтобы ход был мягче. Но все равно часто слышал крики: «Сынок, полегче!» Госпиталь был в ведении Южного Уральского военного округа. В нашем городке и близлежащих Бузулуке, Троицке все было забито эвакуированными и просто бежавшими от немецкой армии. Жили в большой тесноте. А у мачехи моей всегда останавливались какие-то эвакуированные медики, часто бывали офицеры. Все располагались в нашем доме, где было четыре комнаты и часто устраивались застолья. Среди гостей был один пожилой подполковник (бывший офицер царской армии), который тогда почему-то обратил на меня свое внимание. Я доверился ему, читал свои стихи (это был первый взрослый, которому я читал). А он мне рассказывал о нашей стране, почему мы отступаем, о 37-м годе. Он тогда был наполнен этим гулаговским содержанием. Это были мои первые серьезные разговоры. Какие-то отголоски, конечно же, я уже слышал дома. Как-то отец рассказывал об инженерах, которых арестовывают и так далее, а я вдруг сказал радостно: «А я буду дворником! Дворников не арестовывают!» Действительно, дворники всегда были понятыми. Я родился в доме 2/12 на Садовой-Самотечной улице. Это такой большой дом с рыцарем на фасаде. Напротив сейчас театр Образцова, а раньше на этом месте была гимназия, в которой преподавала сестра Чехова. Потом эта гимназия стала советской школой, где я и учился. Еще от нас недалеко, если пройти по Лихову переулку, сад «Эрмитаж». В этот сад няни (а у меня была няня) водили своих подопечных гулять. Там я познакомился с мальчиком, которого звали Левой. Это был Лев Малкин, талантливый вундеркинд-математик, который на мехмат был принят, когда ему еще не исполнилось полных 15 лет. Я был школьником, он студентом. Мы продолжали с ним дружить. Он был очень большой фантазер, но некоторые говорили — врун. Очень много знал, наизусть почти всю Большую советскую энциклопедию. В университете, в старом здании на Моховой, на втором этаже, когда поднимаешься по парадной лестнице, была большая аудитория. А если подняться на несколько уступов повыше еще, то там было огромное венецианское окно с широким подоконником. Мне рассказывали о том (я сам не видел), что это было любимое место Левы: вокруг него всегда толпились студенты и преподаватели. Он был интересным рассказчиком. Среди прочих идей он выдвигал и какие-то совершенно фантастические по решению продовольственных проблем: скрестить свинью и сороконожку — и будет сорок окороков, и тому подобное. Короче говоря, за сорок окороков он и загремел на Лубянку. И не только он, но и его товарищи, с которыми он дружил. Сын академика Вильямса Коля Вильямс (в дальнейшем муж нашей правозащитницы Людмилы Алексеевой), сын крупного кагэбэшника — Медведский был такой — Юрий Цизин. Из людей известных, которые примыкали к ним, можно назвать еще Юру Гастева, сына замечательного поэта Алексея Гастева, у которого было стихотворение из одной или двух строчек: «Я в зеркало гляжу, как в уголовный кодекс». По-моему, хорошие стихи. И еще в этой компании часто бывал сын Игоря Грабаря, Слава. Но Славу не арестовывали: тогда его отец был весьма влиятельным. Сталин велел этого не делать, не беспокоить нужных людей. Их организация называлась «Союз нищих сибаритов». Но само название «Нищие сибариты» уже говорит о том, что они меньше всего думали о политике. Просто хулиганили. «Террористическую окраску» в глазах НКВД организация приобрела после того, как Вильямс и Медведский — студенты химико-технологического института — увлеклись взрывчатыми веществами. Все члены группы получили обвинение по 58-й статье. Моему товарищу дали самый малый срок — пять лет, как не достигшему совершеннолетия в момент совершения преступления. Недавно мы выпустили книгу, которую собрал Израиль Мазус, а редактором этой книги был начальник центрального архива КГБ, — «О молодежных подпольных организациях в СССР». Там есть и «Союз нищих сибаритов». Большинство этих дел — придуманные организации. Но я могу подтвердить также, что не все это выдумка следователей. Я где-то в тринадцать лет или даже раньше начал писал стихи. И это было для меня естественно — поступить либо в Литинститут, если примут, либо на филологический факультет МГУ. И вот в сорок пятом году я стал абитуриентом филфака МГУ, держал экзамены, писал сочинение. Конкурс был двадцать пять человек на одно место. Тогда только вернулись фронтовики, все хотели быть писателями. Не все, конечно, но многие. Нас, школьников, была горстка, человек семь-десять, не считая девочек, ребят я имею в виду. А тогда никакого блата при поступлении, насколько мне известно, не было. В этом отношении было честно. На Моховой на ограде вывесили списки, кто какую оценку получил за сочинение. И у меня было за содержание пять, а грамотность — два. А может быть, и единица. И я, понурясь, пошел прочь. Туда, в сторону Тверской. И вдруг слышу шум: за спиной у меня еще одну такую простыню повесили с какими-то списками. Все-таки любопытство взяло верх. Я вернулся. И оказалось, что те, кто получил за содержание пять — а многие фронтовики писали неграмотно, — имеют право поступить в экстернат МГУ. И я был в этом списке. И тут на радостях ребята, с которыми я там познакомился, решили поехать за город погулять. Я назвал им место — Перхушково. Это не доезжая Голицыно. Я любил эти места, иногда там бывал. Дивная березовая роща в ту пору еще не вырублена. И мы шли по этой роще, то есть я не шел, а летел. Был совершенно замечательный весенний день. И вдруг — что со мной случилось, я не знаю — я запел на мотив польского гимна (а у меня ни слуха, ни голоса никогда не было) тут же на ходу, значит, вырвавшееся из меня четверостишие:Интеллигенты,
быть тверже стали!
Кругом агенты,
а первый — Сталин.
«...принесли большую желтую папку, и явно он мне задал несколько вопросов, и я понял, что в этой папке собрано донесение на меня их осведомителей, и я бы дорого дал, чтобы узнать, если бы мне дали возможность узнать, кто и что пишет».И в это время: «Руки вверх! Оружие есть?» Вот так они ворвались в нашу квартиру. Ну, их не менее трех-четырех человек было и дворник. А арестовывал меня майор Гордеев. Когда мне стали собирать вещи — а лето было, теплынь, — майор предупредил сразу, что самое главное — нужно взять с собой теплые вещи, зимние. Сестра была растеряна до такой степени, что положила с моими вещами, я потом обнаружил, распашонки своего маленького сына. Нет, вернуть я ей ничего не мог, вернули другое. Когда следователь разбирал арестованные материалы, его интересовали бумаги, документы и книги. У меня было очень много стихов. Следователь предупредил меня, что теперь существует какое-то внутреннее гуманное законодательство: мне из моего архива можно выбрать несколько фотографий и какие-то стихи, но немного. И можно отправить родным домой. А все остальное уничтожается — составляется акт на ликвидацию как не представляющее интерес для следствия. Когда я вернулся после почти восьми лет отсутствия, увидел, что все, что я отобрал, находится в целости и сохранности дома. Те фотографии и те несколько стихов. Вот это о возвращении. А никакие распашонки вернуть нельзя было по актам. Обычно в тюрьме на Лубянке нас на прогулку выпускали раз в сутки. На свежий воздух. Минут пятнадцать-двадцать. Маленький дворик такой был, прогулочный. А тут мы выходим, стоит машина с надписью «Мясо. Доставка». Велели подниматься в эту машину. Она была внутри разделена справа и слева на такие фанерные ящики. То есть того, кто едет рядом с тобой, ты не видишь. Колени поджимаешь под себя, потому что тесно. Везли нас быстро. В какой-то момент стало тихо, машина остановилась. Слышно было только клацанье затворов оружейных. И я решил, что здесь и будут расстреливать. Но оказывается, машина встала у вахты бывшего монастыря Свято-Екатерининской пустыни. Это в Расторгуево, в пригороде Москвы. Ехать туда недолго. Машину подали прямо к крыльцу двухэтажного здания, выводили нас по очереди. В машине было много таких как я. Принимал нас начальник тюрьмы, это был полковник Дулинов. Вообще была такая традиция, если можно так сказать: монастыри в России, мечети в Средней Азии, Казахстане — большинство невзорванных, не разобранных на кирпичи, сохранившихся вовсе не под культовые цели, использовали как пересыльные и следственные тюрьмы. Собственно, такой тюрьмой была и Сухановка. Ее начали создавать еще при Ягоде. Достраивали при Ежове. Монашеские кельи были переоборудованы в тюремные камеры. Все сидели в одиночках, общих камер, насколько мне известно, не было. Я знал фамилии своих соседей, сокамерников, бывших со мной вместе на Лубянке. Но кто находился рядом в Сухановке, не знал никого, потому что ни с кем там не встречался. Даже когда надзиратель вел тебя по коридору, он звенел ключами или цокал пряжкой ремня — это сигнал тем, кто вел заключенного вам навстречу. Его прятали (у них там все продумано) в такую нишу в стене, и ты его не видел. Но что я знал точно — так это то, что сосед мой здесь, по камере, был музыкантом, барабанщиком и что его обвиняли в терроре. Иногда он кричал очень громко: «Террорист! С чем? С барабаном!» В камере, где я сидел, была койка, пришпандоренная к стене. Тоненький матрас, какое-то жидкое одеяло, которое не грело. Вечером эту койку «отрывали» от стены, как полку, а утром тебя сбрасывали с нее и крепили снова к стене, закрывая на ключ. Спать после подъема не полагалось. Сидеть можно было только на впаянной в цементный или железный пол тумбе типа табурета. И надо было постоянно смотреть в сторону глазка, потому что если начинаешь засыпать, дверь открывалась и тебя выводили к карцеру. К карцеру, которого я так и не избежал. С меня сняли пиджак и привели туда. Карцеры были в подземелье, шесть или семь, не скажу сейчас точно, высоких ржавых дверей. За каждой дверью — узкий бетонный колодец, по стенам которого постоянно сочилась, нет, стекала вода. Это все специально было сделано. Как только я уставал и хотел прислониться к стене, надзиратель начинал стучать по двери ключом. Раздавался страшный всепроникающий звон, я думал, что у меня треснет голова. Так все гремело, как будто я в колоколе. Такая там акустика. Через какое-то время, когда я уже был без сознания, меня выволакивали оттуда, ставили какой-то ящик, и я сидел на ящике несколько часов. Потом снова в карцер. Иногда я приходил в себя уже на сыром полу, скорчившись, потому что вытянуть ноги там было невозможно. И вот в этом помещении, куда меня завели, чтобы снять пиджак, и где были двери карцеров, посередине стояла большая бочка. И я подумал, что это такая общая параша. Что сюда людей выводят, и в эту бочку они, так сказать, мочатся. Но эта бочка была достаточно высокой. И когда я уже сидел в камере, я понял, что это была за бочка. Кого-то окунали в холодную воду, а кого-то шпарили кипятком. Я вспомнил, как я встрепенулся от криков ужаса и от грубого мужского окрика: «Ошпарь ему яйца!» В тюрьме по утрам был врачебный обход. У нас было три врача. У одного, пожилого, был орден Ленина на лацкане, другой — жуткий, с глазами морфиниста. У меня на шее пошли фурункулы, каждый день появлялся новый. Мне назначили ихтиоловую мазь, вся камера провоняла ихтиолкой. Так вот этот, когда намазывал мазью, так сильно надавливал, что делал мне страшно больно. Третьим врачом была женщина — нормальная, живая, казалось, прямо с воли. Она отнеслась ко мне с большим участием, именно благодаря ей я сохранился, выжил. Самое неприятное для следствия, для всех этих следственных отделов — незавершенное дело. Сначала нужно завершить дело, а потом подследственный может помирать. Замучили во время следствия пытками, бессонными ночами, человек не выдержал, умер и не дал признательных показаний — это брак в работе. Так что врачи нужны были. Следователи хотели, чтобы я признался в том, что я хотел убить Сталина. А логика у них была такая: если ты написал стихотворение (а я его нигде не записывал, у них его не было нигде, кроме как в доносе), в котором называешь товарища Сталина первым агентом, значит, ты хотел его убить. Вот такая логика простая. И для того, чтобы все это оформить, подписать, я же не мог это сделать один, нужно было создать какую-то организацию. А я никаких своих приятелей не хотел называть. Я в их глазах совершил преступление из преступлений — назвал вождя народов первым агентом. Следователь, записывая мои ответы в протокол допроса, писал так:
«Интеллигенты, быть тверже стали! Кругом агенты, а первый [и он боялся писать имя Сталина] — далее следует имя любимого вождя советского народа...»Когда меня перевели в Бутырскую тюрьму, какой-то лысый человек средних лет зачитал мне приговор: десять лет за антисоветскую агитацию, десять лет исправительных лагерей. И вручил мне клочок бумаги. Приговор был напечатан на листке папиросной бумаги, если бы я курил махорку и делал самокрутку, то бумаги не хватило бы и на одну. Вот и весь приговор. Но я был осужден не по 58-й статье, а по литере «АСА» — антисоветская агитация. В 1937 или 1936 году ввели литеры: ППШ — по подозрению в шпионской деятельности, КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность. В ту пору, когда меня арестовали, литеры были анахронизмом. Владельцы этих литер уже давно вымерли в лагерях. Поэтому в нашем лагере на Колыме, в «Днепровском», как и всюду, когда выводили из зоны на работу, мы должны сообщать свой номер. Я один говорил: «АСА, десять лет». Конвоиры и обыскивающие смеялись: «Оса, пчела!» Им это казалось весело. В лагере у нас был Ян Карлович — эстонец, школьный учитель. Обморозил нос, и у него отвалилась часть носа, как у сифилитика. А вообще это был честнейший и чистоплотный человек. Его поставили дневальным — убирать в бараке, топить печь, носить воду. Кровлю барака поддерживали столбы. На столбе висел репродуктор, тарелка. Он довольно высоко висел. И Ян Карлович поставил возле этого столба тумбочку, покрытую чистейшей тряпицей какой-то. Он уют создавал. И взобрался в валенках на эту чистую тряпицу. Приложил ухо к репродуктору. Но не поступило начальству никакой команды, должны знать заключенные в лагере о смерти вождя или не должны. И они приняли соломоново решение: сделали так тихо, что в любом случае оправдались бы. И вот стоит Ян Карлович у репродуктора с прижатым к нему ухом — там что-то шипит тихо. А в это время наша бригада после ночной смены заходит в барак. А он жестом показывает — тихо, чтоб мы молчали! А потом радостно на весь барак кричит: «Издох!» или «Подох!», я уже не помню. Большинство из нас думали, что начнется война. И она решит и нашу судьбу, что они будут стараться расстрелять нас. Значит, надо что-то делать, чтобы это без нашего сопротивления не произошло. Думали о сопротивлении, договаривались и прочее. Но это уже другая глава о жизни в лагере.

Семен Виленский В годы сталинской власти любое неосторожно сказанное слово, прочитанное стихотворение или рассказанный анекдот могли решить судьбу человека. Доносительство на соседей, сокурсников, коллег и друзей было обычным делом. Во всех государственных учреждениях были завербованные НКВД-МГБ-КГБ агенты, которые подслушивали, запоминали, а потом сообщали в органы госбезопасности. Именно такая история и произошла с Семеном Виленским: исполненное экспромтом четверостишие про Сталина стоило ему 10 лет лагерей. Статья 58–10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) — наиболее распространенное в годы сталинских репрессий обвинение. Наказание предусматривало лишение свободы от трех до 10 лет лагерей. Осужденные по этой статье составляли почти половину всех осужденных за контрреволюционные преступления. С 1948 года все осужденные по статье 58 направлялись в особые лагеря, специально созданные для особо опасных государственных преступников. Береговой лагерь (Особый лагерь № 5), где отбывал наказание С. С. Виленский, находился на Колыме и подчинялся Управлению исправительно-трудовых лагерей Дальстроя МВД. Заключенные лагеря добывали золото, уголь, олово, кобальт, вольфрам, работали на горно-обогатительных комбинатах. Семен Виленский работал на оловянном руднике «Днепровский», который заключенные называли лагерем. С 1949 года рудник и обогатительная фабрика входили в систему Берегового лагеря. Остатки находившихся там производственных и жилых построек существуют и в настоящее время. Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа занимаются мемориализацией этих объектов.
ЛЮДМИЛА ХАЧАТРЯН

Людмила Ермилова (в замужестве Хачатрян) в лагере, 1948–1954 годы
Интервью записано в 2013 году. Режиссер Людмила Садовникова. Оператор Антон Андросов.
Людмила Алексеевна Хачатрян (в девичестве Ермилова) родилась 31 декабря 1929 года в Москве. В 1946 году она познакомилась с Радойцей Ненезичем, югославским студентом Военной академии имени Фрунзе. Вскоре пара зарегистрировала брак в посольстве Югославии, но через год Ненезича отправили на родину, а их брак объявили недействительным. Людмилу отчислили с первого курса ГИТИСа за «связь с иностранцами», а в 1948 году арестовали и приговорили к восьми годам ИТЛ за «изменнические настроения» и «антисоветскую агитацию». Вначале ее направили в Каргопольский лагерь в Архангельской области, где она работала на лесоповале, после перевели в инвалидный лагерь в Литве, и затем — в Вятлаг. В 1954 году туда приехал отец Людмилы, после личной беседы с начальником лагеря ему позволили забрать дочь домой. В 1960 году она была реабилитирована за отсутствием состава преступления. На воле Людмила Алексеевна продолжила попытки передать письмо Радойце Ненезичу, но все они были безуспешны.
«Восемь лет! За что? Восемь лет!»
Каждый год 20 ноября я приезжаю на кладбище — просить у родителей прощения. Потому что 20 ноября 1948 года кончилась наша счастливая спокойная жизнь. Его звали Радойца Ненезич. Он черногорец. Отучился в Белграде один курс, и началась война. Он ушел в партизаны, как и его брат и три сестры. За это их родители заплатили страшную цену: их повесили на одном дереве. Радойца провел пять лет в партизанах, а после войны приехал в Москву учиться в Военной академии имени Фрунзе. В то время в Москве было очень много югославских студентов. Не знаю, что он во мне нашел, — вот это для меня была загадка. Сначала это была забавная девочка, которая изображала из себя взрослую учительницу: поправляла, когда он неправильно говорил. Мы встречались у Красных Ворот. Там с нами милиционеры уже здоровались — когда я приходила, они мне говорили: «А твой уже приехал!» или «А твоего еще нет». Так же и ему говорили. А потом он мне сделал предложение. Раньше браками с иностранцами занимался ОВИР, и мы отправились туда. ОВИР находился рядом с Петровкой, 38, — такой был небольшой особнячок. Нас приняли очень вежливо (югославы тогда были наши самые близкие друзья), и мы заполнили анкеты. А потом у нас попросили документы, и мне сказали: «Вам нет 18 лет. Приходите после 31 декабря, хоть 1 января, и мы заключим брак». Но мы влюбились! До одурения! Какое 31 декабря! Мы оттуда вышли, как будто похоронили кого-то. Похоронили надежду. Ну, я смирилась с этим, а он, оказывается, нет! В посольстве он узнал, что по их закону браки заключаются с 16 лет. Он пошел к Владо Поповичу, послу, с которым вместе воевали, рассказал свою историю, тот проникся, и мы расписались в посольстве. Это было летом 1946 года. У Радойцы был стройный план: я забеременею, а рожать я поеду в Югославию и там останусь. Он мне давал задание, сколько слов я должна выучить каждый день, — руководил моей жизнью. Нам дали комнату в общежитии на Садовой, рядом со Склифом. Это здание до сих пор там стоит. Мои родители очень долго не знали о нас. Абсолютно ничего не знали! У этой девочки, которой я на тот момент была, наверное, были все задатки Маты Хари! Как я это все устраивала, я не знаю! Помогало, конечно, то, что мои родители часто были в длительных командировках. Иногда я говорила, что уезжаю на дачу к подруге, — у меня подруг было много. Так я жила на два дома. К концу 1946 года Радойца окончил академию — их учили ускоренно. Они получили свои дипломы. Постепенно все уезжают, остаются только Радойца и двое его товарищей — они тоже пытались оформить брак со своими московскими девушками. Наши мужья были близки, и мы стали подругами: я, Леночка Алиева, девушка Николо Любибратича, самая красивая из нас, и Кира Первенцева — ее отец преподавал в академии Фрунзе. Нашим мужьям ставят условие: немедленно уехать на родину. Они последние остались — отказывались уезжать, пока не оформят брак. Они не знали, что уже подписан закон с обратным действием, запрещающий браки с иностранцами, — этот закон не был обнародован. Тогда у них отбирают документы, то есть они выйти уже никуда не могут, уже у нас никакой связи нет. Под Новый год их выставляют на улицу и дают им в руки документы на выезд. И вот мы на маленьком автобусе едем в аэропорт — три горе-вдовы и трое здоровых мужчин, бессильных что-либо изменить в собственной жизни. Приезжаем мы во Внуково, выясняется: нелетная погода. И это была такая радость! Ну, счастье было! Мы едем обратно вместе и приезжаем к Кириной маме, которая жила одна в двухкомнатной квартире. Никто не спал, сидели обнявшись, кто на диване, кто на оттоманке. Такая заброшенная квартира со служебной мебелью, но это было счастье! Утром — погода… И на том же автобусе мы снова едем в аэропорт, и когда за ними закрывается дверь военного самолета. это было как крышка гроба. Еще когда Радойца был здесь, в какой-то компании я познакомилась с женой военного атташе Поризановича, Светланой. Очень красивая женщина, она была на несколько лет старше меня — они успели все официально оформить. Пока не закрыли посольство, связь могла идти через нее, но потом уже и этой связи не было. И однажды она мне позвонила и предложила встретиться. Мы встретились, она говорит: «Идем на улицу, я уже боюсь и дома говорить». Ее мужа тоже отправили на родину после закрытия посольства — она была в таком же положении, как и мы, только официально. И она сказала мне, что в итальянском посольстве работает одна женщина, ее зовут Бьянка. «И я через нее посылаю Тоше письма. Давай, пиши письмо — можешь писать все, что ты хочешь, не боясь, потому что это надежный человек». И я пишу письмо:«Не поступить ли мне на курсы итальянского языка, чтобы потом поехать в Италию и через Дубровник попасть в Югославию?..»Меня не тревожило, как долго нужно учить итальянский, мне важно было с ним встретиться! Но потом это письмо оказалось на столе следователя. Теперь мы подошли к тому самому судьбоносному дню — 20 ноября 1948 года. В этот день тогда отмечался День артиллерии. У моих родителей было приглашение в Театр Советской армии. Я помню, на маме было вечернее, черное с бисером платье, и отец был при параде. Но накануне все время кто-то звонил и клал трубку. У нас был коммутатор, и просто так кто-то не мог звонить — телефонист не соединил бы, пока не услышит голос. Я только закончила маме прическу делать, и раздается стук в дверь. Затем открывается без стука вторая дверь, и они появляются. Ну, немая сцена. Главный, оглядев нас, подает отцу ордер. В книгах часто встречаешь выражение «белый как мел», а тут я вижу, как кровь уходит от лица, и человек белоснежный становится. Я еще не понимаю, в чем дело. И мне говорят: «Вам надо собраться и проехать с нами». Тогда мама вступает: «Куда это с вами? И кто вы такие?» И отец подает ей эту бумагу, тогда мама меняется в лице. Как-то быстро она берет себя в руки и идет к шкафу. Офицер ее останавливает: «Вы куда?» Она отвечает: «Теплый свитер ей дать». Он говорит: «Зачем ей свитер? Мы ее привезем вечером!» У нас стоял большой радиоприемник, и на нем лежали золотые часы. Радойца, уезжая, сказал мне: «Вот, дороже этой вещи у меня ничего нет! Это у меня от маршала Тито золотые часы Schaffhausen, я тебе их оставляю, потому что эти часы должны обязательно на мою руку вернуться!» И я надеваю эти часы, чисто машинально. Был уже конец ноября, и я ходила в демисезонном пальто. И мама — господи, я ее благодарила за это каждый день, каждую ночь — мама сказала: «Нет-нет, ну-ка шубку надень!» Если б в Лефортово у меня не было этой шубки. я ноги в рукава прятала и таким образом спасалась от холода. И я надела эту шубку. Мама говорит: «Подойди ко мне». Я подошла, она меня обняла и сказала: «Храни тебя Господь!» Мама — неверующий человек, но именно эта фраза — последнее, что она мне сказала. Отец меня обнял крепко-крепко и сказал: «Со всем разберутся! Разберутся. Ты не нервничай, ни о чем не думай, разберутся!» Вот это «разберутся» он раз пять повторил. Когда мы уже вышли на лестницу, офицер мне сказал: «Если кто-то спросит, не останавливаться, отвечать одной фразой: “Вернусь вечером”». И тут такой был момент, не знаю, как его охарактеризовать. У родителей была служебная машина темно-зеленого цвета, мы спускаемся во двор, и рядом с нашей машиной стоит точно такая же, на которой меня и увезли. Это было 20 ноября 1948 года — мне было 18 лет. Привезли на Лубянку. В бокс, раздели, все отобрали… Я все время плакала! И когда фотографировать начали, фотограф говорит: «Я не могу ее снять! Как ее успокоить?» — «По щекам, — говорит тетка, которая меня привела. — Или давай нашатырь». Ну, по щекам не стали, нашатырь дали. Вот такая у меня в деле фотография. Вот почему через много лет, имея возможность ознакомиться со своим делом, я не смогла это сделать. Я увидела эту фотографию и стала стучать в дверь, чтобы меня выпустили, — я больше ничего не хотела, ничего! Это была большая ошибка. Потому что в конце этого дела приклеен был большой конверт с фотографиями и письмами. Это была ошибка, но я не смогла вообще ничего читать! Это лицо, полное такого ужаса! Это не девочка, это женщина, и немолодая женщина, глаз нет, опухшее совершенно лицо. Нет! Поэтому я и не прочитала свое дело. На следующий день после ареста я увидела майора Митрофанова, своего следователя. Вот первая фраза, которую он мне сказал: «Ну вот, английских видел, американских, французских, ну теперь югославскую ***** посмотрим». Он был рыжего окраса. У него были редкой красоты руки: маленькие, с длинными пальцами. Ресницы длиннющие, желтые. Светлые глаза. И маленький рост. Ну, все такое ладненькое, все такое точеное, ухоженное. И «Шипр». Запах «Шипра»: как только ты входишь в кабинет — сразу же улавливаешь этот дежурный запах. Он мне сказал: «Вы обвиняетесь по статье 58–1а через девятнадцатую статью». Я спросила: «А что это такое — девятнадцатая статья?» — «Это значит имела намерение изменить родине». А дальше начались ночные допросы. Это очень интересно было: когда тебя ведут на допрос, ты расписываешься. Книга — ты ее не видишь — закрыта большим железным листом, и в нем дырочка, где стоит твоя фамилия и час, когда тебя ведут. Обратно возвращаешься — точно так же расписываешься там, где указано время ухода с допроса. Я думаю: они же за ночные допросы хорошие деньги получили. Потому что я помню, на Лубянке следователь иногда просто спал во время допроса: ни о чем не спрашивает, ни о чем не говорит, сидит и спит! Не сразу всплыло это письмо, нет, не сразу. И вдруг — бац! «А ты знаешь Бьянку из итальянского посольства? Ну-ка расскажи, как ты с ней познакомилась, что ты через нее переправляла?» Я отправила одно письмо! Одно! А потом: «Как это тебе пришло в голову пойти и заключить брак в югославском посольстве?» И он что-то рвет — ты ж не знаешь, что он рвет. «Вот так, видишь — это филькина грамота. Какой брак?! Ты сожительствовала с врагами!» 31 декабря меня вызывают утром. У меня день рождения, мне 19 исполнилось. Сидит мой Митрофан, опять благоухающий своим «Шипром», и вот такой между нами происходит диалог. «Ну, как дела?» И я, идиотка, отвечаю: «Какие дела? У меня никаких дел нет. Дела у вас». Все — за оскорбление следователя трое суток карцера. Приводят меня в чулан с бетонным полом. Камера маленькая: лежать ты не можешь, можешь только сидеть спиной к стене и протянуть ноги. Холодно. Даже моего легкого платья у меня нет — одна комбинашка, в которой уже дырки пошли. Двое суток я сидела. На третьи он меня помиловал. Я вам еще не сказала, какой грех я на свою душу взяла. В один из допросов дневных мой Митрофан все время звонил и искал пенициллин для ребенка. А я сидела и думала: «Господи, хоть бы не нашел! Пусть подохнет его ребенок!» Да, сидела и говорила так про себя. Он по одному номеру звонил, по другому — никак не мог найти. А я сидела, на него смотрела: «Хоть бы не нашел этот пенициллин! Пусть подохнет его ребенок, пусть подохнет его ребенок!» Да-да. Вот какая ненависть была. Наконец наступает день объявления приговора. Те, кто подольше сидел, рассказывали: «Потом тебя вызовут на приговор». А какой будет приговор? А вот этого никто не знает. Ну, наконец приходит мой черед. Захожу. Сидит подполковник: хорошо выбрит, гладенький, такой здоровячок. Полистал папки. «Встать!» Встаю, куда денешься. «Особое совещание в составе… приговорило… за изменнические настроения и антисоветскую агитацию к восьми годам лишения свободы». Когда я услышала про восемь лет, как я разоралась! «Восемь лет! За что? Восемь лет!» Как начала орать! Он мне сует: «Подписывай!» Какое подписывай! У меня какой-то был нервный срыв. Прибежали два мужика, а я свое ору: «Восемь лет!» Вот ничего, кроме этих «восемь лет». Я не подписывала свой приговор не по идейным соображениям — просто я была не в том состоянии. Меня засунули в бокс, где еще две женщины ждали решения своей судьбы, а я все одно орала: «Восемь лет!» — и они так на меня с жалостью смотрели. В Лефортовской тюрьме я познакомилась с пожилой женщиной. Она выглядела очень больной и все время плакала. Какое у нее было лицо — иконы, наверное, с таких женщин пишут. Вот что она мне рассказала: «Ты такая молоденькая, тебе моя фамилия ничего не скажет, но у меня очень известный муж — полярный летчик. Моя фамилия Фарих[73]. Мы жили на улице Горького, дом четыре. Мой сын познакомился с очаровательной девушкой, через несколько дней должна была состояться свадьба. И накануне свадьбы арестовывают меня, мужа и сына. Думаю, это из-за того, что кому-то понадобилась наша трехкомнатная квартира». Потом она меня попросила: «Знаешь, милая, сейчас вас повезут на этап, ты обязательно громко спроси, может быть, кто-нибудь знает про Фариха». Я говорю: «А как я вам сообщу? Обратно ведь я не приеду». — «А я почувствую». Это был 1949 год, до смерти Сталина оставалось еще несколько лет. Выжила ли она, в какие лагеря она попала — трудно сказать. Но женщина необыкновенная! Какая у нее была осанка! И речь! Сейчас так уже не говорят. Вызывают меня на этап, сажают в «воронок» — мы все в отдельных «шкафчиках» сидим. И я, памятуя об этой удивительной женщине, никого не боясь, кричу: «Кто-нибудь слышал такую фамилию — Фарих?» И кто-то в конце слева отвечает: «Да, десятку получил». И я говорю: «И его маме дали десятку». — «А что, она жива? Он все боялся, что она умерла». — «Жива», — говорю. Вот так мы говорили, и никто нас не остановил. А когда меня первый раз везли в Лефортово, мне чихнуть нельзя было, а тут мы разговариваем. Останавливается наш «воронок». Мой «шкафчик» открывается, и меня выкатывают на землю, одну. Темным-темно, и лай собак. Я одна, и кругом рельсы. Я понимаю, что это железная дорога. Впоследствии я узнала, что это Каланчевка. Меня ведут к составу и сажают в столыпинский вагон. По этапу нас отправили сначала в Вологду, в пересыльную тюрьму. Что я запомнила из этой «пересылки»: нет стекол, холод, огромная камера, народу полно, бытовички, кто-то ругается, кто-то дерется. Оттуда мы попали в исправительный лагерь в поселке Ерцево Архангельской области. Сначала меня отправили на лесоповал. Зима. Я пилить не умею. А там сосны корабельные — на экспорт шли. Выдали большую пилу, и мы с Шурочкой Цыбоевой — она, наверное, еще меньше и тоньше меня была, — мы не можем даже одно дерево спилить, у нас ничего не получается. Бригада ненавидит нас, пайку мы не получаем. Бывало, конвойный скажет: «Так, твою мать, отойдите!» Мы отойдем, он свою винтовку снимет и раз-раз по дереву пилой: глядишь, и сосна упадет. Это был тяжелый сезон, который очень плохо закончился. Потом мы работали на ремонте железной дороги — замена шпал. В первый день я шла обратно и думала: «Только бы дойти!» Никто со мной в пару не вставал таскать эту шпалу. Я как делала: поднимала с одной стороны и постепенно двигала — я не могла ее тащить на плече, как они таскали. У меня началось кровотечение. Прямо там. Я потеряла сознание. Слава богу, проезжал десятник на своей дрезине — погрузили туда, дали конвоира и отвезли в лазарет. Меня еле спасли. Я еще в тюрьме поняла, что Радойцу я уже никогда не увижу. Уже там я поняла, что на этом надо крест ставить. Мама мне все время присылала в лагерь журнал «Огонек» бандеролью — можно было. А этот журнал был старый, и крестик на нем стоял, поэтому я его отложила. Два дня я взапой читала журналы, а потом взялась за этот номер. А там большой снимок, на весь лист. Я его узнала сразу. Он стоял среди членов монгольского правительства, сразу за Чойбалсаном. Наш советский генерал. Это был 1953 год, а журнал 1951 года, по-моему. Это мама заметила, узнала его. И когда я увидела этот снимок, о, что со мной было! Кончилась эта история тем, что я написала стихи:
Как страшно и жутко, что мной ты потерян,
но как беспощадно, что найден опять.
О, научи, перед кем на коленях
повержена робко с молитвою встать?
Кому помолиться, чтоб счастье вернулось,
чтоб ожил твой смутный портрет…
Бумажная встреча страшна и печальна,
ты жив, и ты нужен по-прежнему мне.
А может, когда-нибудь так же случайно
я тихо навстречу выйду к тебе.
О, Бог мой! Молю, как рабыня без воли,
найди его в синем, волшебном краю.
И пусть задохнется на миг он от боли,
что в чем-то предал северянку свою.
х х х
Через несколько лет после записи этого интервью в Музей истории ГУЛАГа обратились корреспонденты газеты USA Today с просьбой познакомить их с кем-нибудь из бывших заключенных. Руководитель отдела визуальной антропологии Людмила Садовникова позвонила Л. А. Хачатрян, и та согласилась встретиться с журналистами. После выхода материала автору статьи пришло письмо от дочери Радойцы Ненезича, и журналист помог женщинам связаться друг с другом. Дочь Радойцы написала Людмиле Алексеевне очень теплое письмо, рассказала, что отец помнил о своей возлюбленной всю жизнь. В ответ Людмила Алексеевна записала видеописьмо с рассказом о своей жизни. Так история Людмилы и Радойцы получила неожиданное продолжение благодаря проекту «Мой ГУЛАГ».
Указ «О запреще нии браков между гражданами СССР и иностранцами» Людмила Хачатрян пострадала от сталинской репрессивной политики в послевоенные годы. В этот период были изданы десятки законодательных актов, ужесточающих режим. Одним из них стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1947 года «О запрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». Появление этого закона отчастибыло обусловлено тем, что в период войны многие советские женщины, оказавшиеся за границей, вышли замуж за иностранцев и родили от них детей. По оценкам некоторых исследователей, только в европейских странах насчитывалось порядка 30 тысяч таких женщин и еще больше детей, родившихся в этих интернациональных семьях. На женщин, вступивших в брак с иностранцами, но не имевших от них детей, распространялся принцип обязательной репатриации. У женщин изымались брачные свидетельства, и брак объявлялся недействительным. Безусловно, на судьбу Людмилы также повлияли особенности развития советско-югославских отношений. В ноябре 1945 года была создана Федеративная Народная Республика Югославия. Изначально коммунистическое руководство Югославии было признано и поддержано СССР. Но отказ руководства ФНРЮ подчиняться СССР в ряде вопросов внутренней и внешней политики привел к ухудшению советско-югославских отношений в конце 1947 года, а затем к полному разрыву в сентябре 1949 года.
АННА ЗАВОДОВА

Анна Заводова (справа) с подругой в лагере, город Рыбинск, 1949–1954 годы
Интервью записано в 2015 году. Режиссер Таисия Круговых. Оператор Василий Богатов.
Анна Николаевна Заводова родилась в 1927 году в большой крестьянской семье. Когда ей было три года, семья переехала в поселок Новогиреево под Москвой и вместе с другими родственниками поселилась в небольшом частном доме. Во время войны они уехали к тете в Кунцево, где Анна осталась жить и после 1945 года. С детства она увлекалась оперой, кино и иностранными языками. Окончив школу экстерном, Анна Заводова поступила на вечернее отделение факультета немецкого языка Института иностранных языков. Одновременно с учебой она работала комплектатором в мастерской Всесоюзного общества культурных связей (ВОКС). Когда Анна Николаевна училась на третьем курсе, к ней обратился ее хороший знакомый, Александр Тарасов, и попросил напечатать на машинке его доклад против сталинского режима. Так она стала членом подпольной студенческой организации «Всесоюзная демократическая партия», в которую входили в том числе Виктор Белкин и Израиль Мазус. Вместе они приняли решение проводить агитацию среди студентов. В ноябре 1948 года Мазус и Тарасов были задержаны и приговорены к семи и десяти годам лагерей соответственно. 22 января 1949 года была арестована и Анна. Ее приговорили к восьми годам ИТЛ по статье 58 (пункты 10 и 11). В 1954 году Анна Заводова оказалась на свободе. В 1957 году снова поступила в Институт иностранных языков и параллельно работала младшим редактором в ВИНИТИ (Всесоюзном институте научной и технической информации РАН). За время учебы она вышла замуж и родила дочь. В 1991 году Анна Николаевна Заводова получила документы о реабилитации.
«Люди рождены свободными и жить должны в свободе»
Я с ранних лет увлеклась театром, причем оперой, как ни странно. И первая опера, которую я слушала, была «Фауст». А потом пошло-поехало. Я уже без этого не могу жить и по сей день. В войну мы ходили в Большой, он располагался в здании современного Театра оперетты. Сбоку есть вход, и лестница поднималась на бельэтажи и ярусы. Сейчас стыдно об этом вспоминать, но мы умудрялись по одному-двум билетикам пройти большой компанией: кто-то показывал билет, остальные бежали по лестнице наверх. Очень любила кино, в кинотеатрах ни одного фильма не пропускала. Был у меня товарищ еще по детским играм — Саша Тарасов, мы рядом жили. Он был очень симпатичным парнем и из всей нашей уличной команды выделялся умом и эрудицией. Конечно, для меня он был примером, и я проявила к нему большое чувство симпатии, если не больше, попала под его влияние. Точнее, разделяла его взгляды. У него был друг, Виктор Белкин, поначалу они вместе учились в Институте международных отношений. Белкина я видела один раз, он приезжал к Саше в Кунцево и произвел на меня большое впечатление! Саша рассказывал, что Виктор обладает какой-то уникальной фотографической памятью. Он мог прочитать страницу и воспроизвести ее тут же. Прекрасно, досконально знал всю теорию марксизма-ленинизма и лучше любого преподавателя мог все рассказать. В институте во время лекции он иногда задавал такие вопросы, на которые преподаватель напрямую не мог ответить. И поэтому вскоре его исключили из института как неблагонадежного. Он уехал в Воронеж, поступил там в университет — ему это было просто. Но с Сашей они остались друзьями и встречались. Ребята слушали какую-то немецкую волну, Виктор прекрасно знал язык и абсолютно все понимал. Очень многим интересовался, был эрудированным и интеллигентным. Отец его был известным в Воронеже врачом. Это были замечательные, мыслящие, думающие ребята. Дай бог, чтобы таких в России и сейчас было побольше. В тот период я училась на третьем курсе факультета немецкого языка Института иностранных языков, на вечернем отделении, и работала комплектатором в мастерской Всесоюзного общества культурных связей, подготавливала всевозможные фотографии для выставок, сотрудничала с фотографами-ретушерами. Один раз была даже приглашена на репетицию ансамбля Игоря Моисеева в зал Чайковского, подбирать какой-то материал. Однажды, где-то в конце августа — сентябре 1948 года, Саша обратился ко мне с просьбой напечатать какой-то документ. Естественно, я этот документ прочитала. Там было все то, что потом вошло в наши уголовные дела: обличение культа личности Сталина, госкапитализм, разруха в селах, отсутствие свободы и так далее. И все очень обоснованно. Небольшой такой доклад. Я, в отличие от Саши, не была теоретиком, я просто видела нашу жизнь на практике, как все жили, как и что втихую говорили. Первое серьезное политическое событие, которое повлияло на меня в осмысленном возрасте, а в то время их было много, — когда Сталин снял Жукова. Потом — когда были арестованы жены его соратников. Я была потрясена этим. Узнавала об арестах и думала: где же в этом логика? Они все вместе делали революцию и вдруг начинают друг друга убивать. Очень сильное впечатление все это на меня производило. И поэтому, когда Саша мне предложил сотрудничать с ним, я согласилась. Я напечатала его доклад, это было первый и единственный раз. Он оставил мне на хранение все свои документы и записки — что-то я вообще не читала, что-то читала. Благодаря Саше я познакомилась с Изей (Израилем) Мазусом, тоже очень начитанным и интересным парнем. Сашу с Изей познакомил его двоюродный брат Борис. У всех у них — у Саши, Бориса, Виктора Белкина и Мазуса — были общие взгляды на вопрос о создании и участии в молодежной организации. Мы встречались в мансарде у Изиной тетки, обсуждали свои планы. Саша просил нас агитировать молодежь вступать в нашу организацию, которая задумывалась как всесоюзная, где будет разоблачен культ Сталина. Очень доходчиво убеждал, аргументированно. Мы даже заплатили членские взносы — по 15 рублей. Но я, собственно, так никого и не сагитировала. Оглянулась кругом: кого агитировать? Да и опасно. В институте и на работе открытых разговоров о политике никогда не было. Люди боялись доноса, общаться откровенно было невозможно — прямая дорога на Лубянку. У меня была прекрасная подруга Наташа, умница, просто изумительная. Я ее звала мудрой черепашкой. Из хорошей семьи, дед ее был царским генералом, но потом посочувствовал революции и перешел на сторону Красной армии. Наташина бабушка говорила: «Политикой заниматься — это равносильно тому, что возиться в чужом грязном белье». И Наташа мне это тоже сказала, она была далека от политики. Самое главное, что я всем с ней делилась, а вот насчет того, что вступаю в такую организацию, я ей не сказала. Потому что я была предана Саше Тарасову. В ноябре Саша Тарасов пропал — как я узнала позже, был арестован. Именно тогда я почувствовала, что отношение на работе ко мне как будто изменилось: поначалу меня как знающую язык собирались взять помощником референта, такая вырисовывалась прекрасная перспектива. Но этого не случилось. Как-то меня вызвал начальник мастерской и очень нехорошо со мной разговаривал. Не то что строго, а просто уничтожающе. И я его тогда спросила: «Почему вы так ко мне относитесь?» Я не сообразила, что уже была под наблюдением. Предполагала ли я, что меня могут арестовать? У меня была какая-то надежда. За что меня брать? Ну подумаешь, напечатала доклад, документы держала. Видимо, это легкомыслие молодости. Мне казалось, что это игра, я никогда не думала, что все будет так серьезно. Близкие ничего не знали и не подозревали. Для них мой арест был как гром в ясную погоду. Органы дали мне возможность сдать почти все экзамены в институте, арестовали меня 22 января 1949 года. Видимо, меня держали как ловушку, притягательную силу для других членов организации. Как всегда, вечером я пришла из института или с работы, не помню. У нас в маленькой комнате стоял кожаный диван, я на нем спала, обычно это было мое место. Ночью — стук в дверь. Открыл отец. Зашли два человека небольшого роста, одеты в черные костюмы. Показали мне какой-то документ: «Вы арестованы». Я даже не поняла, что это было, представляете — сразу шок. Я помню, как-то закрыли меня простынкой, я оделась, собралась. Ну, сказала несколько слов. Отец тоже был ошарашен. Ничего с собой не взяла: ни еды, ни вещей. Помню, я была в красненьком шерстяном платье, такая худенькая. Меня вывели на улицу, посадили в этот знаменитый черный «воронок». Я в середине, они по бокам. И привезли на Лубянку. Прежде чем я попала в камеру, у меня взяли отпечатки пальцев, заставили раздеться догола, обыскали одежду. В разное положение ставили, как можно женщину поставить, проверили, нет ли у меня чего. Потом одели, сфотографировали — анфас и профиль. Ну, я уже все понимала, конечно. Поясок от платья у меня отобрали, а чулки, удивительно, почему-то оставили, помню, я чулком подвязывалась — привыкла с пояском ходить. День меня держали в одиночке, узкой, как пенал. В ней была приделанная к стенке кровать, собственно, больше ничего и не было. Один раз дали рыбного супа. Я была в таком полушоковом состоянии, что даже не помню, был там туалет или нет. По-моему, не было. Надо было стучать надзирателю, чтобы он вывел в уборную. В тот день я не спала. Утром пришел надзиратель и повел меня по разным длинным коридорам. Ввели меня в большой кабинет, и я услышала возглас, в буквальном смысле этого слова: «Боже мой! Кто же вас сюда привел? Бог или дьявол?» Полковник средних лет схватился за голову. Видит, девчонка в красном платьице, худенькая. Я всегда младше своих лет выглядела, наверное, лет на шестнадцать, никак не на двадцать один. О чем-то он меня допрашивал, особо не помню ничего. У меня засело в голове: видимо, это хороший человек. И как в будущем я узнала от солагерников, этот гэбэшник не выдержал и впоследствии застрелился — были и среди них сочувствующие и понимающие. После допроса в одиночку я больше не вернулась, меня перевели в обычную камеру. Кровати в ней были расположены вдоль стен, окон не было. В углу стояла параша — бак, хорошо хоть с крышкой. Его выносили каждый день. Мы, правда, старались большие дела в туалете отправлять. В глазок за нами все время наблюдали. Еду подавали через окошко. Утром — каша, чай. В обед — похлебка и еще что-то. И вечером тоже типа каши, и все. По утрам водили умываться в туалетную комнату. Она находилась в этом же коридоре. Довольно просторная комната, там стояли обычные умывальники, как везде, и туалетные кабинки. Умывались, выливали парашу, мыли бак по очереди. Успевали и стирать. А сушили белье собственным телом. Даже гладить умудрялась, честное слово. Сядешь на кусок платья, и оно разглаживается. Хотелось все-таки человеком быть. Я сейчас уже не помню, по-моему, был какой-то душ. Пока туда водили, в камере производили шмон. Уже и никакой связи ни с кем у нас не было, а все равно все проверяли. В нашей камере я была самая молоденькая, остальные постарше меня. Я помню Веру, такая веселая была, жена какого-то высокопоставленного чиновника. Любила поболтать на разные темы, анекдоты рассказывать, в том числе политические, и вот за это ее взяли. Другая была преподавателем французского языка, безобидная старушенция, меня французскому учила. В шпионаже ее обвинили. Еще одна была из шведского посольства, Маргарита. Серьезная женщина, деловая, чувствовалось, много знающая, тоже в шпионаже обвиняли. На меня произвела впечатление девушка Ася. Красавица, маленькая, худенькая. Она работала в каком-то посольстве и один раз по набережной в Москве прошлась с американцем, с обычным парнем, и ее тоже забрали. Моего следователя звали Георгий Погребняк. Ему было лет тридцать, довольно симпатичный парень, всегда с улыбкой. Поскольку я была взята последней, все уже было известно, он мне прямо сказал: «Вы ничего не скрывайте, потому что ваши ребята во всем признались, все рассказали нам, не утруждайте себя и нас». Он сидел за столом, я — напротив, а около окна сидела машинистка. Докапывался до всего, вплоть до личного. Но не вредный был. А я с ним спорила — ведь надо же! Не оправдывалась, а говорила: «Нет свободы слова». — «Как же нет? Вы говорили же». Я на него, помню, посмотрела: ну, что тебе сказать? Говорила — и где я теперь? «Свободы слова нет все равно». У меня иногда проявлялся такой характер — доказать что-то с пеной у рта. Эта женщина-машинистка даже вздрогнула. «Вы — троцкистка, двурушница! Комсомолка, а еще в какую-то партию решила вступать!» — «Я даже не помню теорию Троцкого по-настоящему». Вот такие были у нас разговоры. Так что это была своего рода романтика, но романтика трагичная. Вызывали меня и по ночам. Дали почувствовать, что такое тюрьма. Но никаких физических действий в отношении меня не применяли. Унижению подвергали, конечно. Периодически заставляли всех женщин — нас было в камерах по шесть человек — раздеваться догола, якобы с обыском. Все, кому не лень, в глазок смотрели на бедных голых женщин. Однажды, это было уже в конце, перед вынесением приговора, меня вызвали на допрос. Захожу — сидит Саша Тарасов. Три-четыре следователя смотрят на нас с интересом, как мы будем себя вести. У Саши каменное лицо. Ни слова не проронил, на меня — ноль внимания, фунт презрения. У меня сразу зародилась мысль, что он считает, что я их предала. Сколько ко мне подсылали людей, все выспрашивали у меня, я звука не произнесла, и вдруг такой удар ножом в спину! Я была сражена. Так мы с ним расстались, не говоря друг другу ни слова. После этого у меня началась депрессия. Уже позже, после лагеря, он узнал, что я не виновата, писал мне хорошие теплые письма. Я видела его отношение ко мне, симпатию. Но я уже стала другой за это время. Но я никогда не упрекнула его и не сказала: «Почему ты так подумал?!» Статью мне определили 58–10, 11 — антисоветская агитация, причем групповая. Это уже рассматривалось как серьезное дело, и срок грозил больше. Как-то раз меня привели в кабинет, сидит толстый дяденька, живот у него на столе. Запомнила фамилию: Дорон, прокурор. Говорит мне: «Решением Особого совещания вы приговорены к восьми годам лишения свободы в исправительнотрудовых лагерях». Никакого суда не было, все заочно. Вызвали — поставили перед фактом. Я не оправдывалась, приняла как данность. Саше Тарасову и Виктору Белкину как организаторам дали по десять лет, Израилю Мазусу и Борису — по семь. Уже много позже я читала в нашем деле письмо Сталину министра госбезопасности СССР Абакумова[74], в котором сообщалось, что органами вовремя разоблачена и ликвидирована такая-то группа и «все арестованные сознались в совершенных ими преступлениях. Следствие по делу продолжается». На Лубянке я провела около пяти месяцев. Однажды сказали: «Собирайтесь». Сопровождающий засунул меня в «воронок»; порой попадались такие противные, или им жизнь своя не нравилась, что они вели себя очень грубо: не то что помочь в «воронок» влезть, а, наоборот, еще и толкнет лишний раз. Привезли в Бутырку, в распределительное отделение. Там я тоже очень много познала. Камера была огромная, народу полно, разной категории. Сидели даже две девицы, не знаю, врали они или нет — якобы Берия подобрал их на улице. Рассказывали, как издевалась над ними группа работников вышестоящей организации. Недели через две начался мой этап. Я помню, время было уже позднее, темное, когда нас грузили в столыпинские вагоны. Вокруг охранники, собаки, крик, шум среди заключенных. В вагоне нас было порядочно, наверное, больше пятидесяти человек. Скамеек на всех не хватило — ехали стоя. Если выводили на платформу, охранники сразу нас предупреждали: будем стрелять, если побежите. Привезли нас в лагерь Чердаклы[75], это Ульяновская область. А жить негде — только землянки. Представляете, что такое допотопная землянка? Крошечные окошечки, на полу кое-какой настил, нары в два этажа, узенький проходик и длинная-длинная землянка. Так мы жили довольно долго, больше года, пока сами же не построили бараки. Был там огромный совхоз. Хозяин совхоза, высокий мордвин, довольно представительный, относился к заключенным благосклонно, должна сказать. Во всяком случае, нас периодически кормили мясным бульоном, а некоторым в миске даже попадались кусочки мяса. Не голодали. Хоть я и не получала из дома посылок, но мне хватало. Два-три раза мне прислала посылки мама Саши Тарасова. Варили обед сами заключенные. Этот хозяин-мордвин любил, чтобы его совхоз был в передовых, и терпеть не мог уголовников. Когда однажды к нам прислали уголовную группу и они стали хулиганить, отлынивать от работы, он в момент попросил, чтобы их перевели на этап. Поэтому в нашем лагере в основном были бытовики — женщины-бухгалтеры, экономисты, растратчики, вот такие. И политические, конечно. Много заключенных женщин, пострадавших за религию. Например, была Феня, субботница[76]. Вот убейте ее, но в субботу работать она не выходила. Ее сажали в карцер, заставляли и так и сяк — не перевоспитали. Была еще интересная, смешливая Варя. Мы над ней, конечно, потешались, поскольку были советского воспитания: «Что, тебя Бог не спас, и ты сюда попала?» В таком духе, но она ни разу не обиделась и тоже над нами посмеивалась. Напротив меня на нарах спала Марья Николаевна Севостьянова, изумительная женщина, в прошлом — актриса. Мы с ней очень сдружились. Муж у нее был обычный инженер. Была какая-то история типа антисоветского высказывания, мужа расстреляли, а ей дали десять лет. Она до нашего лагеря была в другом, и как-то завели женщины разговор о Сталине, а Марья Николаевна по привычке сказала: «Да тьфу на него, что о нем будем говорить». И все, ей добавили еще пять лет. То есть осведомитель среди них сообщил, что она плюнула в сторону Сталина. Она мне об этом рассказала, поэтому его имя мы никогда не упоминали — у нас был хороший пример. Так что публика в бараке была очень приемлемая. Национальности разные: латыши, эстонцы, литовцы, западные украинцы. Никакой дискриминации по национальному признаку не было. Женщины старше пятидесяти лет на общие работы не ходили. Меня это удивляло: почему молодые женщины остаются в лагере чистить картошку? А в то время женщины уходили на пенсию с пятидесяти лет, и, как ни странно, этот закон распространился и на лагерь. Общие работы — это все физические работы, земляные. Никогда не забуду зрелище — это только в кино увидите, — когда фашисты ведут наших русских и рядом бегут и лают собаки. Вот и нас, несчастных женщин, в бушлатах, в здоровых ботинках, в каких-то брюках (одеты мы были, сами понимаете, как настоящие зэки) так же водили на работу. Все передвижения за зону были только под конвоем, без него никуда. Мы копали силосные ямы, делали скирды. Вообще все совхозные работы, какие были, я прошла. Недаром у меня крестьянские корни. Научилась быков запрягать, с ними чуть ли не обнималась. Работали и на лесопосадке. Пережить пришлось довольно много, пару раз я была на грани смерти. Однажды возвращалась с работы, и что-то так мне было плохо, я едва плелась, а сзади шел конвой. «Ты что там застряла, едва тащишься?» Оказалось, я заболела малярией. Это страшная болезнь, но меня спасли. В лагерях встречались прекрасные люди, даже среди начальства. Был в культурно-воспитательной части один воспитатель, бывший учитель. Многодетный, он пошел работать в зону, чтобы больше зарабатывать. Удивительно добрый человек. Он принес для меня трехлитровую банку какого-то компота, и женщины по очереди ходили ко мне и чайной ложечкой отпаивали. Потому что при малярии вас трясет, руки дрожат, температура очень высокая. Была замечательная молодая врач после института, она доставала для меня хинин, единственное лекарство от малярии, лечила меня. Если бы не эти люди, мне бы, конечно, не выкарабкаться. Один раз ко мне приезжал папа. Ну, вы представляете, что это было за свидание: пожилой уже человек приехал из Москвы. Там, где находилась вышка и проходная в лагерь, была комната. Папа сидел с одной стороны стола, я — с другой, и мы разговаривали. Нет чтобы нам выделили полдня, побыть вместе. В комнате находился кто-то из мелких начальничков, они все про нас знали, как мы работаем, и папа у него додумался спросить: «А как она себя здесь ведет? Не озорничает?» — «Да нет, что вы…» Мой арест, конечно, отразился на семье. Одна родственница сказала папе: «Ты — враг народа». И мачеха мне это говорила. Разве этого мало? Представляете, как в сознание людей вошла вот эта фраза — «враг народа»? Выжить в лагере помогало желание жить. Я очень люблю жизнь. Мне и сейчас при всех неизбежных недугах хочется жить. Были люди, которые отчаивались: «За что я здесь?» Но я их оправдываю. Они действительно ни за что пострадали. Например, литовка Милда, с которой я была в очень хороших отношениях, у нее был муж-дипломат, грудной ребенок. Муж успел уехать в Англию, когда началось присоединение Прибалтики, а она не успела. Но ее как жену взяли. Ребенка своего она не видела больше восьми лет. Одно время в лагере мне было очень лихо, я была в депрессивном состоянии и проявила слабость, прямо скажу: написала заявление, чтобы меня простили. Хотя в душе я своих убеждений не оставляла — я уже видела, кто находится в лагере, мне не нужно было доказательств, в какое время я живу. Написала, что совершила этот поступок по легкомыслию, сделала ошибку. Я просила об изменении меры наказания, об уменьшении срока. Написала я это на крошечном листочке, не по форме. Кажется, это письмо так и осталось неотправленным, потому что ни ответа ни привета не было. Наверное, самым тяжелым в лагере для меня было сообщество разных людей в тесном помещении, я почти никогда не могла побыть одна. Не только в бараке, даже в зоне все время были люди. Ну и потом, что говорить, условия жизни были кошмарные. Чтобы выжить, надо было иметь отдушину, найти себе какое-то постороннее дело, не связанное с лагерными работами. У меня такое было — занятие языками. Я попросила учебники английского и немецкого языка, и мне их прислали мои сестренки, я учила языки, немножко читала на досуге, когда была свободна, но времени было мало, конечно. А так кто-то вязал, особенно прибалты — Милда, например, все время рукодельничала. Ей замечательные посылки присылали, она неплохо жила. Такое литовское сало привозили! По-моему, один раз мне дали кусочек попробовать. Особой близости, дружбы с лагерными женщинами у меня не было. Была у нас Полина, намного старше меня, мы были в хороших отношениях. Нам платили какую-то зарплату, но я была совершенно материально незаинтересованная и все деньги отдавала ей, не думая о том, что мне придется когда-то освобождаться, а надеяться мне не на кого. Я не думала об освобождении. Я как старшему товарищу ей доверяла, думала: ну где мне их, под подушкой хранить? Буду отдавать Полине. Но она оказалась не совсем порядочным человеком. Ее освободили, и, конечно, она ничего мне не вернула. Побегов и восстаний у нас не было, никто даже не думал об этом. Все женщины были простые и законопослушные лагерному расписанию. 5 марта 1953 года во время работы вдруг нас всех заставили выстроиться. Мы встали по прямой линии, и один из начальников нам сообщил, что в такое-то время скончался наш замечательный вождь, товарищ Сталин. Там еще дифирамбы были. Помянем его, в общем, минутой молчания. В это время стали стрелять из ружей. Мы стояли как вкопанные. Все приняли это молча, ничего не говоря. Каждый думал про себя, я в этом не сомневаюсь: «Господи, теперь будут изменения, что-то будет». Надежда сразу появилась. Вот и все, а потом опять взялись за работу. В один из прекрасных сентябрьских дней меня вызвал начальник и сообщил, что в результате какой-то там статьи[77] о снижении срока и досрочном освобождении я могу собираться, завтра мне на выход. А я заранее — уже ведь шли разговоры, что будут поблажки, амнистия, — попросила одного вольнонаемного шофера-немца купить мне чемодан, хоть у меня и вещей было мало. Под надзором конвоира я с ним даже по-немецки болтала, он был очень доволен, потому что не с кем было говорить. Вышла я с этим чемоданчиком, женщины меня проводили, некоторые со слезами. Доехала до Ульяновска. И куда, думаете, я пошла в первую очередь? Мне хотелось посмотреть дом, где жил Ленин. Я, собственно, ничего против него не имела. До Ленина у меня дело не дошло. Двухэтажный деревянный дом, скромная обстановка, в его комнате — кровать, стол, расческа со сломанными зубьями на столе, все. Я присоединилась к экскурсии и потом даже отзыв какой-то написала. И снова на вокзал — у меня было всего несколько часов. До 1955 года я жила в Можайске — в Москве мне было нельзя, только за 101-м километром. Работала в ателье. Потом разрешили вернуться, и я устроилась работать в маленькую гостиницу около Киевского вокзала. Денег было очень мало, и мне помог Изя Мазус — он освободился раньше и работал слесарем на механическом заводе. Позвал меня туда. Этот заводишко оказался под забором Бутырской тюрьмы. Вот такая ирония судьбы. Я в это время для души пошла играть в народный театр, он располагался во Дворце культуры Метростроя. Там работал замечательный режиссер — Марк Григорьевич Альтшуль. Он меня принял, проверил, есть ли у меня способности, дал мне задание — сыграть этюд: я прихожу наниматься на работу. Я сыграла. Поскольку это было для меня чрезвычайно важно и жизненно — сейчас меня не примут, — руки у меня дрожали по-настоящему. Потом он два дня рассказывал актерам: вот как надо играть! Утвердил меня на главную роль в пьесе Корнейчука «Калиновая роща» и попросил нас, актеров, написать легенду, что мы думаем, играя свою роль. А я, поскольку всегда увлекалась оперой, написала ощущение Недды из «Паяцев» — незадолго до смерти она пишет, как ее радует жизнь, птички небесные. Марк Григорьевич так восхищался моей работой: мол, простая рабочая, а как пишет! Он же не знал, что я успела окончить три курса института, я не рассказывала ему про свою жизнь. А потом я устроилась во Всесоюзный информационно-технический институт. Работала машинисткой, младшим редактором. Редактировала тексты, выправляла, советовалась с инженерами. Вскоре мне надоело исправлять чужие ошибки, и я начала готовиться к экзаменам в институт. Я, конечно, сомневалась, возьмут меня или нет. Но потом решилась и в 1957 году снова поступила в Институт иностранных языков, мне тогда было уже тридцать лет. В 1961 году вышла замуж, родила дочь. Конечно, было очень трудно. Младенец, учеба, работа, нехватка денег. Но все-таки осилила, не пала духом, не опустилась, так же как и все мои товарищи: все состоялись. Я была очень упрямым человеком. У меня сложилось такое мнение о власти, что я вообще не хотела к ней обращаться за документами о реабилитации — ни к какой власти, даю вам слово. Думала, проживу и так, судимость-то снята. Кроме того, во время пожара в отцовском доме в Кунцеве сгорели все мои лагерные документы и письма, у меня не было даже справки об освобождении. В 1989–1990 гг. я все же написала министру внутренних дел очень коротенькое, лаконичное письмо. Еще гордость во мне жила: мол, зачем я буду к вам обращаться с просьбой, не хочу, я уже имела слабость написать писульку.«Прошу выдать мне справку о моем местопребывании в исправительном трудовом лагере, мне это нужно для стажа работы».Других слов не писала. Я даже не надеялась, что мне ответят. Но мне пришел ответ из Ульяновской области, из отделения КГБ. В итоге в 1991 году я получила документы о реабилитации. Когда начались эти реабилитационные события, меня вдруг вызвали в КГБ на Лубянку. У меня все внутри сжалось. «Ну все, — думаю, — кто-нибудь донес, стукнул, меня опять вызывают на Лубянку — зачем?» Я шла, волновалась: что меня ожидает? «Анна Николаевна, вот мы хотим узнать, правильно ли вели следствие в отношении вашего дела? Согласны ли вы с тем, что здесь написано?» — «Да, я согласна со всем, что здесь написано, и я не отказываюсь от своих слов и не требую пересмотра дела, пусть все остается как есть». Удивительные у меня в жизни бывали случаи, мистические. Был у меня такой и со Сталиным, уже после его смерти. Однажды в сердцах я его очень ругала. Я задремала в комнате, и видится мне: выезжает он в кресле и смотрит на меня суровым взглядом, я очень напугалась. Потом — еще раз, опять на меня, смотрит с упреком. Вот верьте не верьте, все по-разному относятся к жизни, из которой мы уходим, но что-то такое в природе есть, в самой энергии, что передается. Я не знаю, что остается от сознания. Думаю: «За что он так на меня посмотрел?» Я расценила это так: «А ты-то что? Что тебе было надо? Для тебя были созданы условия, учеба. Ты что, была политиком? Тебе нужна была свобода слова? Жила бы своей жизнью и не лезла. А я рабочим в последнее время дал свободу, чтобы их принимали во все учреждения». После этого я перестала его ругать. Но к тому времени никому не советую возвращаться. Если бы меня спросили и тогда, и сейчас: «Жалеете ли вы, что прошли вот это все?», я бы сказала: «Нет, не жалею». Что случилось, то случилось. Мой муж, он всегда был моим единомышленником, однажды сказал: «Ох, я бы морду набил тому, кто тебя выдал, вот этим кулаком». Я ответила ему: «Знаешь, друг мой, попади ты в те условия, я не знаю, как бы ты сам себя вел». Существует несколько версий нашего «провала». Это загадка. Но в условиях общества, в котором мы жили, в нашей ситуации не попасть в тюрьму было невозможно. При той системе, режиме, повальной слежке, как только мы выразили свое отношение к политическим событиям, условиям нашей жизни, мы уже были обречены. Как писал Горький: «Безумству храбрых поем мы песню!..» С нашей стороны это было безумство. Но мы все равно внесли свою крошечную лепту, пусть одну миллионную, в изменение жизни. В то время нужно было кому-то заявлять о сложившемся положении в стране. Разоблачение культа личности Сталина подтвердило, что мы были правы, что нам себя обвинять не в чем. У меня и до ХХ съезда сомнений никаких не было. Я узнала умнейших и очень смелых ребят, таких людей очень мало. У меня остались самые лучшие впечатления, я их ни в чем не упрекаю. Хотя, не встретив их, я бы не была там, где я была почти шесть лет. Пусть люди помнят, чтобы такое у нас в стране больше не повторялось. Люди рождены свободными и жить должны в свободе. Вот мое последнее слово.

Анна Заводова В конце 1940-х — начале 1950-х годов объектом пристального внимания карательных органов стала молодежь. Один за другим следовали процессы по делам «изменнических», «террористических», «антисоветских» молодежных организаций и групп. Создание «Всесоюзной демократической партии» началось в старом здании МГИМО у Крымского моста в 1945 году, с момента встречи двух ее будущих лидеров: студентов Александра Тарасова и Виктора Белкина. В институте поощрялись дебаты, но вскоре они стали проводиться без участия преподавателей. Студенты быстро пришли к обсуждению насущных экономических и политических проблем в стране, что невольно привело к критике власти. Среди студентов возникла идея создания организации на марксистской основе, которая могла бы не только доработать марксизм теоретически, но и объединить передовых людей страны. В 1948 году члены организации — А. И. Тарасов, В. И. Белкин, И. А. Мазус, Б. Н. Воробьев, А. Н. Заводова, С. И. Черепинский, Л. С. Сельцер-Михайлова, А. В. Винокурова, В. Д. Климов, В. Л. Гаркавцев — были арестованы и осуждены от семи до 10 лет исправительно-трудовых лагерей по обвинению в создании антисоветской организации с целью свержения существующего строя. Репрессии в отношении молодежи преследовали цель задушить малейшие зачатки политического инакомыслия, не дать новому послевоенному поколению взглянуть на мир другими глазами и усомниться в совершенстве существующего порядка. Члены «Всесоюзной демократической партии» были реабилитированы в 1989–1990 годах.
ВИТАЛИЙ БЕЛИКОВ

Виталий Беликов (в центре) с отцом и сестрой матери, 1930 год
Интервью записано 1 июля 2015 года. Режиссеры Ирина Бузина и Вероника Соловьева. Оператор Вероника Соловьева.
Виталий Анатольевич Беликов родился 31 января 1924 года в городе Грайворон Курской (ныне Белгородской) области. Его отец — радиоинженер по образованию, мать работала на почте. В 1927 году семья Беликовых переехала в Харьков, где отец получил работу. Через два года Нина Сергеевна скончалась от опухоли мозга. В 1941 году Виталий Беликов окончил 9-й класс школы. Вскоре из оккупированного Харькова его угнали в Германию. В 1945 году Виталий решил отправиться навстречу советским войскам. Так он был обнаружен контрразведкой Смерш[78] и оказался в строю солдат, шедших на Берлин. В 1947 году был демобилизован и приехал в Москву, где жили его родственники. Сдал школьные экзамены за 10-й класс, поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). 9 марта 1949 года Виталия Беликова арестовали по доносу однокурсника. Особым совещанием приговорили к 10 годам лагерей по статье 58–10 и направили в Вятлаг, на лесозаготовки. Здесь он завел дружбу с инженером Израилем Мазусом и писателем Борисом Полушиным (Чичибабиным). В 1956 году отбыл семь лет срока, был освобожден условно-досрочно. Приехал в Клин, нанялся в строительное управление бригадиром, дослужился до прораба. В 1986 году Виталий Анатольевич Беликов реабилитирован.
«А следователь врал, что будет суд»
В 1927 году мой отец, радиоинженер, вместе с семьей — со мной и мамой — приехал в Харьков организовывать городской радиоузел. В Харькове я вырос, пошел в школу. Каждое лето на каникулы я уезжал к родственникам в Москву, возвращался обратно 30 августа, чтобы к 1 сентября попасть в школу. В 1941 году я окончил девять классов. Уехать из Харькова в Москву не успел: началась война. Если бы уехал, там бы и остался и в 1942-м меня сразу бы призвали в армию. А люди моего возраста очень редко оставались в живых, потому что первые годы войны — это полная неудача на фронте, миллионы погибших. Тем временем в городе была паника. Издали приказ: всем сдать радиоприемники. На весь город было устроено три пункта, и толпы людей приносили туда аппаратуру и получали бумажку о сдаче. Это делалось для того, чтобы никто не ловил никаких волн и не слушал сообщений. Но мой отец был все-таки радиоинженером, у него оставался коротковолновый примитивный приемник, мы его не сдали. Я им все время пользовался, мне было интересно: для каждой волны нужно было вставлять разные катушки. Мне хотелось помогать фронту, и отец устроил меня на работу радиомонтером. Люди ведь сдали радиоприемники, а радиоточек нигде не было. Надо было проводить радио в каждую квартиру. Я немного поучился у мастера и вскоре уже работал сам. В нашей школе устроили госпиталь. И меня направили туда провести в каждый класс провод, чтобы раненые могли слушать радио. Недели две мы работали. И первые жуткие впечатления, которые остались у меня на всю жизнь: тяжелораненые, у которых не было ни рук, ни ног. Обрубки. Многие пытались покончить с собой, просили, чтобы не сообщали родным. Немцы вошли в Харьков 17 октября 1941 года. Получилось так, что из города к этому моменту уехало все начальство. Харьков остался без властей, и население начало грабить магазины, склады, тащить все, что было можно. В тот день утром отец со своей женой, моей мачехой, поехали к ее родственникам на окраину города, а я остался один в квартире. Вдруг слышу, тарабанят в дверь. Я открыл, на пороге стоял немец. Я обомлел: как же так, когда я Левитана[79] слушал, он сообщал, что идут упорные бои за Харьков, а тут не стреляли, ничего — и вдруг солдат-немец. Он молча зашел в квартиру и стал ходить по комнатам, ну и я за ним. Подошел к гардеробу, открыл, а там висела отцовская форма связиста. Связисты носили темно-синюю: китель, брюки с голубеньким кантом. У отца на кителе было две звездочки, как у старшего инженера. Немец показал на форму: «Коммунист?» — «Нет, радиоинженер». Потом подошел к буфету, а там стояла литровая банка с повидлом. Он эту банку забрал и поставил себе в сумку, потом зашел в комнату отца, там была двуспальная кровать, покрытая светлым покрывалом, а под ним — широкое шелковое желтое ватное одеяло. Вот он это одеяло свернул, взял с собой и ушел. Ничего не сказал. Так немцы зашли. Я удивился: как же так, что ж такое? Включил радио, опять поймал Левитана: «Идут упорные бои за Харьков, немцы несут потери, столько-то пленных взяли, столько-то подбито танков». И целых три дня подряд была такая информация. А немцы уже вошли даже в нашу квартиру, меня прогнали из комнаты, заняли ее, а Левитан все сообщал, что идут бои за Харьков. Потом наконец по радио сказали, что после упорных и продолжительных боев наши войска оставили город Харьков, а немцы понесли огромные потери. Прошло, наверное, недели две, как вдруг днем подъехала машина, из нее вышел немецкий офицер и спросил: «Где тут инженер Беликов?» Мы испугались. Отца забрали и увезли. Что думать? Почему его забрали? Мысли всякие в голове нехорошие. Часа через три-четыре он пришел домой. Немцы решили восстановить Харьковский радиоузел, нашли в списках работников отца, всех монтеров, пригласили к себе и заставили работать. Узел вскоре был восстановлен. Отцу стали давать паек. Хлеба он получал немного, на всех не хватало. Магазинов в городе не было, нужно было чем-то кормиться, и горожане стали ходить в деревни: одежду, предметы домашнего обихода, кастрюли, сковородки — все тащили туда и меняли у крестьян на зерно. И я пару раз успел сходить зимой 1942 года. Помню, менял сковородки и привозил понемножку зерна. Его мололи в ручной кофемолке, делали лепешки и вот этим питались. В марте 1942 года было объявление по городу: все жители должны явиться с паспортами в комендатуру для регистрации. Мы пришли, на меня посмотрели и паспорт не отдали — оставили у себя. Оказалось, всю молодежь увозили на работы в Германию. А мне уже 18 лет. И мои школьные товарищи тоже попали в это дело. Объявили, когда явиться на вокзал. Повезли нас из Харькова в Киев, дорога была уже перешита на узкую колею, потом в Минск, из Минска в Брест и потом через Польшу прямо в Берлин. Ехали в товарных вагонах. До самого Бреста питались тем, что взяли с собой, у кого что было. И только в Бресте нас помыли, покормили какой-то похлебкой. Прибыли в Берлин, нас поместили в общий лагерь — туда приходили хозяева фабрик, заводов и набирали себе рабочую силу. У нас, школьников, никакой специальности не было. Сначала я рыл траншеи, а потом попал на небольшую деревообделочную фабрику. Работало там человек двести-триста. Выпускали упаковочный материал, ящики для снарядов, бомб. Вскоре два цеха сделали механическими, поставили токарные станки и начали собирать гранаты. Немецкая граната изготавливалась с деревянной ручкой, и ее удобно было бросать. У нас таких гранат не было — были круглые лимонки, я это хорошо знаю. Меня определили в механический цех. К семи утра мы приходили, начинали работу, в полдевятого — двадцатиминутный перерыв, нам привозили завтрак, в 12 часов двадцать пять минут — перерыв на обед, и дальше мы работали до шести вечера. В субботу работали полдня. Война шла, а немцы работали полдня. В воскресенье, конечно, не работали. В Пасху, на Рождество и Троицу — в эти три дня не работали совсем. Когда наши войска начали подходить со стороны Польши к немецким границам, мы решили идти навстречу своим. Мы уже ходили свободно в нерабочее время. Бросили все и пошли пешочком навстречу нашим войскам. Наверное, в марте 1945 года мы с ними встретились. Нас сразу проверили СМЕРШевцы, такая организация гэбэшников была, составили анкету и тут же забрали в армию. Пожилых домой отправляли, а нас переодели, и мы двинули опять на Берлин. Так что я немножко повоевал. Война закончилась, настроение, конечно, было такое: слава богу, теперь мы поедем домой! Но ничего подобного. В Берлине мы пробыли до сентября, потом нашу часть перевели на Эльбу, это в 70 км от Гамбурга, и там я служил до 1947 года. Я все ждал, когда же нас отпустят. Наконец с 1 января 1947 года начали отпускать домой ребят 1923 и 1924 годов рождения. Нас вновь погрузили в такой же товарный вагон, дали с собой сухой паек. Питались мы там очень хорошо: у немцев с питанием было прекрасно — война проиграна, а в магазинах все было. Приехал я в Москву в марте 1947 года. Выгрузили нас на Ленинградском вокзале, сопровождавший лейтенант выдал военные билеты. Последний раз я был в Москве семь лет назад, в 1940 году. Приехал домой, снял военную форму и больше ее никогда не надевал. Ну и что делать дальше? У меня девять классов образования — как мне быть, куда идти? Засел за учебники, сдал экзамены за 10-й класс и пошел поступать в МИИТ — Московский институт инженеров транспорта на улице Образцова. Это старинный, еще дореволюционный институт. В августе прекрасно сдал экзамены, хотя демобилизованных из армии принимали без конкурса. Стал учиться, все шло у меня нормально, как полагается. Любил в театры ходить, недели не проходило, чтобы я не был в Малом, Художественном или Большом. Это были мои любимые театры. И вот так продолжалась моя жизнь до 9 марта 1949 года. В этот день с самого утра я надел парадный костюм: вечером мы с одной студенткой собирались в Большой зал консерватории, у нас были абонементы на лекцию по Бетховену. На таких лекциях нам объясняли, как понимать музыку, исполняли отдельные фрагменты, потом целиком произведение, интересные лекции были. Лекция в этот раз прошла очень быстро. Я проводил свою знакомую, она жила на Миусской площади. Вышел на Лесную улицу, ивдруг остановилась легковая машина, оттуда вышел человек в сапогах, в пальто и кепке. «Вы Беликов?» — обратился он ко мне. Я ответил: «Я Беликов, да». — «Пойдемте, пожалуйста, с нами, надо кое-что выяснить». Я удивился: «Так времени уже много!» Было уже одиннадцать часов вечера. «Не беспокойтесь, мы вас отвезем домой». Ну, я ничего особенного не заподозрил. Он открыл заднюю дверь машины — там уже сидел один человек. Я сел рядом, и тут же с другой стороны от меня сел еще один. А тот, кто со мной разговаривал, сел с шофером. То есть они вчетвером с шофером приехали меня одного забирать! Зачем? Позвонили бы — сам пришел. Поехали. «У вас паспорт с собой?» — «Нет у меня паспорта». — «А как же вы без паспорта ходите?» — «У меня студенческий билет есть, я с ним и хожу». Посмотрели мой студенческий билет, забрали себе. Остановились на Кузнецком Мосту, там находилось бюро пропусков МГБ, сделали мне пропуск, потом машина подъехала прямо к подъезду. Мы зашли внутрь, подошли к лифту, там дежурила пожилая женщина в сером халате. Она на меня такими глазами посмотрела, что у меня что-то внутри оборвалось. Мысли еще не было никакой об аресте, но что-то такое… Такой взгляд был у нее. Мы поднялись на седьмой этаж, там находилось Главное управление МГБ на транспорте: я по транспорту проходил от института. Зашли в большой кабинет — сидят два подполковника. «А, Виталий Анатольевич, заходите, пожалуйста». Жмут мне руку. Я в недоумении сел. «Ну, вот мы вас пригласили…» — «Привезли, а не пригласили!» — отметил я про себя. «…Чтобы вы с нами откровенно объяснились: что вас смущает, что вам нравится, что не нравится, о чем ваши студенты разговаривают?» Я потом уже понял, что, если бы я клюнул на это дело и сказал, например: «Наши студенты критикуют советскую власть», — меня бы точно выпустили, но завербовали стукачом. «Как о чем разговаривают? О студенческих делах, о чем мы можем говорить? Как скорее сессию сдать, начерталку, как чертежи сделать, как на практике с нивелирами и теодолитами поработать». — «Ну, вот видите, вы с нами не откровенны…» Через некоторое время пришла какая-то женщина, принесла нам чай и бутерброды с колбасой. И меня тоже угостили. Потом еще беседовали на ту же тему: «Расскажите откровенно, расскажите откровенно…» Наконец, наверное, в час или два мне сказали: «Ну, ложитесь тут, отдыхайте». Я расположился на диване, уснул, они ушли. В шесть утра меня разбудили. Смотрю, лейтенант стоит какой-то. Говорит: «Вот ордер на ваш арест, так что собирайтесь». А что мне собираться? Я как был одет, так и спустился вниз, в самый подвал. Зашли в какую-то большую комнату. Приказали: «Раздевайтесь догола». Я разделся. Стол большой стоял, обитый жестью: все барахло мое, ботинки — все поставили на стол. Стали делать обыск. У пиджака оторвали подкладку, швы и подол прощупали. У ботинка моего подошву оторвали со стороны каблука. Для чего — я не понимаю. Часы забрали, крестик золотой от мамы мне достался — тоже забрали. Потом в бокс меня поместили. Там я оделся. Пуговицы — и на кальсонах, и на брюках — все срезали! Я брюки должен был держать, потому что они спадали. Посадили в какой-то кабинет, часа три я там пробыл — жарко, не продохнешь. Потом вывели во двор. Стояла машина-фургон, как сейчас помню, с надписью «Хлеб». Открыли заднюю дверь, и меня в эту машину. Так перевозили по городу заключенных. Еще «Мясо» было, я потом видел. А в фургоне устроено было так: с одной стороны три закрытые кабины с глазком, с другой три, одна кабина прямо, ближе к шоферу, и свободное пространство — проход. Вот в одной из кабин меня закрыли. Слышал, как еще кого-то провели, еще кого-то. Мы друг друга не видели. Помню, каблуки стучали: наверное, женщину какую-то вели. И так же нас выводили — поочередно. Привезли в Лефортовскую тюрьму. Тюрьма интересная: буквой «К» построена. Металлические ступеньки, проходы вдоль стен и — камеры, камеры, камеры… Стоял дежурный с красным и белым флагом, регулировал движение, чтобы заключенные друг друга не видели. Можешь там годами просидеть, но никого, кроме своих сокамерников, не увидишь никогда. Меня привели в камеру номер 196 на последнем этаже. Там был пожилой, седой уже дядька, Гуревич, я запомнил его фамилию. Он работал в Министерстве путей сообщения. У него было интересное дело. Он жил в большой коммунальной квартире. Жена готовила ему утром завтрак. На столе лежала газета с портретом Сталина. Она сняла с плиты чайник, поставила на газету, и на портрете осталось пятно сажи. Видимо, с соседями отношения были не очень хорошие, кто-то взял и отнес эту газету куда следует. Так Гуревич получил десять лет. Началось следствие. Меня часто возили на Лубянку. И опять-таки, всегда эти машины — либо «Мясо», либо «Хлеб». Однажды встретил там студента из своего института. Его с товарищами посадили: они в общежитии жили, какие-то анекдоты про Сталина рассказывали, их всех и сгребли. Тоже по десятке получили. В марте меня посадили, а приговор вынесли только в начале ноября. Правда, летом был перерыв: мой следователь был в отпуске. Потом хвалился мне, где он отдыхал и как. Следователь — Анатолий Федорович Баринов, старший лейтенант, ему, как и мне, было 24 года, интересный. Однажды я на допрос к нему приехал, а он в железнодорожной форме, значок «Отличник» у него. Думаю, может, когда-то служил там. В другой раз приезжаю — он в летной форме лейтенанта с погонами. «У меня таких форм — целый гардероб! Я могу любую надевать». Можете себе представить, вот встречаешь такого человека на улице, думаешь, порядочный, а оказывается, он — оттуда. Меня не били, не пытали, но допрашивали грубо. «Ну, поговорим, как там у тебя в камере, не обижают?» — вот такие вопросы. «Я ничего не буду говорить, я хочу закурить». Тогда больше «Беломор» курили. Он достает мне пару или тройку папирос. Я хотел встать — сидеть! Подойти к нему — нельзя. Либо сам подходил ко мне, либо швырял мне эти папиросы, чтобы я к нему не приближался. Боялся, что ли? Вот закурю я, и мы ведем с ним разговоры на разные темы, подчас отвлеченные, — такую политику он выбрал. О футболе вдруг начинал говорить: «Ты за кого болеешь? Я — за “Динамо”!» — «“Динамо” — это же гэбэшная команда, конечно». Проходит час-полтора, я сижу молча, а он пишет, составляет протокол, потом мне подносит подписывать. «Я такого не говорил, тут же написано: протокол составлен с моих слов, и я подписываю». — «А-а-а, так ты еще не хочешь подписывать, милый мой? Хорошо». А написано там было, что я вел разговоры о том, что правительство мне не нравится, что Сталин неправильно что-то делает. Я говорю: «Разговоров на эту тему у нас вообще никогда не велось». Он еще что-то написал на бумажке, потом вызвал дежурного, который меня привел, отдал ему бумажку, и тот повел меня в карцер: выписал мне пять суток. Карцер — страшное дело было. Во-первых, там холодно, лежанка обита жестью, защелкивалась к стенке. Лампочка вверху синенькая горит, прикрыта металлической сеткой. И вот сидишь на стульчике, тоже обитом жестью, лечь некуда. Утром дали кружку воды и кусочек хлеба, граммов 150, наверное. И вечером так же. Это все питание. На третий день только днем принесли горячую баланду. Через пять суток меня оттуда увезли и отправили в камеру. «Где ж ты был?» — «Где был, в карцере сидел! Где я мог еще быть». Вот так проходили мои дела, скучные дела. Были ночные допросы: специально на ночь вызывали и допрашивали, а днем спать не давали, там ни в коем случае нельзя было спать. Режим строгий. Час прогулки, притом прогулку могут предложить в любое время. Например, среди ночи: ты спишь — тебя будят и выводят. Во дворе Лефортовской тюрьмы место прогулки заключенных было обшито деревом, вышка с надзирателем располагалась посредине. Запускали нас, и мы ходили по кругу. Я помню, было лето, среди досок в щель пробилось какое-то растение. Я говорю: «Надо обязательно сорвать, поставим в воду». А как сорвать? Ходить можно только с руками за спину. Мы выбрали момент, когда надзиратель вроде отвернулся, я подошел и сорвал этот цветок. Пронес в камеру, поставил себе в кружку. Незадолго до окончания следствия мне устроили свидание. Привели студента из моей группы, еврейчик такой был, Вейсман его фамилия. Мы занимались вместе, потому что все же жили в коммунальных квартирах. Обычно мы приходили в институт и просили у диспетчера дать нам аудиторию, класс какой-нибудь небольшой. Нас человек пять приходило, готовились к экзаменам, чертежи делали. И вот у следователя сидит Вейсман, голову опустил — ни разу он ее не поднял, на меня не посмотрел. Он, оказывается, был завербованным МГБ и настучал, что я рассказывал о том, как живут немцы в Германии. Его спрашивают: «Ну, велись разговоры?» — «Да, разговоры о Германии шли. Он рассказывал о том, как он служил в Германии». — «А о чем он говорил? Что немцы живут лучше, чем мы?» Вейсман молчит. Затем обращаются ко мне. «Я таких вещей не мог говорить, я говорил только то, что я видел, а хорошо это или плохо — оценок никаких не давал. Просто делился с товарищами тем, что сам видел. Как служил, как на Эльбе ходил. В семьях бывал, видел, как немцы живут. Да, коммунальных квартир я там не видел». Кстати, когда с немцами заводили разговор о коммунальной квартире, они у меня спрашивали: «А что это такое? У нас, — говорили, — студенты живут в общежитии при институте, имеют отдельную комнату, чтобы можно было заниматься. А как может семья в одной комнате жить? У нас даже детей, мальчика и девочку, и тех разделяют с малых лет — у каждого своя комната». Я говорю: «Пускай он скажет, давал я оценки или не давал». А тот молчит, но потом: «Нет… не давал, он только рассказывал». Вот это было, так сказать, мотивом моей посадки. И вот наступил день, когда меня вызвали на допрос, но повели не туда, куда обычно. Завели в кабинет, за письменным столом сидел полковник. Мне предложили кресло. Он взял какую-то бумажку из стопки и зачитал: «Такого-то числа состоялось особое совещание МГБ, на котором вам вынесен приговор: десять лет исправительно-трудовых лагерей. Я вам объявил, пожалуйста, распишитесь». Я спросил: «А суд где?» — «Это и есть суд». А мой следователь врал, что будет суд и мне дадут защитника. Я на обороте бумаги написал «читал» и расписался. Меня увели в камеру на первом этаже. Только я туда попал, тут же на меня набросились с расспросами: «Сколько дали?» — «Десять лет». — «Ну счастливчик! У нас тут, смотри: этому двадцать пять, тому пятнадцать, а этому двадцать!» Я был поражен, какие сроки тогда давали! Спустя некоторое время мне принесли мои вещи, выдали отобранные часы, срезанные с одежды пуговицы в мешочке вернули. Крест не отдали, крест пропал. Сообщили, что сейчас я поеду в лагерь. Я говорю: «Ну и что, хорошо». — «У вас претензии какие-нибудь есть?» Я сказал: «Да, вот у меня крест был золотой, не отдали». — «А тут он у вас и не записан нигде. Его нет!» Ну и все, значит, кто-то его себе в карман положил. Посадили в фургон, на этот раз без надписи. Со мной сопровождающий был, в руках он держал, я запомнил, большой синий пакет. Довезли до Курского вокзала, мы вышли, спустились в тоннель. Я подумал: «Куда ж он меня ведет, интересно? Народу сколько тут ходит, и я с ними рядом без наручников иду». Поднялись мы на последнюю платформу, пошли по ней мимо стоящего поезда «Москва — Тбилиси», спустились на рельсы. Прошли по рельсам немного — вижу, стоит столыпинский вагон. Подошли, вышел какой-то сержант, сопровождающий передал ему этот пакет. Спросили фамилию, статью, срок. Я ответил: «58–10, десять лет». И меня проводили в вагон. Этим поездом повезли меня в Вятлаг[80]. Ехали с остановками, первая была в Нижнем Новгороде. Там нас в открытый грузовик очень интересно сажали: садишься на пол, ноги по-турецки, следующий так же, вплотную к тебе, и так рядами, пока не набьется весь кузов. А на каждом углу машины садился человек с автоматом. Выгружались так: пока не поднимется сидящий перед тобой, встать невозможно. Вот такая посадка была у них принята. Я в Нижнем никогда не был, нас провезли так, что я посмотрел и Оку, и Волгу. Привезли в тюрьму. Там я пробыл целый месяц, камера у меня была большая-большая. Интересные лица там были. Например, американец, молодой инженер-строитель. Приехал с группой инженеров из Америки в 1931 году строить Горьковский автозавод. После окончания строительства остался, продолжил работать на этом заводе, женился на русской, а после войны решил найти своих родственников в Америке. Стал писать туда письма, нашел сестру. Она ему ответ прислала. И его посадили «за связь с иностранцами». 1949–1950-е годы были повторением 1937–1938-го — очень много сажали людей в этот период. Потом нас повезли в Киров. А в Кирове тюрьма была такая: отдельные небольшие домики и огороженная территория. В каждом домике одна битком набитая камера. Нары двухэтажные, но спать было негде. Я помню, под нижние нары пролез, мог только лежать, поворачиваться на бок было невозможно. Ночь проспал кое-как. Командовали там воры, они занимали все места на полках, а мы, политические (нас называли фашистами), — кто где. К воровскому контингенту обслуга относилась более снисходительно, чем к нам. Например, их брали в самоохрану: они жили вместе с охранниками, солдатами, охраняли нас, на вышке стояли. Из Кирова повезли нас на станцию Верхнекамская, там кончалась железная дорога Министерства путей сообщения, и дальше шла железная вятлаговская — по Кировской области, через Коми АССР и до Воркуты. Эта дорога даже на карте нигде не обозначалась. По обе стороны — лагеря, лагеря, лагеря. Второй лагпункт, куда я сначала попал, был «бревной». Специализировался на лесозаготовках. Был там и инвалидный цех, где работали безногие: делали из дерева шахматы, домино, шашки, шкатулки, стулья, мелочь всевозможную. Максимальный срок обитателей был десять лет, больших сроков там ни у кого не было. Политических было много. Там я познакомился с будущим знаменитым поэтом Борисом Чичибабиным, инженером Израилем Мазусом. Привезли нас в лагпункт, завели в юрту. Вдруг забегает какой-то парень в валенках, в телогрейке: «Кто тут студенты из Москвы? Братцы, я — Мазус, тоже из Москвы, студент авиационного института. Я здесь работаю нормировщиком. Надо как-то сделать так, чтобы вас задержали тут, не послали дальше. Там лесоповал, очень тяжелая работа и положение другое. Я постараюсь что-нибудь сделать». Пошел, действительно что-то там кому-то сказал, и нас, двоих студентов, задержали — определили в строительно-ремонтную бригаду. Однажды эта бригада дала нам задание пойти на пекарню: там у них лопнула печь. Нужно было прийти, где-нибудь в земле покопаться, найти глину, развести ее водой. Потом должен был подойти другой человек, специалист, и замазать щели в печи. Ломики, говорят, с собой возьмите. А это уже был декабрь, 35 градусов мороза. Покопаться в земле. Вот мы с товарищем моим, Юркой, стали долбить. Разве продолбишь эту землю, когда 35 градусов? Мы поковырялись немножко, потом зашли погреться, а заведующий этой пекарней был немец — Келлер его фамилия, я запомнил, худенький такой мужчина. Он из немцев Поволжья, их же, когда война началась, кого посадили, а кого выслали. Вышел к нам: «Сейчас я вам, ребятки», — и вытащил из печки буханку хлеба. Горячую буханку весом четыре килограмма! Хлеб тогда был сырой и всякие примеси содержал — отруби, все, что угодно, там могло быть, но мы умолотили сразу! Получилось так, что после ремонтно-строительной бригады я стал счетоводом. В бухгалтерии был такой «вещстол»: сидел счетовод, который вел учет всех заключенных лагпункта — прибывающих, убывающих, — а также заполнял карточки выдачи вещей. Например, выдают заключенным белье, меняют — летом давали майки и трусы, — значит, счетовод записывает: такой-то сдал майку, получил трусы. И вот освобождался счетовод, и мне предложили занять этот пост. Я и согласился, конечно. Весь 1950 год там проработал, пришлось мне всякие отчеты составлять, но зато я научился здорово на счетах считать. Мне там очень помог один майор, Гордеев. Он был заведующим складом одежды. Осужден был всего лишь на три года, а жена — на пять лет. Ее лагерь находился недалеко, и он постоянно ездил к ней на свидания, передвигался без пропуска, свободно. В Москве Гордеев жил на Маломосковской улице — там же, где и я. Когда он узнал, что мы земляки, сказал: «Ты когда домой будешь писать, не бросай письма в здешний ящик. Потому что они долго будут идти: пока их проверят, могут и не пропустить. Я прямо в ящик поезда бросаю». И все мои письма домой он стал так переправлять. Тем временем в Москве моя бабушка лежала, разбитая параличом, тетя за ней ухаживала. Отец же получил пять лет лагерей за то, что «сотрудничал с немцами» — восстанавливал радиоузел. В 1946 году его осудили, в 1951-м он освободился. Отбывал в Воркуте, занимался строительством. Морально мне было очень непросто в лагере. Думал: останусь ли я жив? Через десять лет мне будет тридцать пять, и не факт, что меня освободят. Был у нас человек на втором лагпункте, подошел конец его срока. Ему оформили бумаги, отправили на волю. На следующий день его привезли обратно: оказывается, у кого был суд или трибунал — тех освобождали, а приговоренные Особым совещанием получали новый срок. Тогда и с питанием очень тяжело было. Для заключенных был установлен такой порядок: хлебная гарантированная пайка — 650 граммов. Утром — какая-нибудь каша, обычно перловая или овсяная, один черпак. Обед — баланда: нечищеная картошка, квашеная капуста, если зимнее время. Если капуста прокисала, тоже в баланду шла, поэтому запах был очень неприятный. Надо было привыкнуть, чтобы эту пищу употреблять. А на лесоповале для получения пайки нужно было выполнить норму. И была она трудновыполнимая, подчас вообще невыполнимая. Если заключенный выполнял норму на 100 %, то пайку получал стандартную, без добавок. Если выполнял 105 %, то ему добавляли 100 грамм хлеба и один черпак каши. Если 110 % — еще один черпак и еще 100 грамм хлеба. Но это редко случалось, потому что пилили мы вручную лучковой пилой. А каждому заключенному (там бригадами работали) надо было дать три куба леса: спилить, обрубить, распилить на части. Это было невозможно. Все было построено на приписках, за это платили взятки. Заключенные же получали какие-то небольшие деньги за работу. Чтобы получать хорошую пайку, им приписывали выработку. Бригадир собирал с заключенных деньги, нес куда-то, в итоге начальники получали деньги и приписывали, что заключенные все напилили по три куба. А как потом выходить из положения? А потом делался пожар. Пожары возникали регулярно: «Склад сгорел, все списали». Вот такая была практика. На лесоповал я попал так. Шел 1951 год. Однажды мы, как обычно, в обеденный перерыв пошли в столовую, пообедали, зашли к себе в барак, а в это время принесли газеты. Помню, это была газета «Кировская правда», и на первой странице напечатано постановление Совета Министров СССР о строительстве канала Волга-Дон. И вот один человек, он у нас в бухгалтерии работал, Марочкин, говорит: «Ну, теперь нашего брата туда загонят и построят канал, какой разговор может быть». Эту фразу он сказал, и буквально через день меня вызвал кум. Кум — это лагерное прозвище начальника особого отдела, при каждом лагере был. Я зашел в кабинет, здравствуйте-здравствуйте, сел. «Вот слушай, позавчера в вашем бараке Марочкин произнес такую фразу, что нагонят вашего брата, и канал будет построен. Ты слышал этот разговор?» — «Что-то такое было…» — «Так вот, ты подтверди мне, что такой разговор был». Я говорю: «Я не могу подтвердить, если бы вы меня заранее предупредили, чтобы я запомнил, — это ж дело серьезное, а вдруг я не совсем точно фразу запомнил?» Он сразу понял, в чем дело, как стукнет по столу кулаком, стекло разбил: «Вон отсюда!» Я ушел. Прошла ровно неделя, приходит ко мне нарядчик: собирайся на этап. Я распрощался со всеми, меня посадили в вагон и отправили на этап. И поезд меня привез аж на 19-й лагпункт, по пути сколько их было! Это был огромный лагпункт — 2500 заключенных с большими сроками, воров-законников очень много было. Но нарядчик на втором лагпункте, который работал вместе с Борисом Чичибабиным, дал мне записку и сказал: «Ты когда приедешь на 19-й лагпункт, тебя сразу лагерный нарядчик будет принимать, его кличка — Красота, ты ему эту записочку передай». В записке он написал, чтобы мне помогли устроиться и чтобы сразу на лесоповал не посылали. Занимались там в основном валкой леса, возили его по пластинной деревянной дороге. Приехал я туда с вещмешком за плечами: книг у меня собралась целая библиотека. Встретил меня Красота — не зря у него была такая кличка, — и отправили меня в какой-то барак, где были не нары, а койки. Дня через три вызвал меня главный бухгалтер, высланный немец: «Есть у нас конный парк. — Лошадей использовали для транспортировки на лесоповале. — Будешь там счетоводом». И стал я работать в конном парке: на каждую лошадь велось целое дело. Потом отправили меня на командировку 19-го лагпункта, работать на лесоповале. Не очень долго я занимался непосредственно валкой леса — поставили меня учетчиком. Я замерял и маркировал уже распиленный лес. Ходил и в ночную смену. Три года прошло, я получил пропуск на бесконвойное хождение. День, когда умер Сталин, запомнился мне на всю жизнь. Я был на командировке 17-го лагпункта «Березовка». Это был маленький лесоповальный лагпункт, всего 800 человек работало, оттуда я и пошел на освобождение. В тот день я работал в ночную. Сидел в бараке, и вот в семь часов развод. Это значит: выходят все и выстраиваются бригадами перед воротами. Стоят нарядчик, учетчик — людей по порядку выпускают и записывают. Конвой принимает и ведет в лес. А над воротами (их еще не открыли) висел огромный репродуктор. И вдруг Левитан объявляет последние известия таким особенным тоном: «5 марта в таком-то часу скончался великий вождь народов Иосиф Виссарионович Сталин». Восемьсот человек, которые выстроились, как грянули «ура» и стали шапки подбрасывать вверх. Начальник открыл ворота, потом сразу закрыл — не знал, что делать. И политические, и уголовники — все кричали «ура». Потому что знали: раз такое дело, то обязательно будет и амнистия, перемены будут обязательно. Прошло некоторое время, и ворота открылись. Выходя, я поздоровался с начальником: «Здравствуйте, гражданин начальник!» — так было положено. Он мне сказал: «Как же мы теперь будем жить?» Я ничего не ответил и пошел дальше. Потом действительно была объявлена амнистия[81], но только для тех, у кого срок был до пяти лет. А у политических заключенных таких сроков ни у кого не было, поэтому все мы остались, а вот уголовники пошли на освобождение. И настолько сразу обмелело, что некоторые лагпункты стали закрываться. Меня отправили на 17-й лагпункт — там находились только те, у кого была 58-я статья. Отношение к нам изменилось в корне: разрешили свободно выходить куда хочешь: ни обысков, ничего! Можно было брать продукты в сухом виде и готовить себе. И главное — сразу же начались пересмотры дел. Приезжали специальные комиссии, ходили по лагпунктам. Тем, кто отбывал свои десятилетки по «особому совещанию», сразу давали справку о реабилитации. И я ждал, что ко мне тоже подъедут. И вдруг меня вызвали к начальнику: «У тебя конец срока с зачетом рабочих дней. Я не имею права ни одного дня тебя держать». Я спросил: «Так может, комиссия приедет?» — «Комиссия еще где-то на 5-м или на 7-м лагпункте, а наш 17-й — ее еще месяцы ждать, чтобы она сюда приехала, а я тебя держать не имею права». Я получил паспорт, в котором было написано: выдан на основании справки номер такой-то — а это уже сигнал, что меня нигде не пропишут, что я заключенный, бесправный человек. И с таким паспортом я приехал в Москву. Куда мне деться? Прописаться не могу. Моя тетя порекомендовала мне поехать в Клин к родственнице своей знакомой: «Ты можешь там остановиться, может, и пропишешься». Приехал, пошел к начальнику паспортного стола, говорю: «Я вот такой-то, из Москвы приехал, жил там, теперь там не могу». — «А мы заключенных не берем, нам такие тут не нужны». И я уехал ни с чем. Решил пойти в главную прокуратуру Москвы. Попал на прием к одному заместителю. А он в 1949 году был главным прокурором МГБ на транспорте, его подпись стояла под моим ордером на арест. Мне бы надо было промолчать, дураку, но я пришел и говорю ему: «Вы мне подписывали тогда ордер, я освободился, мне надо, чтобы пересмотрели». Он переменился в лице и не стал со мной разговаривать — не прошло это дело. И тогда поехал я в областную прокуратуру. Стоял в очереди полдня, пока дошел до нужного генерал-майора. Зашел, он квадратный такой, сидит. Я говорю: «Вот такая картина, меня не прописывают. Куда мне, обратно в лагерь, что ли, ехать?» — «А это не мое дело. И зачем нам такая публика подозрительная? Заключенные всякие будут засорять Москву и Московскую область». Я вышел. Меня выручила секретарша, молоденькая девочка: «Неудача у вас, наверное?» — «Да, не знаю, куда идти». Она посоветовала подняться на этаж выше, там какой-то полковник сидел, и очереди никакой не было. Я рассказал ему свое дело. Он меня спросил: «А вы по какой статье?» — «58–10, Особое совещание, десять лет». — «Давайте бумажку». «Прописать постоянно», — написал и расписался. Я приехал в Клин, принес бумагу в паспортный стол: «Это другое дело». Вот так я оказался в Клину. Когда получил прописку, пошел в строительное управление. Меня там хорошо приняли, сразу поставили бригадиром разнорабочих, а потом и прорабом: я весь Клин строил — школы, дома. Однажды я где-то на участке был, мне по телефону позвонил начальник: «После работы в пять часов я тебя жду в моем кабинете». Подумал, случилось, наверное, что-то. Приехал в управление, он мне шепотом говорит: «Тебя сегодня вечером в КГБ вызывают». Пришел в КГБ, меня встречают, руку жмут. «Что такое?» — думаю. В кабинет начальника провели, посадили: «Ну, как вы устроились, как у вас дела?» Я говорю: «Да вот, работаю, живу». — «У вас, может быть, есть претензии какие-нибудь? Вам помочь надо в чем-нибудь? Теперь уже КГБ совсем другая организация. Вот я, например, окончил МГУ. Так что мы теперь совсем другие люди». Ну, я сижу, молчу, потом говорю: «Нет, у меня нормально пока все». — «Ну, вы в случае чего звоните, приходите, если вам что-нибудь надо будет». Ну ладно, думаю. «У нас есть сведения, что вы занимаетесь перепиской с заграницей, и не в одну страну вы письма пишете. Какая у вас цель, для чего вы это делаете?» Я говорю: «Я филателист с малых лет, с восьмилетнего возраста занимаюсь марками. В журнале “Филателия”, который я выписываю, прочел объявление о желающих переписываться за границей филателистах. Я и переписываюсь: пишу в Польшу, Румынию, во Францию и Югославию. А недавно и в Америку написал. Там у меня появился корреспондент, с которым я обмениваюсь марками: я ему высылаю наши, а он мне присылает американские. Вот и все!» — «Да-а, ну тогда понятно-понятно, хорошо. Вы знаете, в газете “Правда” появилась большая статья на целую страницу об архиепископе Иоанне Сан-Францисском, он бывший князь». Я говорю: «Я знаю этого человека». — «Ах, вы с ним знакомы?!» — «А как же, знаком. Вот как раз марками я с ним и занимаюсь». Познакомился я с ним в Берлине, у него был храм, он был тогда архимандритом, и я в этот русский храм несколько раз ходил. «Ну, и какой он человек?» Я говорю: «Мне понравился, очень хороший, образованный человек. Он сам и стихи пишет, у него труды есть и философские, и религиозные». — «Но вот в “Правде” большая статья, оказывается, он приезжал в Испанию в 1935 году, встречался и вербовал наших военнопленных, чтобы они ехали на Запад». Я говорю: «Может быть, он там и бывал, но как он мог вербовать? Предлагал, может быть, чтобы им туда переехать, если они хотят, конечно. В это я поверю. А так, — говорю, — вранье написано в газете, потому что я этого человека знаю». Мои родственники постоянно мне твердили: «Напиши прошение на реабилитацию!» Я им отвечал: «Принципиально не пойду на это дело!» Я не понимал: ну почему я должен писать? Раз я буду писать — это значит, я прошу. А почему я должен просить, если я не виноват? Обо мне они знают больше, чем надо, — я ж сидел, все досконально известно: что я, где я был, что делал. Они должны сами это сделать. Так я и не пошел получать документы на реабилитацию. А случилось это после 1991 года, уже советская власть кончилась. Однажды я пришел домой, и жена мне говорит: «Из военкомата приходили, попросили какую-нибудь твою фотографию, я дала маленькую». Я в недоумении: почему и зачем из военкомата? Дня через два-три снова жена говорит: «Тебя не было, пришли из военкомата, принесли книжку — реабилитированный». Реабилитация полная, все в порядке. Вот только почему из военкомата? Может быть, они так сказали, а сами пришли из другого места. Может и такое быть.
Виталий Беликов В годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Украины и Беларуси немецкая власть проводила политику насильственного угона подростков и молодежи на принудительные работы в Германию, а также в присоединенные к Третьему рейху страны Европы. В Германии таких рабочих называли «остарбайтеры» (восточные рабочие). Условия жизни и работы были крайне суровыми. Как правило, остарбайтеры жили в лагерях при заводах и фабриках. Рабочий день длился 12 часов, шесть дней в неделю. Труд оплачивался по ставкам втрое меньшим, чем немецким рабочим, оплата была рассчитана таким образом, чтобы ее хватало только на скудное питание, одежду и предметы первой необходимости. Нередко остарбайтеры работали в сельском хозяйстве и жили на ферме. В конце войны более пяти миллионов советских граждан, принудительно вывезенных в Третий рейх, вернулись на родину. Уже в первые послевоенные годы наметилось явное ужесточение карательной политики, направленной главным образом против тех, кто по разным причинам общался или сотрудничал с неприятелем. Бывшие остарбайтеры не были исключением. Они, как и Виталий Беликов, находились под пристальным наблюдением сотрудников госбезопасности. Любые воспоминания и расска зы о жизни в Германии могли быть расценены как антисоветская пропаганда и становились серьезным поводом к аресту и осуждению рассказчика по статье 58–10 УК РСФСР на срок до 10 лет заключения в лагерях. Эта статья часто превращала людей, весьма далеких от политики, в политических заключенных.
ЛИДИЯ ИВАНОВА

Лидия Иванова, фотография из следственного дела
Интервью записано 4 октября 2014 года. Режиссер Мария Гуськова. Оператор Денис Гуськов.
Лидия Михайловна Иванова родилась в 1925 году в городе Электросталь. В восемь лет вместе с семьей переехала в Москву. Отец работал электриком во Всесоюзном институте авиационных материалов, мать была портнихой. В 1943 году юная Лида получила должность делопроизводителя в местном райисполкоме. В 1947 году подруга Рита познакомила ее с иностранцами, приехавшими по делам в Москву. Знакомство было непродолжительным: несколько походов в театр и ресторан, о которых она вскоре забыла. Однако через несколько лет этот эпизод послужил поводом для ареста. В 1950 году Лидия Михайловна была приговорена к пяти годам ИТЛ и отправлена в Потьму (Мордовия). В лагере работала на добыче торфа, а затем — на швейном производстве. Сразу после смерти Сталина, весной 1953 года, Лидия Михайловна была освобождена и вернулась домой, в Москву. Реабилитирована в 1964 году.
«Я сразу говорила: “Я враг народа, была в заключении”»
Мы с родителями жили в Москве в Спасоналивковском переулке, на Большой Полянке. Папа работал в ВИАМ — Всесоюзном институте авиационных материалов, занимался электрикой. У него вообще много патентов на всякие изобретения. Мама была портнихой, шила на дому. Мы с братом погодки: я 1925 года, а он 1926-го. В семье были великолепные отношения. Я в доме не слышала ни одного грубого слова, даже слово «дурак» не звучало. У нас была идеальная семья — взаимопонимание, уважение. Детство хорошее. Во дворе было много детей. Мы жили на Полянке в двухэтажном доме с печным отоплением. И была терраса вдоль всего дома. Там ставили самовар и собирались все соседи. Песни пели, женщины вспоминали молодость, как они в Александровском саду с горок катались. Как-то все запросто. В 1937 году у нас в доме одного арестовали, он в НКВД работал. Все шептались: «Ой-ой-ой». У него остались дочка и сын. В общем, он не вернулся — это я знаю точно. Наверное, расстреляли. Я окончила восемь классов, началась война, и в школу я больше не вернулась. Папу не призвали, потому что ему было уже за пятьдесят — мы дети поздние. В его институте всех эвакуировали, а он остался в своей лаборатории как ответственный. Нам и в голову не приходило, что Москву могут сдать. У нас был ориентир — папа, раз он сказал — так и есть. Он был уверен. Во время войны продукты получали по карточкам, но мы особенно не голодали. Папа делал какие-то электроплитки — их продавали. Мама шила за деньги: у нее был свой круг постоянных клиентов. Помню, папа одну лампу настольную, еще дореволюционную, отнес в Торгсин, какие-то деньги большие за нее дали. Брат Николай во время войны работал на заводе электросварщиком. Потом его товарищ подбил на водителя учиться, и он окончил шоферские курсы. Его мобилизовали на трудфронт под Крюково, там он немцев видел. Во время обстрелов мы дежурили во дворе. У нас стоял песок — зажигалки гасить, если они попадут во двор. В доме жил один старый моряк, он нами руководил. Сидели, песни пели, смотрели, как разноцветные трассирующие пули летали по небу. Мне было 16 лет, а в 16 лет все глупее глупого. Еще мы общественную работу выполняли: какие-то бумажки жильцам разносили. Так я познакомилась в домоуправлении с одной женщиной, и она мне почему-то работу в райисполкоме предложила. И я с 1943 года в этом райисполкоме работала. Общий отдел — делопроизводство: вся корреспонденция к нам поступала, письма от населения, жалобы. Это хозяйственное управление райисполкома. Работала я там с 1943 до 1950 года. А в 1950 году меня арестовали. У меня была подруга Рита — мы учились в одной школе и стали дружить. Она встречалась с иностранцами, с румынами. Они приехали в Москву заключать договоры, кажется, занимались нефтью. Был 1947 год. Рита их уже знала и пригласила меня. Мы встретились в Большом театре. Что мы там смотрели, не помню, потому что я в Большом театре все переслушала, пересмотрела не один раз. Они были намного старше, им, наверное, было под пятьдесят, за сорок точно. Мы обсуждали спектакль, делились впечатлениями. Они, оказывается, и раньше видели меня когда-то в театре. Один сказал: «Мы боялись подойти — у нее такие глаза…» А что мои глаза? Может, я более строгая. Из театра они отвезли нас домой. Потом мы были в Концертном зале имени Чайковского, снова в Большом театре и, по-моему, два или три раза в ресторане. И они уехали. После этого Рита еще с другими иностранцами встречалась, но меня больше не приглашала. И через некоторое время они снова приехали в Москву, позвонили — у них был мой телефон. А он, оказывается, прослушивался в исполкоме. Я так поняла. Я им сказала, что Рита не может прийти: у нее ребенок родился. «Ну, приходите вы». И я с ними встретилась в кафе на первом этаже гостиницы «Националь». Они мне передали для Риты деньги — на коляску для ребенка. И все на этом закончилось. А в 1950 году Риту арестовали, потом и за мной пришли. Вот и вся сказка. Когда мне ордер на арест предъявили, там было написано: «За связь с рядом иностранных государств». Вот так. Я никогда не винила Риту в том, что случилось со мной. Никогда. Я всегда ей очень сочувствовала, она хороший человек, очень хороший. Вот так судьба сложилась у нее. Просто, как я считаю, нужда заставила. Мама у нее выпивала. И еще две сестры были, моложе ее намного. А она видная блондинка, красивая, статная. Я думаю, ее туда так и толкнуло. С иностранцами было интересно. Они вежливые, ухаживают, приглашают то в театр, то на концерт, то в ресторан. Кто тогда, в то время, пригласил бы в ресторан? Ей нравилось проводить с ними время. Чтобы с ними иметь дальше какую-то близкую связь — у нее этого не было. Рита родила ребенка от одного русского композитора. Красивый мальчик был, но он умер. Ему месяцев шесть было. Заболел — что-то с почками. И ее сестра двоюродная позвонила этому молодому мужчине. Рассказала, что у Риты ребенок, что он болен, просила помочь. Но он никак не поддержал, ничем не помог. Позднее я слышала от общих знакомых, что этот композитор им говорил: «Теперь я понял, почему мне не везет в жизни, — я ее обидел». Рита окончила техникум картографии. Может, поэтому за ней следили, а может, просто так совпало. Тогда многих арестовывали за связь с иностранцами. Когда мама ходила мне передачи передавать, она встретилась с другой женщиной — ее дочка сидела за то, что собиралась замуж за югослава. Оказалось, Риту предупреждали, чтобы она не встречалась с иностранцами. А мне и в голову не приходило, что могут за это арестовать. Я всего раз пять с ними виделась. Значит, за нами кто-то следил. Я уже потом стала вспоминать: один раз, когда меня проводили до подъезда, я заметила, как кто-то быстро за чуланы метнулся. Значит, уже следили. И за ней, наверное, тоже. Риту арестовали за несколько дней до того, как пришли ко мне, я уже была, наверное, готова. Просто ждала. Мне даже не приходило в голову уехать из города: если взяли на заметку, куда ни уезжай — все равно догонят. Я продолжала работать. Все восприняла как какую-то шутку, наверное, я такая глупая. Думаю, что Рита все рассказала: с кем встречалась, кто с ней был. Она все подписала, как мне потом следователь говорил. Хотя у нас разные были следователи. Ко мне приехали ночью с обыском. Обыскали. А я покупала журналы «Англия» и «Америка». Тогда в райисполкоме был киоск, где было все. Вот они их перелистали, впервые увидели. Рассматривали картинки. Очень удивлялись: что это такое — иностранная литература? Больше ничего не нашли. Нет, что-то они нашли — две золотые монеты по десять рублей. Изъяли. Мама на зубы себе берегла. Мне их потом так и не вернули. Сказали: «Придется вам поехать на некоторое время, нам нужно с вами поговорить». А я-то уже знала. Ко мне ее тетя приходила, сказала: «Лида, Риту арестовали». Но из моих никто не знал, я никому не говорила. Отца к тому времени уже не было в живых — он умер в 1949 году, но с нами жили две тети. Мама была спокойна, ни криков, ни плача. Сидели все в ужасе. Никаких вопросов не задавали. Тихо и спокойно. Сказали: «Оденьтесь получше». Я надела платье, туфли и пальто. Помню, что я серьги сняла — у меня были такие бриллиантовые серьги. Я их сняла. Не помню даже, что мама мне сказала. Прощались, она плакала, обняла меня. Мама она такая — слишком сдержанная. Я была как в тумане, послушно оделась и пошла. Сели в машину легковую и поехали. Это было 9 апреля. Привезли на Малую Лубянку. Там я и осталась. Меня отвели в бокс — такая комнатка, полтора на полтора, и скамеечка. Сначала обыск был. Обыскали всю, все сняли. Я провела ночь в боксе этом, и вот там я расплакалась. В ту ночь я вспомнила вдруг, как в начале войны нас отправили на сельскохозяйственные работы — мы сено сгребали. И там ходила женщина, гадала на камушках. Она мне нагадала: «Ты покинешь Москву, потом вернешься и будешь в Москве…» Вот приходят такие моменты, все вспоминаешь. Ночь там просидела, а утром дали матрац и отправили в камеру. В камере человек восемь было женщин, а может, и девять. Мы даже сдвинули две кровати и спали втроем, потому что места больше не было. Окно за решеткой какое-то глухое — еле свет падал. Это улица Малая Лубянка. Старый двухэтажный дом, полы паркетные — помню, мы еще их натирали. Каждый день нас выводили на прогулку во двор. Мы гуляли, и было видно ноги прохожих. Я больше никогда не была на этой улице: там, по-моему, есть костел. Мы видели, как туда идут люди. В тюрьме на Лубянке сидели только политические, бытовых не было. Сидели женщины, работавшие в посольствах официантками. Помню, одна ассирийка сидела как враг народа, как шпион. Одна старуха сидела, потому что когда-то ходила слушать лекции Троцкого. Другая женщина была в войну вывезена немцами в Норвегию с Украины и вот за это сидела. Но некоторые говорили одно, а на самом деле другое могло быть. Люди сидели там давно, на допросах побывали, уже знали, что и как. Сказали мне, что только ночью вызывают, днем не вызывают. Спать нельзя днем и на кровати лежать нельзя, только сидеть можно. Стукачки в каждой камере были, оказывается. Кто более опытный, сразу их вычислял. Ведь на работе везде были осведомители, так что это не ново. И в нашей камере, потом я узнала, была одна. Поговаривали, что она более свободно себя чувствует, льготы какие-то имеет. Я провела на Лубянке около четырех месяцев и за это время только три раза была на допросе. Думаю, я так долго была там, потому что у меня тетя жила за границей, в Чехословакии. Ее муж, чех, после революции остался здесь, работал в райкоме партии. Он был командирован в Краснодарский край, а потом вернулся в Москву, и ему не давали жилплощадь. Они в маленькой комнатке ютились, а у них уже трое детей было, и он решил вернуться на родину. В 1935 году они уехали. Я думаю, на Лубянке выясняли насчет Чехословакии, потому что в ордере было написано «за связь с рядом иностранных государств». Меня забирали по статье 58, а потом заменили на статьи 7 и 35. Через месяц вызвали на первый допрос. Задавали вопросы. С кем встречалась? Что получала? Сколько тебе платили за встречу? Такие наивные вопросы. Они прямо так и написали в протоколе: я отрицала, но все равно написали, что сколько-то я тысяч получала. Они бог знает что обо мне думали. Потом, правда, направили к врачу — проверить, действительно ли я была девушкой. Между прочим, когда я пришла в камеру, та ассирийка говорит: «Ой, к нам девушка пришла». — «Как вы узнали?» А она говорит: «А я сразу вижу по лицу, что она девушка». Меня, когда вызвали на этот осмотр, я даже не могла понять, что происходит. Мы были в душе, я пришла с мокрой головой, замотанной полотенцем. Меня осматривали двое мужчин: без кресла, на скамейке. После этого на допросах следователь встречал меня словами: «А, дева-краса, чудо-коса, море-глаза». Там, наверное, немножечко черствеешь или цепенеешь. Я никогда не сталкивалась с таким, поэтому какое-то отупение, наверное, находило на меня. Думаю, до меня так и не дошло, что все это серьезно. Как будто какой-то театр. Так я и лагерь прожила. Я почти не плакала. Только в тот первый день, в боксе этом. Все допросы были только по ночам и заканчивались под утро. После днем не разрешали спать: целый день сиди на кровати или ходи туда-сюда. Допрос может длиться один час, а сидеть можно пять часов. Следователь выходил, а я оставалась сидеть в пустойкомнате. Он курил сигареты (собачка была нарисована на сигаретах, вот это я помню). А в углу сейф стоял, где дело хранится. Он мне говорил: «Вечно будет храниться». А я отвечала: «Ну и что? Пусть хранится». Еще он говорил, что сошлет меня к белым медведям. А я: «Там тоже люди живут». Некоторые протоколы допроса я подписала, не читая. Я надеялась, что там все так, как я говорю. Летом меня перевели в Бутырку. Там провела, наверное, месяца полтора или два. Огромная камера, окна с решетками во двор. Напротив были прогулочные дворы, а справа башня — говорили, что в этой башне сидела якобы Фанни Каплан. Со мной в камере сидели одна художница и несколько работниц посольства. Еще была молодая красивая девушка — дочь какого-то сотрудника венгерского посольства. Перед отправкой в лагерь нас снова вызвали. Опять мы отдельно в каких-то боксах. Никакого суда не было — просто дали бумажку, где было написано:«Как опасный элемент приговорена по статьям 7 и 35 к заключению сроком на пять лет».Небольшой листочек. «Подписывайте». Говорю: «Не буду подписывать». — «Тогда напишите, что не согласны». Я написала «не согласна» и расписалась. И все: обратно в камеру, а потом через несколько дней — в лагерь. Из Бутырки нас привезли на вокзал. Вагоны похожи на купейные, только уже три полочки. Приехали в Потьму, нас построили и привели в карантинный барак. Мы там, наверное, месяц провели. Была осень, шла уборка урожая, и мы носили носилками морковку. Через месяц нас привезли в поселок Явас. Открылись ворота: лагерь, бараки и море цветов, все в цветах. Октябрь, и цветут цветы. Беседки такие ажурные стоят. По фамилии пропускали на территорию лагеря. До меня дошла очередь, и они говорят: «А, это та Иванова, к которой приезжали». Оказывается, родные как-то узнали, куда меня отправляют, и мой брат с двоюродной сестрой сразу вслед за мной поехали. А меня еще нет, я еще не добралась. Нас распределили по баракам. Мы стали ходить на работу. Сначала корчевали пеньки. Один раз пошли на торфоразработки. А потом меня поставили учетчиком в швейный цех. Неделю работа в ночь, неделю — днем. Две смены. Шили мы офицерское белье — обшивали армию. В цеху народу много: швеи, браковщики, упаковщики, прачки, надышат, и тепло. Я — учетчик: учитывала, сколько каждая швея пошила рубашек. Там же конвейер: одна мастерица втачивает рукава, другая подшивает низок, третья пришивает планочку. Когда я вернулась, мне 56 рублей на руки выдали: за три года заработала. Большой барак: человек двести, может, больше. Но между женщинами совершенно не было никаких конфликтов. В бараках чисто. Там были такие старушки верующие, с большими сроками (за религию, говорят, большие сроки давали: кому 10 лет, кому и 25), они плели коврики — круглые, квадратные, длинные. Дорожки в бараке лежали — это вот бабушки плели. И за цветами ухаживали. Территория лагеря была такая красивая. Помню чистые деревянные тротуары. Но по ним ходили офицеры, вольные. А у нас были земляные, но мы ходили все равно по деревянным. Лагерь считался какой-то особой категории: не было никого из бытовых, одни политзаключенные. Там весь район в лагерях, вся Потьма. В нашем бараке было много женщин с Западной Украины. Из Москвы много молодежи. Были немки, и венгерская женщина была, польки были. Со мной рядом прибалты спали — молодежь в основном. Они сидели за то, что протестовали против советской власти. Я подружилась с одной литовкой. Потом она ко мне в Москву приезжала из ссылки, жила у меня несколько дней. И я к ней в Каунас ездила раза три, в Паланге отдыхала с ними. Рита сначала была в другом лагере, а потом, под конец, ее к нам перевели. Я была рада ее видеть! И еще с одной женщиной встретились, знакомой еще с Лубянки, — Галя, она сидела за то, что, когда ей было 14 лет, ее с мамой из Украины немцы вывезли в Норвегию. А потом, когда их освободили из лагеря в Норвегии, они приехали в Москву. Она здесь вышла замуж за военного, у них родилась дочь. Он переводчик с китайского, по-моему, и они должны были на территорию Монголии куда-то ехать. Тогда, наверное, проверили более подробно ее документы. Пришли и арестовали. У нее осталась годовалая дочь. Мать Гали тоже арестовали, и в лагере они встретились, но не говорили, что они мама и дочь, — тогда бы их разлучили сразу. А потом это все-таки выяснилось, и маму отправили в другой лагерь. Вот так протекала жизнь. Ой, три года прошло! Ну еще немножко осталось! А когда ночью работаешь, выйдешь на крылечко, на небо смотришь. Такие звезды, так красиво! Природа красивая там. Помню, один раз град шел очень крупный, голубовато-белый с таким отливом. Вот это запомнилось мне, такая погода. Однажды у меня голос пропал на нервной почве. Я месяц провела в больнице. Мне что-то в вену вливали, не знаю что — это не говорят. В лагере молодой врач был, он сказал: «Свобода вылечит». Многие, кто освободился до смерти Сталина, свой срок отбыли, и их на высылку отправили. А нам повезло, что Сталин умер. Умер Сталин — как там все рыдали! Как там все плакали русские! Навзрыд, в истериках бились. А прибалты говорили: «Что вы плачете? Вы еще будете радоваться, что он умер». А я была совершенно спокойна, думала: «Ну, так должно быть». У нас в семье он вообще в большой чести не был. Он умер 5 марта 1953 года, а к майским праздникам мы уже были дома. 28 апреля нам дали билеты, посади в поезд, уже в обычные вагоны, и отправили. Я ехала с Ритой. Нас в один день выпустили, и мы вместе вернулись в Москву. Меня встречали брат и сестра. А Риту никто не встречал, и мы ее довезли — брат в такси работал, он привез нас. Обнимались, целовались, плакали. Я не плакала, я редко плачу. Мама плакала, сестры плакали, тети плакали. Первый вопрос: «Мучили или нет?» Меня недавно совсем племянник спрашивал: «Ну скажи наконец, вас там пытали?» Я говорю: «Да ты что, много чести для нас было бы, если бы нас пытали». Ему уже 60 будет, а он все еще думает, пытали там меня или не пытали. Когда я уезжала из лагеря, мне несколько человек дали адреса, чтобы сообщить родным, как у них дела. К одним я сходила, сообщила маме. Потом к другим пошли. Была у нас такая Нина Голованова, начальник цеха, — к ее родным пришли сказать, что она жива. Они говорят: «Мы о ней даже не хотим слушать, предательница нам не нужна». Даже не стали ничего слушать о ней. В 1953 году я вернулась и пошла в райисполком, где раньше работала. Все сотрудники обрадовались. А в отделе кадров мне сказали: «В систему райисполкома мы вас не можем взять даже дворником — вы враг народа». В исполком меня не взяли, а взяли в жилищное управление, и я опять стала работать в отделе с письмами. Там многие обо мне знали, но относились нормально. Не все принимали. Бывало, с кем-то познакомишься, а он узнает, что ты враг народа, и тут же знакомство прекращается. Тогда многие верили, что «за просто так не сажают». В 1964 году я была реабилитирована со снятием судимости — «за отсутствием состава преступления». Получила документы, что я свободный человек. А Рита не получила — почему-то не признали. Она запрос делала, но ни в собесе, нигде ее не признали. Вот чем это объяснить? Не знаю. Я видела свое дело. Мне позвонили и пригласили: «Зайдите, если вас интересует». Я пришла. Такой домик, вход прямо с тротуара. Вошла в комнатку, там несколько человек. Дали мое дело: оказалось, в нем всего несколько страниц. Я думала, может, что-то новое узнаю, кто донес на нас. Нет ничего. Чистенько. Может, если что и было, то вынули. Я встречалась с теми иностранцами в 1947 году, а арестовали нас через три года — в 1950-м. Почему? Я считаю, потребовалась рабочая сила бесплатная, дармовая молодая рабочая сила. В лагере все работали на армию: телогрейки шили, рубашки, кальсоны, варежки. Решили проблему, чтобы одеть армию. Армия же у нас была большая — сколько надо было бы платить зарплат. А здесь шили бесплатно. 56 рублей я заработала за три года. Думаю, тюрьма и лагерь никак на меня не повлияли, совершенно. Я какая была, такая и осталась. Может быть, чуть мягче стал характер. А Рита, мне кажется, надломилась. Совсем другая стала — запуганная, осторожная, что ли. Рита не любила вспоминать лагерь, она на эту тему вообще не хотела говорить. Даже если я что-то скажу, она сразу обрывала: «Ой, не говори об этом». Я не была замужем. Все боялись — враг народа. Я не заводила ни с кем отношения. Сразу говорила: «Я враг народа, была в заключении». Чтобы им было ясно, чтобы отвязались. Не хотела упреков никаких. Сколько карьер из-за этого портилось, сколько из-за этого пострадало людей — за связь с осужденными. Мой брат женился сразу после моего возвращения, появились у него дети, и я как-то с его детьми завязалась, везде с ними ездила, отдыхала. Мы жили все вместе опять. Потом внуки появились, теперь правнук. Так что все хорошо.

Наказание «за связь с иностранцами» Лидия Иванова была одной из тех, кто пострадал в период послевоенных репрессий. Уже в первые годы после окончания Великой Отечественной войны наметилось явное ужесточение карательной политики: были изданы десятки указов, постановлений, инструкций и приказов, как тайных, так и гласных, которые грубо нарушали Конституцию и права человека. Власть стремилась пресечь сближение советских людей с западным миром. Лиц, уличенных в дружеских связях с иностранцами, как правило, привлекали к уголовной ответственности, руководствуясь формально ст. 7 и 35 УК РСФСР. Статья 7 определяла, что «в отношении лиц, совершивших общественно опасные действия или представляющих опасность по своей связи с преступной средой или по своей прошлой деятельности», могут быть применены различные меры наказания, а ст. 35 указывала на возможные санкции. Чаще всего «за связь с иностранцами» в ГУЛАГ попадали молодые советские граждане. Обычно таких обвиняемых относили к категории «социально опасный элемент» (СОЭ) и на основании постановления Особого совещания при МГБ СССР отправляли в лагеря на пять лет. Лидия Михайловна вышла из лагеря по амнистии. После смерти Сталина 27 марта 1953 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии», по которому право на освобождение получали: женщины, имеющие детей до 10 лет, пожилые люди, те, кто был осужден на срок до пяти лет. Тем, кто был осужден на срок свыше пяти лет, срок сокращался наполовину. Всего освобождению из лагерей и колоний подлежали 1 201 738 человек, что составило 53,8 % общей численности заключенных (на 1 апреля 1953 года в ГУЛАГе содержалось 2 235 296 человек). Заключенные, осужденные по политическим мотивам, амнистии не подлежали.
ПАВЕЛ БЕЖЕНАРЬ

Павел Беженарь (слева) с другом после первого освобождения, Томская область, 1964 год
Интервью записано 11 сентября 2015 года. Режиссер Таисия Круговых. Оператор Василий Богатов.
Павел Федорович Беженарь родился в 1940 году в Молдавской ССР. Его родители были простыми людьми, жили в деревне, работали в колхозе. Семья была многодетной и религиозной — принадлежала к свидетелям Иеговы[82]. 1 апреля 1951 года в рамках операции «Север» вместе с другими «свидетелями» Беженарь были высланы в Сибирь на вечное поселение. В 1959 году, когда Павлу исполнилось 19 лет, он получил повестку в армию, пришел в военкомат и написал заявление о том, что не может нести военную службу по религиозным убеждениям. Был арестован, осужден на пять лет и отправлен в Первую тюрьму в Томске, затем был переведен в лагерь на лесозаготовки. После освобождения из лагеря в 1964 году Павел уехал в Казахстан. В Казахстане вновь получил повестку в военкомат и, несмотря на то что призывной возраст вышел, получил три года тюрьмы строгого режима за уклонение от службы в армии. Только в 1990-е семья Беженарь полностью реабилитирована.
«Вы высылаетесь навечно в Сибирь»
До войны мы жили в Молдавии, в селе Константиновка. У нас была большая семья — пятеро детей. Моего отца арестовали в 1944 году. Его призвали на фронт, но он не пошел. Отец как свидетель Иеговы отказался от службы в армии. И его осудили на 10 лет. Этот срок он отбывал в лагере в Кишиневе. А мы, пятеро детей, остались одни с матерью. Это было очень тяжелое время. Отец отсидел шесть лет. Его освободили в 1950 году, он приехал домой. Не знаю, за что его досрочно освободили, может быть, за хороший труд, а может, война закончилась. Но вместо того, чтобы прописать в родной деревне, его отправили в соседний район, за 12 километров. И всю неделю он работал там, а в субботу вечером шел пешком к семье. В воскресенье вечером обратно — 12 километров. Вот так он ходил целый год. А в 1951 году 1 апреля пришел вечером домой в субботу, а утром в три часа нас уже всех подняли. Подъехали машины, солдаты с автоматами встали у дверей, зачитали приказ Берии: «Вы ссылаетесь навечно в Сибирь». На сборы дали три часа. И вот за три часа какие тряпки успели собрать, те и повезли с собой. Правда, один солдат предложил: «Давайте я заколю вам поросенка. У вас много детей, как вы поедете?» Но отец отказался. У нас было 13 кур. Мать их зарезала, кипятком ошпарила и сложила в кастрюлю. 13 дней мы были в дороге, нас везли в Томск. И вот эти куры нам пригодились. Из нашей деревни еще четыре семьи забрали. Загрузили две машины. А когда привезли на станцию, мы только там осознали, что нас целый эшелон отправляется в Сибирь — 17–18 вагонов. В Молдавии почти все люди религиозные, почти каждый второй: то адвентисты седьмого дня, то пятидесятники, то баптисты. Мы — свидетели Иеговы. Пока нас везли в Сибирь, там уже всех настроили против нас: «Смотрите, вы с ними не общайтесь, это опасные люди». Разместили нас за Томском, в Зырянском районе, в селе Дубровка. Люди, жившие по соседству, на нас из-за угла выглядывали. Они боялись. Представляете, каким был настрой? Кто там жил, когда мы приехали? Там уже были латыши, эстонцы, литовцы, немцы, беларусы были, татары. Много было разного ссыльного народа перемешано. Мы же работали не покладая рук, сутками. Все наши пошли на фермы, в свинарники. У меня были сестры — 1934, 1936, 1938 годов, я был 1940-го, брат — 1942 года рождения. Все работали. Сестры в четыре утра вставали и вечером в 12 часов ложились. Вот представьте себе: 25–30 коров. Нужно принести сена, накормить, вычистить, подоить. Это тяжелый физический труд. Выходных и в помине не было. Мы трудились, работали, потому что другого пути не было. А каждые два раза в месяц отец должен был отмечаться в комендатуре, что мы на месте, никуда не уехали. Вот такое время было. Денег нам не платили, мы работали за трудодни. В конце года, когда убирали урожай, нам выдавали овес — 300 грамм за трудодень. У нас получалось три-четыре тысячи трудодней на семью. Овес мололи, мать блины пекла. Но чтобы блины испечь, надо масло, а на масло нужны деньги, чтобы купить. И вот стараешься 10 яичек продать. А где? В районе. Моя старшая сестра пошла однажды в райцентр, а ее арестовали. Девять или семь суток продержали в КПЗ. Такая система была. Ну а детские воспоминания какие? Никаких игр. Бедность была страшная. В школу нужно идти, а одежды нет. Ничего не было! Мне мать купила какой-то кусок женского материала и сшила рубашку. Ходили в лаптях, подшивали их какой-то резиной. Морозы 40 градусов! Тут не до лыж, не до чего. Дров не было. Лес рядом, а дрова не на чем привезти. Лошадей не было в колхозе. Вот отец пойдет, напишет заявление председателю колхоза: «Нужны дрова». А тот дает указание: «Быка выпиши». Быка! Не то что лошадь. И на этом быке нужно ехать в лес. Отец берет меня, пилу. Как там пилить эту березу, когда снега по шею? А еще пила тупая, и напильника, чтобы наточить эту пилу, нет. И купить — денег нет. На напильник нет денег! Так у нас все закручено было. И вот едешь на этом быке, напилишь этих дров, потом дома сырыми дровами пытаешься целую ночь топить печку, буржуйку железную. А у нее такое устройство: только дрова в печке перестают гореть, сразу все — холодно в доме. Когда мне исполнилось 12 лет, я пошел пасти коров. Я пять лет пас коров у частников. За счет этого мы выжили как семья. Потому что за одну корову мы брали 5–7 рублей, или молоко, или ведро картошки. Если бы я не работал, не знаю, что с нами было бы. Очень сложно. Семья же большая была. Папа переживал за нас, я сейчас уже как отец осознаю это. Представьте себе, сестре старшей уже было 18 лет — одежды нет, денег нет. Благо я пас коров, на эти деньги купили ей фуфайку. И вот нас шесть душ, мы все смотрели, как она надевала ее и ходила по комнате. Потом мы все надевали, примеряли эту фуфайку. На следующий год ей купили кирзовые сапоги. И вот эти сапоги мы все тоже примеряли, как они выглядят на нас. Такое время было, такое детство. Знаете, к Сталину никакого отношения у нас не было. Потому что мы знали, что такое может случиться в любое время. На основании опять же Библии. Вот слова Иисуса:«Если вас ненавидят, знайте, что сначала они возненавидели меня. Если бы вы были от этого мира, мир дорожил бы своим, но поскольку вы не от мира — я забрал вас от мира, — то и мир ненавидит вас».Не Сталин так другой был бы вместо Сталина. Пришло время, задумали, власть в руках, и все — давай. У них свои планы, это понятно. У них план — заселить Сибирь. Людей нет, а промышленность нужно поднимать. В 1959 году мне исполнилось 19 лет, и я получил повестку в армию. А работал я в это время на стройучастке. Как только получил повестку, сразу же пришел в военкомат и написал заявление о том, что на основании религиозных убеждений служить в армии не могу. Там было еще таких же три парня, соверующих. Они тоже написали заявления. Наши документы передали в прокуратуру. Через месяц нас осудили. Мне суд определил наказание — три года тюрьмы и два года лагеря. Тюрьма номер 1 в Томске. Тюремный режим для самых ярых преступников. Строже режима уже не бывает. В шесть часов подъем, туалет. Ну, как они называли — параша. Потом завтрак, обед — дают все через «форточку». 30 минут на прогулку — и все. Ты сидишь в камере день и ночь. Лампа горит, все железное, бетонное. Чем нас кормили? Баланда, это понятно. Кирзовая каша. Уху давали только на праздники. Это считалось деликатесом. Иногда, если из дома переводы пересылали, можно было пойти и купить продукты в магазине. В специальные дни приходил надзиратель, открывал дверь: «Отовариваться будете?» А в тюрьме наших соверующих к тому времени собралось уже семь человек. Им тоже предъявили по два года тюремного заключения, но отправили в рабочий корпус, на обслуживание тюрьмы. Потом и меня туда перевели: «Ты хотел бы тут поработать?» — «Да, пожалуйста». И вот, когда мы все вместе встретились, то это было как встреча на Эльбе. Я когда зашел в столовую в рабочем корпусе, глазам не поверил! Хлеб нарезанный лежит — бери сколько хочешь! А нам в камере давали 600 грамм — черный, им можно человека убить. Там баланда. А тут каша, борщ. Мне понравилось, и я стал работать. Мы с соверующим баланду развозили по всей тюрьме. Кто-то из наших работал парикмахером, кто-то чистил картошку, резал хлеб, работал кочегаром. Все вакантные места были заняты — мы видели, это была защита Создателя. Бог руководит своим народом, где бы то ни было, теми людьми, которые живут по Библии. Но духовной пищи у нас не было, потому что тюрьма и есть тюрьма. Библию читать было нельзя. Другая литература, конечно, была. Я не сидел зря — читал Лермонтова, Пушкина, Толстого. Библия нам говорит:
«Исследуйте все, хорошего держитесь».И вот таким образом я там пробыл 10 месяцев, но решил написать жалобу. Я просил, чтобы сняли тюремный режим и заменили лагерным. Мою просьбу удовлетворили, отправили в лагерь. Привезли нас в село Красный Берег. Это самый северный район — Красновишерский. В лагере грузин было человек четыреста. Половина не работали, потому что не хотели — играли в карты. А зачем им работать? Числились в бригадах, деньги получали. Вот такая система была, воровская, я захватил немного. Но мы честно работали. Нам поступал лес по узкоколейке — 25–30 км. У нас в этом лагере был нижний склад. Лес мы баграми штабелевали по три, по четыре метра в высоту. А летом уже сбрасывали в речку, и он шел по назначению. Освободился я в 1964 году. Одежды нет. Что я там зарабатывал? 60, 70, 30 рублей. Заготавливали лес (норма 1,5 тысячи кубов в месяц), а мы по 2,5 тысячи кубов пилили, потому что это давало дополнительный паек — хлеба 200 грамм, 30 грамм крупы и 20 грамм сахара. Вот за эти 300 грамм хлеба мы этот лес чуть ли не зубами рвали. Да, я мог накопить денег, но отец болел, и я из лагеря помогал родителям. То 20 рублей отправлю, то 50. Я когда освободился, у меня на счету было 400 рублей. Все, что я заработал. Я решил поехать в Казахстан. По тем временам все очень легко было, купил билет, сел на поезд, приехал, меня встретили. Я устроился у своего духовного брата, жил у него на квартире. Стал работать на хлебозаводе. Сначала не хотели принимать, а тем более увидели справку об освобождении. Казах был директор, как сегодня помню. «Дорогой, так ты из лагеря? У нас тут мука, пшено!» Я говорю: «А вы не переживайте, я не ворую, я сидел по религиозной части». — «Ну, тогда приходи!» Так и принял на работу. 100 рублей я там получал, мой оклад. И тут снова приходит повестка, меня вызывают в военкомат. А мой возраст уже вышел из призывного. Из этого призыва. Потому что раньше призывали до 25 лет, это сейчас до 27 включительно. Я пришел в прокуратуру в городе Джезказган. Женщина-следователь говорит мне, что из военкомата поступило донесение о том, что вы не хотите служить в армии. Я говорю: «Да вы что, я уже отслужил!» Она смотрит на меня недоверчиво: «А где вы служили?» Я пошутил: «В войсках МВД. Есть у нас такие войска, что ходят со штыком, а некоторые ходят под штыком. Ну, я — под штыком». Она засмеялась и отпустила меня домой. А через месяц пришла повестка в суд. Суд приговорил меня к трем годам строгого режима. А я уже женат был, восемь месяцев, как жил с женой. Я отсидел еще и в Караганде три года. После освобождения мы с женой уехали на Украину. Устроились, работали тяжело, зарабатывали 100–150 рублей, построили домик. По тем временам как было? Если в лагере сидел, тем более как свидетель Иеговы, куда бы ты ни приехал, документы сразу нужно отправлять в 6-й отдел, становиться на учет. Только встал на учет — документы поступили в 6-й отдел, приходит повестка: явиться. За мной следили. И соседи следили: где, куда, с кем? Мы всегда отмечаем единственный праздник — воспоминание о смерти Иисуса Христа. По-православному это Пасха, но мы воспоминание о смерти отмечаем согласно Библии. К нам пришли семь-девять человек, мои знакомые, соверующие люди — мы праздновали вместе. Какое это нарушение? А соседи сразу доложили, тут же к нам пять милиционеров прибыли. Меня оштрафовали на 50 рублей. Тогда 50 рублей — это большие деньги, ползарплаты. Ну, я уплатил эти деньги. А статья? Я не знаю, какая статья. Статей тогда много было. Какую хочешь, такую и найдешь, и пришьешь. Через четыре года вот у меня сделали обыск и нашли религиозную литературу, я, собственно, и сам им отдал. Я сразу спросил: «А что вам надо?» Это было 4 октября 1982 года. На меня завели уголовное дело в областной прокуратуре. Мне грозил срок от трех до семи лет. И все, я уже готов был снова сесть в тюрьму. Мне жена сшила сумку, собрала сухарей, колбасы. Я, когда шел к ним, взял еще и фуфайку с собой. Но, когда первый раз пришел туда, следователя не было, была заместитель прокурора. Она сказала: «Мужчина, вы завтра приходите, только вот сумку хоть эту не берите с собой». В ноябре умирает Брежнев. 10 ноября он умер. И вот это меня спасло. Как-то обошло в этот раз стороной. Меня отпустили со словами: «Идите домой, работайте, если надо будет, мы вас вызовем». И потом они от меня как-то отстали, и все.

Павел Беженарь Вплоть до начала Второй мировой войны число приверженцев учения «Свидетели Иеговы» («антисоветской секты», как организация именовалась в официальных документах) в Советском Союзе было невелико. Присоединение к СССР Прибалтики, Бессарабии, Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939–1940 годах, где это учение имело широкое распространение, привело к росту числа иеговистов по всей стране. Под кодовым названием «Север» 1–2 апреля 1951 года была проведена операция МГБ по массовому выселению сторонников учения и членов их семей в Сибирь. Выселению подлежали несколько тысяч человек, 3000 выселили с родины Павла Беженаря — Молдавской ССР. Основным местом расселения были назначены Томская и Иркутская области. Только в 1965 году в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1965 года с членов организации были сняты ограничения по спецпоселению, и они были освобождены из-под административного надзора органов охраны общественного порядка. Однако большинству иеговистов все-таки не разрешили вернуться на прежнее место жительства. В СССР «Свидетели Иеговы» воспринимались как антисоветская организация, призывающая к отказу от службы в армии, от выборов в представительные органы власти и т. д.
ЮЛИЙ РЫБАКОВ

Юлий Рыбаков с отцом, Новгородская область, Боровичи, 1951 год
Интервью записано 30 марта 2018 года. Режиссер Ирина Бузина. Оператор Гиури Джохадзе.
Юлий Андреевич Рыбаков родился 25 февраля 1946 года в Кемеровской области. Его отец, поэт и актер Андрей Рыбаков, был осужден по 58-й статье и отбывал наказание в Сиблаге, мать работала в том же лагере по вольному найму. Юлий Андреевич получил художественное образование и с середины 1970-х годов активно участвовал в нонконформистских выставках и диссидентском движении в Ленинграде. В 1976 году арестован по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда, направленная на подрыв и ослабление советской власти» за распространение произведений Солженицына и создание агитационных надписей. Осужден по сфабрикованной уголовной статье на шесть лет тюрьмы усиленного режима. В 1982 году вернулся в Ленинград, активно занимался политикой. В 1988 году стал одним из организаторов ленинградского отделения партии «Демократический союз». В 1990 году избран депутатом Ленсовета, организовал первую государственную Комиссию по правам человека. С 1993 по 2003 год — депутат Государственной думы РФ, член партии «Демократический выбор России».
«И за 15 минут вдвоем сделали там надпись: “Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков”»
Мои мать и отец родились почти в одно время на Васильевском острове Петрограда — рядом, на соседних линиях. Но встретились они в Сибири, в лагере — мама работала там по вольному найму, а папа отбывал срок. Мать была дочерью военного инженера, преподавателя Владимирского инженерного училища. В 1917 году он вместе со своими юнкерами отстреливался от наступавших на училище красногвардейцев, в том числе и от немецких военнопленных, которые были привлечены большевиками к перевороту. Именно немецкие артиллеристы обстреливали из пушек Владимирское училище. Оно было разгромлено. Деду удалось тогда спастись: он ушел по крышам вместе с двумя юнкерами. На лодке они переплыли на Васильевский, там он переоделся в гражданскую одежду. Спустя неделю за ним пришли. К этому времени уже был выпущен декрет о том, что все офицеры должны сдать свое оружие. Дед этого не сделал: он спрятал оружие в поленнице во дворе, и при обыске его нашли. Деда вместе с другими офицерами вывезли связанными на барже в Финский залив — их утопили. Матери моей тогда было шесть лет, и бабушка, взяв дочь, уехала из Петрограда в Новгородскую область, в город Боровичи, где жили ее родители. Там моя мать и выросла. Какое-то время она не знала о судьбе своего отца, лишь потом, намного позже, бабушка рассказала ей об этом. Первое время она была «правоверной» комсомолкой, спортсменкой, окончила педагогическое училище. Началась война, и мама как спортсменка попала в войска НКВД, в партизанский отряд, который воевал здесь, под Ленинградом. Когда блокада была снята, она узнала о том, что две ее дочери от первого брака вместе с бабушкой эвакуированы в Сибирь и там голодают. Ей удалось каким-то образом перевестись из своих войск в охрану немецких военнопленных, которых эшелонами везли в Сибирь. Она нашла своих детей и мать в Новосибирске. Мама осталась в Сибири и устроилась на работу в канцелярию больницы того лагеря, где сидел мой отец. Там они и познакомились. Отец мой окончил Театральное училище Немировича-Данченко и начал карьеру профессионального актера. Арестовали его за стихи, которые он писал и имел неосторожность читать своим друзьям. Отец был поэтом, горячо любил Александра Блока. Арестовали его в мае 1941 года. А 22 июня началась война, и его дело — дело гражданского человека — было почему-то переведено в военный трибунал. В то время его отец, военный моряк, капитан 1-го ранга, преподавал в Военно-морском училище имени Фрунзе штурманское дело и навигацию. Несмотря на арест сына, дед не пострадал. По его рассказам, он пришел к своему начальству и доложил о том, что сын арестован по 58-й статье. Но среди моряков существовала атмосфера товарищества и взаимной поддержки. Ему сказали: «Никаких распоряжений по вашему поводу мы не получали, поэтому продолжайте работать дальше». А когда дед узнал, что дело его сына переведено в военный трибунал, он надел форму и поехал в Петропавловскую крепость, где находилась эта организация. Нашел следователя, которому дело было поручено, и сказал, что, видимо, произошла какая-то ошибка. Тот посмотрел дело и вернул его обратно в гражданское судопроизводство, что, собственно говоря, и спасло отца: если бы это был трибунал, то, скорее всего, за свои стихи он получил бы пулю в затылок. В результате эшелон с заключенными успел выехать из Ленинграда еще до того, как замкнулась блокада. Примерно за полгода до ареста, как отец мне рассказывал, на улице к нему подошел человек и сказал: «У вас скоро будет обыск». И ушел. Кто это был, он так и не узнал. Отец принял какие-то меры, стихи свои убрал подальше, но прошло полгода, он уже забыл об этом, и стихи вернулись обратно в дом. А потом за ним все-таки пришли. Были и такие люди. Возможно, среди энкавэдэшников были и те, кто пытался кого-то спасти. Это удивительно, но это факт. К сожалению, отцу это не помогло. Видимо, отец что-то говорил в кругу своих друзей, иначе на него бы не донесли. Потому что донесли, конечно, не только на стихи, но еще и на разговоры. Достаточно было одного неосторожного слова, чтобы в НКВД заинтересовались тобой. Это был донос. Совершенно точно известно, кто на него донес: молодой музыкант из Кировского театра и одна молодая женщина. Отца осудили по 58-й статье на пять лет лишения свободы с последующим поражением в правах. Он попал в Сибирь, в город Мариинск Кемеровской области. Я там был потом однажды: уже будучи депутатом, оказался в Кемеровской области и попросил, чтобы меня туда отвезли. Я побывал и в той пересыльной тюрьме, где отец сидел: бараки там, наверное, стояли уже другие, а пересыльная тюрьма еще царских времен осталась — кирпичная, большая. В общем, по этой земле я походил. Сначала отца отправили в забой, в золотые шахты, где он чуть не погиб, и там-то мать его в больнице и встретила впервые. Она его выходила, как и многих других. А потом она увидела его уже на сцене маленького тюремного клуба, где они играли Шекспира, и влюбилась в него. В этом лагере было много творческой интеллигенции, и лагерное начальство решило сделать свой «крепостной театр», куда и попал мой отец. Театр — это уже не тяжелый труд с киркой в забое. Это так называемая культурно-воспитательная часть — КВЧ. Спектакли играли не только внутри лагеря, но и снаружи, в городском клубе. Актеров водили туда под конвоем, и они показывали «Двенадцатую ночь» Шекспира. Отец играл герцога Орсино в соответствующих одеяниях. На сцене пели, плясали, смеялись, а за кулисами справа и слева сидели автоматчики. Однажды, когда они шли обратно, отцу пришлось одного старого актера буквально тащить на себе, потому что тот совсем обессилел от голода. И автоматчики, которые шли сзади, стреляли у них над головой и говорили: «Если сейчас уронишь старика, мы его застрелим». Вообще, голод был такой, что где-то раз в два-три дня из лагеря вывозили телегу с трупами заключенных, умерших от истощения. Мать спасла от пеллагры и голода не только отца, она спасла десятки людей. Она рассказывала, как носила в лагерь еду: «Я иду через проходную в такой длинной бурке, и у меня здесь спрятана бутылка с молоком, и тут бутылка с молоком, и там еще хлеб. Иду и обмираю: сейчас обыщут, и я тоже в соседнем бараке окажусь». Она спасла очень многих. Персонал свободно мог перемещаться по лагерю и общаться с теми, с кем считал нужным. Но наверняка там были какие-то свои соглядатаи, и когда стало ясно, что матери скоро рожать, ее вызывали из медчасти и требовали от нее признаться в связи с заключенным. Если бы она это сделала, то действительно получила бы срок, но, слава богу, как-то обошлось. В результате родился я. В той самой тюремной больнице, где она работала, там она меня и родила. Вскоре, в 1946 году, отец освободился, но ему было запрещено жить в крупных городах, и мы поехали к бабушке в Новгородскую область, в город Боровичи, где я и рос до семи лет. И все эти годы туда время от времени приезжали освободившиеся зэки из того лагеря, где работала мать и сидел отец. Они приезжали, получали у нас передышку и благодарили мать за то, что она спасла их. Среди заключенных было много интересных людей. Кого-то я видел сам, других знал по рассказам. Был брат того ученого, астронома Козырева, Алексей, который получил, если не ошибаюсь, «пятнашку». Был актер Черкасов, он сел за то, что в гримерке шутя сказал своим коллегам-актерам: «Мне приснился странный сон сегодня ночью — как будто я застрелил Сталина». И за ним пришли — получил десять лет. С отцом сидел советский разведчик Быстролётов[83] — его рукой сделан лагерный портрет отца, он у меня хранится до сих пор. Этот человек служил советской власти верой и правдой, но однажды его вызвали из-за границы, арестовали и отправили на 20 лет в лагеря по подозрению в том, что он работает на две-три разведки, хотя ничего подобного, естественно, не было. Потом его освободили и реабилитировали, но жизнь человека была загублена. Отец устроился в Новгородскую филармонию. Это было непросто, потому что с 58-й статьей, конечно, на работу брали очень неохотно. Он ездил с концертами по колхозам и совхозам области, выступал как художественный чтец со стихами и прозой. Мама занималась хозяйством, огородом, воспитанием троих детей — меня и двух старших сестер, маминых дочерей от первого брака. Родственники помогали нам, присылали в Боровичи посылки с сахаром и мукой, потому что жилось нам очень плохо, очень тяжело в материальном смысле. У меня было голодное, нищее, но тем не менее счастливое детство, потому что родители меня любили. Они были хорошие люди: умные, талантливые, горячо любившие свою страну и народ. Дома мы вместе читали стихи, устраивали театральные представления, был у нас театр теней. Отец читал нам вслух книги, рисовал мне картинки — он действительно мог бы стать хорошим художником. После ХХ съезда отца реабилитировали, и мы вернулись в Ленинград. Несколько лет снимали комнаты в разных углах города и ждали, когда отцу вернут жилье. Квартиру в конечном счете дали, но не ту, что была у него до ареста. Мы получили однокомнатную квартирку в «хрущобе» на Васильевском острове. Но это было хорошо — до этого мы жили в полуподвальном помещении. Когда отец был реабилитирован, ему предложили найти тех, кто на него донес, и получить от них какие-то дополнительные объяснения. Но оказалось, что тот музыкант погиб во время войны, а женщина, которая донесла на отца, сказала: «Нет, я по-прежнему считаю Рыбакова врагом народа». Отец был человек трагического мироощущения. Наверное, это во многом было связано с тем, что он видел в этих лагерях. И об этом говорят его стихи в первую очередь. Вот это стихотворение он написал уже после лагеря.Стреноженное стадо выходит на развод,
Четвертая бригада на кладбище идет,
Расчетливо и ровно отмерена земля,
Уложены, как бревна, людские штабеля.
Их материнским воем не провожали здесь,
Просчитано конвоем — и то большая честь.
А чтоб не притворился который мертвяком,
Через грудную клетку проколоты штыком.
Четыре ямы рядом, а в них народ до дна,
Ни бомбой, ни снарядом, иная тут война.
Две сотни прошлым летом скатились в ямы те,
Кто накрест, кто валетом, в обнимку, в тесноте,
Туда поземки ветром и листьев намело,
Да льду там на полметра, а дальше — бей, кайло!
Назавтра новых надо подбавить да прикрыть,
Агаркова бригада показывает прыть.
Шумят, бодрятся гости, овчарки верещат,
А вот уже и кости под кордами трещат.
Распахнуты витрины, раскопаны на треть,
Загробные смотрины, а трудно не смотреть.
Тут мне сквозь гул бредовый:
Прочти, молчи, прочти,
Фанерка на берцовой простреленной кости,
И вот, встряхнув ливрицу, пригнувшись поскорей,
Читаю: Гоголицын, о Господи, Андрей.
Мой друг и брат, и тезка, мой сверстник и земляк,
Ведь холодно, ведь жестко тебе валяться так.
Да что ты в самом деле, ну почему сюда?
И ничего на теле, такие холода.
Кайлом-то я не очень, бери бушлат скорей!
А он молчит, как ночью. Андрей, не спи, Андрей!
А он молчит, так он же… Да нет! Ну как же нет?
Взглянуть, где лед потоньше, взглянул — а там скелет.
И тут Господня милость, в глаза ударил свет,
Я спал, мне все приснилось, такого в мире нет.
Ни проволоки, ни вышки, ни этих странных ям,
А просто мы — мальчишки, сбежавшие от мам.
Но видно все воочию, взаправду, наяву,
Мы белой-белой ночью выходим на Неву.
Туман сквозит и тлеет, сливаясь с синевой,
И чайки пролетают над самой головой.
В приветственном поклоне склоняются мосты,
Спросонок на газоне кивают нам цветы,
Мы начались отсюда, какая благодать!
Нам до любого чуда сейчас рукой подать.
Андрей, а мы откуда? Забыл. И я забыл,
Поесть бы вот не худо, а где я так простыл?
А ну, бери, копай-ка! Какого тут рожна?
Никак тебе и пайка на завтра не нужна?
И я сижу и стыну у крайнего столба,
Морозный ветер в спину, горбач и пот со лба.
И в душу, в кровь иголка, что совестью зовут,
Мне жутко, и мне горько, и стыдно, что живу.
Я думаю о жизни, спаленной на корню,
Я мачеху-отчизну по матушке гоню.
«Психически здоров, обладает чувством юмора».Короче говоря, с этим у них не получилось. Видимо, была какая-то команда: ни в коем случае не допускать политических процессов. И требовалось любой ценой заставить нас отказаться от политической мотивировки, что и было сделано. По прошествии двух-трех месяцев допросов меня вызвали к следователю, и он сказал: «Сядьте вон там за столик, познакомьтесь с этими бумагами». Сажусь, начинаю смотреть. А там стопка протоколов обысков. Они провели по городу несколько десятков обысков у людей, которые могли так или иначе относиться к диссидентским кругам. Это были протоколы об изъятии запрещенной литературы, в том числе и нашей, той, которую мы распространяли. Часть упомянутых в протоколах людей я знал, кого-то вообще не знал. Всего упоминалось 18 человек, по-моему. Я говорю: «И что?» — «Ну, а теперь, — говорит, — идемте». Меня отвели в другой кабинет, там начальство поважнее. И мне говорят: «Значит, так, выбирайте, Рыбаков, или вы будете нам и дальше “вешать лапшу на уши” о том, что вы за советскую власть, но тогда имейте в виду: вы познакомились с материалами, и эти 18 человек тоже пойдут в лагеря. Или мы осуждаем вас как художников, которые были обижены тем, что их работы не выставляются, и осуждаем вас просто как злостных хулиганов, и тогда мы этих людей не тронем». Я взялся подумать. Меня вызывают на следующий день и предъявляют протокол, где мой товарищ Олег Волков признает: «Да, на самом деле все мои действия были связаны с нашими обидами на творческую невостребованность». Ну, что делать, ладно. Я признаю то же самое. Потом, когда дело закрывается, нас перевозят в суд, и мы оказываемся рядом на скамье подсудимых. Но нам запрещают разговаривать между собой: мы сидим, и стоит с нами рядом охранник — ни слова друг другу не сказать. Но у Олега есть тетрадочка с какими-то записями, и у меня тетрадочка с моими записями, и он меняет свою тетрадочку с моей. Я этого даже не заметил, потом, когда пришел в камеру после первого дня заседаний, смотрю, а это тетрадка Олега. А в ней записи. Оказывается, с ним произошло то же самое, что и со мной. Его точно так же шантажировали: или будем этих людей сажать, выгонять с работы, выгонять с учебы, или вы остаетесь и сидите тихо на суде, не произнося никаких политических лозунгов. В результате нам предъявляют обвинение, причем для зрителей, сидящих в зале, оно звучит непонятно.
«Рыбаков и Волков совместно ночью такого-то числа проникли на территорию трамвайного парка имени Блохина и учинили на трамваях надписи размера такого-то… Рыбаков и Волков ночью такого-то числа на Государевом бастионе учинили надпись такого-то размера…»Тексты надписей не воспроизводятся в суде.
«Рыбаков и Волков нанесли ущерб государству своими надписями…»Они очень хотели, чтобы материальный ущерб был большим, и планировали насчитать его от надписи на Петропавловской крепости. Дело в том, что мы сделали надпись за ночь до того, как Государев бастион должен был пойти на капитальную пескоструйную очистку. Мы заранее знали, что все будет очищено и никаких отдельных расходов на это не потребуется. Поэтому, когда в конце следствия следователь говорит: «Вы еще долго будете платить за надписи на Петропавловской крепости», я говорю: «Ну нет, извините, я точно знаю, что никаких дополнительных средств на эту очистку не понадобилось, потому что все было заранее запланировано». Они проверили, и да, действительно, оказалось так. Тогда насчитали нам ущерб за надписи, сделанные на набережных Невы. В результате сидели мы в суде, молчали, и нас судили как особо дерзких хулиганов. Ну, ползала, естественно, было чекистов, немножко было и наших друзей, но немного. Все такие суды всегда объявлялись открытыми, но на самом деле там почему-то не хватало места даже для родственников. Отец с матерью, естественно, там были, но многие, многие из тех, кто хотел побывать, не смогли это сделать. Мои родители, видимо, думали, что я совершил ошибку. Они считали, что я должен был заниматься творчеством, что «плетью обуха не перешибешь», что советская власть крепка и все усилия ее свергнуть или подвигнуть на какие-то перемены бесполезны. Моих родителей тоже допрашивали. Повторный обыск в доме делали, моя дочь даже опи́сала мундир моему следователю, он мне потом жаловался. Следователь вытащил ее из кроватки, чтобы посмотреть, что там под матрасиком есть, а она напи́сала на него. Ну что ж, в результате получил я шесть лет усиленного режима. Олег — семь лет. И отправились мы, я — в Мурманскую область, а он — в Коми АССР. Тяжело было, конечно, потому что я понимал, что, с одной стороны, мы поступили так, как надо было поступить. Но с другой стороны, на воле остались люди, которые нас пока еще не поняли, не знают, в чем дело, и думают, что мы струсили, что ли. Никто долгое время не понимал, почему мы так сделали. Потом все выяснилось, естественно. И в этом отношении было, конечно, тяжко. И тяжко было, что ехал-то я в обычный уголовный лагерь. Я думал, что если уж когда-нибудь и попадусь чекистам, то сидеть-то я буду в политических лагерях, со своими, даже если не с единомышленниками, то, во всяком случае, с людьми, с которыми будет о чем поговорить, может быть, поспорить о чем-то. А попал-то я в лагерь с обычными бытовыми уголовниками, сидевшими по тяжким статьям, поскольку это усиленный режим. Это убийцы, насильники, грабители, настоящие расхитители советской собственности. Лагерь на 700–800 человек, разделенный на две зоны, рабочую и бытовую, бараки, двухэтажные нары, от 80 до 100 человек в каждом отряде. Определили меня сначала в лесоцех на станочную обработку древесины (в лагере работало мебельное производство). Там мне чуть не оторвало руку станком: вся техника была старая, и рукав моей спецовки затянуло в станок — слава богу, одежда, которую нам выдавали, была настолько ветхой, что мне удалось вырвать кусок ткани. После подвернулась возможность, и я ушел в дневальные, в шныри отрядные, стал мыть пол. К счастью, оказалось, что один из зэков, который работал технологом на лагерной фабрике, уходит на условно-досрочное освобождение и ему нужна замена. А я хорошо знал деревообработку и мебельное производство — в художественном училище проходил все это, и я его заменил. В результате из тех четырех с половиной лет, которые я там просидел, четыре года я провел в маленькой каморке технического отдела, где у меня был письменный стол, кульман, бумага, где я мог даже тайком рисовать. Я сделал серию рисунков к стихам Юлии Вознесенской: она попыталась приехать на наш суд, сбежав из ссылки, была еще раз задержана, после этого ее ссылку заменили двумя годами лагеря под Иркутском. Она сидела там и писала стихи. А я был за Полярным кругом и тайком рисовал иллюстрации к ее стихам. Сборник должен был называться «Книга разлук». Сейчас эти рисунки хранятся в Музее политической истории. Помню, вскоре после того, как я начал работать технологом, к нам в технический отдел зашел начальник лагеря Масягин и как бы невзначай рассказал историю: «Был тут у нас один кадр, который взял и наколол себе на лбу татуировку “враг КПСС”. Я фельдшера позвал, мы его скрутили, спиртом лоб протерли, а потом скальпелем срезали и кожу содрали». И так значительно на меня посмотрел. Спустя четыре года меня перевели в колонию-поселение под Плесецк, на лесоповал. Ну, там я топориком намахался. Я был сучкорубом: дерево валится, надо обрубить сучья и переходить к следующему. С лесоповала я освободился досрочно, вот как это было. Зэки в соседнем вольном поселке построили большой детский комплекс, и начальство, зная, что я художник, вызвало меня в управление: «Вот тебе задача, разрисуешь?» Я говорю: «А мне-то с этого что?» — «Сколько тебе осталось?» — «Полгода осталось». — «Ну вот, как только закончишь, мы тебя досрочно выпустим». А мне это было действительно очень нужно: я знал, что если выйду по сроку, то к этому времени чекисты тоже будут готовы и захотят меня в город не пустить. Поэтому я нашел еще двоих ребят, которые умели рисовать, и мы за четыре месяца превратили этот детский комплекс в палехскую шкатулку: все расписали зайчиками, солнышками, слониками. И я действительно получил освобождение на два месяца раньше. На самом деле, конечно, я пришел в лагерь с очень смутными представлениями о том народе, о том обществе, в котором живу. Потому что моя среда была достаточно изолированной. И когда я окунулся туда, в эти народные университеты, я увидел совсем другой народ, совсем другое общество. И выходил я из лагеря с мыслью о том, что я, наверное, не стану больше заниматься политической борьбой. Потому что, похоже, этим людям свобода не нужна. А если и нужна, то не эта свобода, а совсем другая. Вот с таким ощущением я выходил. Ну а потом, наверное, натура свое взяла. В 1982 году я освободился. Вернулся в Питер, устроился работать в Мариинский театр, в художественные мастерские, и решил, что вернусь обратно к своей творческой жизни. Нашел часть художников, с которыми когда-то вместе мы «воевали». Оказалось, большая часть уехала сразу после того, как нас посадили. Видимо, городские власти решили, что лучше избавляться от этих смутьянов, и, в общем, им стало легче уезжать. Многие уехали, но часть осталась. И появилась уже новая генерация левых художников. С ними мы стали создавать новое товарищество, биться за новые выставки, и так продолжалось с 1982 по 1988 год. Мы пробивали выставки левых художников, боролись против цензуры за каждую работу, но все-таки постепенно отжали эту тугую дверь. Вскоре началась перестройка, выставки нонконформистов стали рядовым делом, и биться за это было уже необязательно. В 1988 году мы создали в Питере отделение партии «Демократический союз», и на митинге я со ступенек Смольного собора объявил о том, что наша партия ставит своей легальной целью смену политического строя, отмену господства одной коммунистической партии, возвращение к рыночным отношениям. Отец, к сожалению, не дожил до того дня, когда рухнул Союз. Он так об этом мечтал, мечтал о том, чтобы правда наконец была сказана. Не дожил, буквально чуть-чуть не успел. Уже мы митингуем на улицах, уже поднимаем российский флаг у Казанского собора. Но власть еще держится, в День Конституции я как раз собираюсь идти на очередной митинг, заезжаю к нему, и он умирает у меня на руках. Так и не дожил до того, о чем мечтал. Мать дожила, она потом уже видела меня не только зэком, но и активным гражданином, и депутатом Ленсовета, а потом и Государственной Думы. Она смогла убедиться в том, что все было не напрасно.

Преследование диссидентов Диссидентское движение в СССР было одним из важнейших факторов общественной жизни страны в 1960–1980-е годы. ХХ съезд, начавшаяся вслед за ним кампания осуждения культа личности и политика «оттепели» дали почувствовать населению страны относительную свободу. Однако зачастую критика сталинизма перетекала в критику самой советской системы, что власть позволить не могла. Диссидентское движение стало ответом на ужесточение позиций государства в отношении тех, кто стремился изменить советскую тоталитарную систему. Основными целями диссидентства были: предоставление обществу реальных гражданских и политических прав и свобод, отмена цензуры, свобода творчества, снятие «железного занавеса» и установление тесного контакта с Западом. Диссиденты подвергались преследованию со стороны власти, в том числе уголовному. По статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда» и аналогичным статьям уголовных кодексов союзных республик они попадали под категорию «особо опасных государственных преступников» и осуждались к лишению свободы на срок до семи лет и пяти лет ссылки (до 10 лет лишения свободы и пять лет ссылки для ранее судимых за подобное преступление). В середине 1980-х годов, во время перестройки, начался процесс освобождения участников диссидентского движения.
Архивные документы

Оперативный приказ наркома внутренних дел СССР № 00447. 30 июля 1937 года. ЦА ФСБ России

Оперативный приказ наркома внутренних дел СССР № 00486 «О репрессировании жен изменников родины». 15 августа 1937 года. Коллекция документов. НИПЦ «Мемориал»

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР». 7 марта 1944 года. ГА РФ

Постановление ГОКО № 5859сс «О крымских татарах». 11 мая 1944 года. РГАСПИ

Докладная записка наркома внутренних дел СССР Л. П. Берии о результатах начала операции по выселению крымских татар. 19 мая 1944 года. ГА РФ

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О запрещении браков между гражданами СССР и иностранцами». 15 февраля 1947 года. ГА РФ
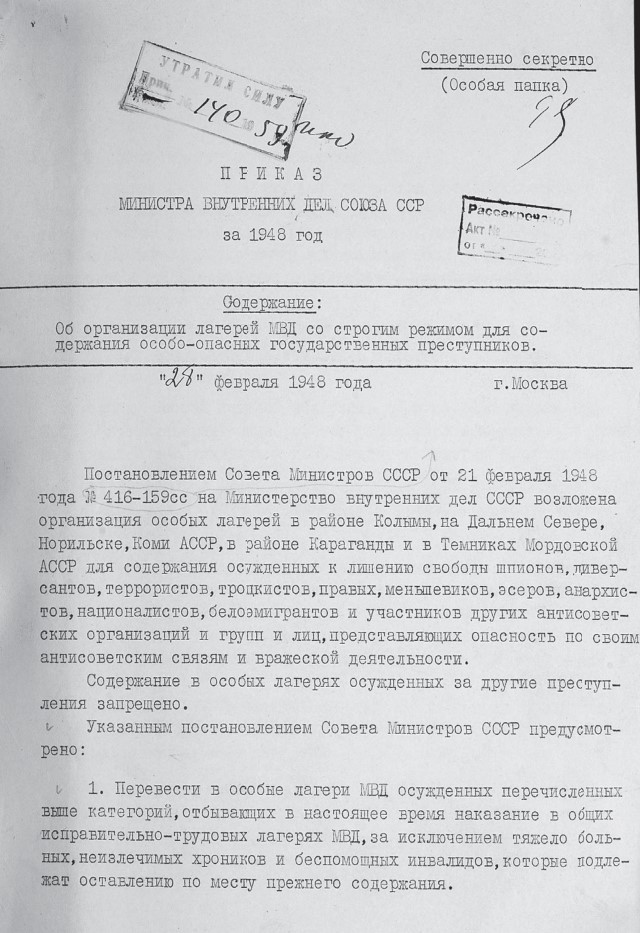
Приказ министра внутренних дел СССР «Об организации лагерей МВД со строгим режимом для содержания особо опасных государственных преступников». 28 февраля 1948 года. ГА РФ

Приказ наркома внутренних дел СССР «О присвоении условных наименований особым лагерям МВД». 10 мая 1948 года. ГА РФ

Указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии. 27 марта 1953 г. Газета «Правда». 28 марта 1953 года.

Постановление XX съезда КПСС «О культе личности и его последствиях». 25 февраля 1956 года. РГАНИ
.МОЙ ГУЛАГ За кадром
.Людмила Садовникова, создатель и руководитель проекта «Мой ГУЛАГ»

О том, что нашу семью коснулись репрессии, я узнала еще в детстве, мне было лет шесть или семь. Это так рано полученное знание всегда оставалось со мной, но по-настоящему стало актуальным лишь в 2011 году, когда я работала над фильмом о своей матери Вере Сергеевне Андреевой. Одним из сюжетов ее рассказа был арест деда в 1937 году. Оказалось, дедушку арестовали по доносу, и одним из его авторов был наш ближайший родственник, человек, который затем ушел на фронт, воевал, погиб при обороне Севастополя и всю жизнь был для меня героем. Тогда мне показалось, что, не осмыслив и не приняв тот факт, что это случилось с моей семьей, с моими близкими, с теми, кого я любила и уважала, мне будет очень тяжело жить дальше. Я углубилась в тему репрессий, начала работать волонтером в Сахаровском центре, расшифровывала воспоминания узников лагерей и постепенно пришла к пониманию масштаба, а главное — общности той трагедии, которая прошла и через судьбу моей семьи. У меня появилась потребность сохранить воспоминания и переживания не только моих близких, но и истории других людей, переживших подобные испытания. Так и возникла идея архива видеоинтервью. С этой идеей в 2013 году я пришла работать в Музей истории ГУЛАГа. Меня поддержали директор музея Роман Романов и тогдашний заместитель директора по науке Ирина Галкова. Она же активно участвовала в становлении проекта, помогала формулировать аспекты и направления его деятельности. Несколько первых материалов я записывала самостоятельно, чуть позже присоединился режиссер и оператор Антон Андросов, с ним я ранее уже работала над визуально-антропологическим проектом по истории московского Зарядья 30–50-х годов. Он хорошо знал эпоху, о которой нам предстояло собирать материал. В самом начале работы над проектом наиболее сложным процессом был поиск героев. Нам очень помог фонд Александра Солженицына и лично Наталья Дмитриевна Солженицына, она поделилась контактами живущих в Москве бывших узников лагерей. Некоторые наши первые респонденты приходили в музей сами и соглашались на съемки, видя в этой работе свою миссию. Так, первым в музей пришел один из самых дорогих лично мне героев — Юрий Львович Фидельгольц. Он попал в лагерь в 1948 году, был арестован после первого курса театрального института за то, что он и его двое друзей собирались и читали друг другу свои стихи. Юрий Львович дал интервью, проехал с нами по всем знаковым для него в Москве местам. Показал дом, в котором его арестовали, здание контрразведки, где он находился в предварительном заключении, отвез к Военному трибуналу, где судили его и двух его друзей, зачитывая их стихи как доказательство вины. После завершения съемок Юрий Львович активно принимал участие в проекте, приглашал домой волонтеров, читал свои стихи, рассказывал о жизни в лагере. Но такое понимание и желание сотрудничать в самом начале мы встречали у единиц. Чаще всего наши герои поначалу относились к нам с настороженностью. Прежде чем человек соглашался дать интервью, мы могли созваниваться в течение полугода, иногда и год. Были люди, которые много раз обещали встречу, а потом резко отказывались от участия в проекте. Некоторые герои сами выбирали себе режиссера. Так, Татьяна Иваровна Смилга-Полуян, узнав, что я по первому образованию историк, беседовала со мной по телефону раз десять, подробно экзаменуя по теме Октябрьского переворота, а потом отказала в съемке, но легко согласилась на уговоры Антона Андросова без всяких экзаменов по истории. С самого начала мы решили, что хронометраж нашего материала определяют сами герои. Они рассказывают нам о себе и своей жизни столько, сколько им кажется необходимым и интересным. К некоторым мы ездили в течение месяца, а к кому-то и в течение года. Средний возраст наших героев — от 80 до 100 лет, поэтому предсказать, как будет складываться работа, очень сложно. Бывали случаи, когда человек встречался с нами один раз, охотно рассказывал о себе, а на следующий день звонил и просил остановить съемки, говорил, что эти воспоминания и переживания забирают слишком много душевных и физических сил. Среди наших героев были люди, которые уже давали интервью, но самые пронзительные материалы мы записывали с теми, кто рассказывал о своей жизни впервые. Параллельно с началом работы над проектом уточнялась его концепция. Для того чтобы изучить опыт фиксации подобного материала, я обратилась в «Мемориал» и Сахаровский центр, так как их сотрудники уже много лет записывают интервью с узниками ГУЛАГа. Во время этого сотрудничества стало понятно, чем именно должен отличаться наш проект от существовавших до него. Я — историк по первому и режиссер по второму образованию, и мне было очень важно, чтобы в проекте соединились два аспекта: исторический и художественный. То есть мы должны были вести запись так, чтобы, с одной стороны, она становилась документальным источником, рабочим материалом для историков, антропологов и всех интересующихся историей России XX века. А с другой стороны, рассказывали о человеке, фиксировали не воспоминания, а переживания, которые впоследствии могли стать основой для художественного осмысления его судьбы, для фильмов или книг. Для решения исторической задачи была разработана подробная программа опроса шести категорий респондентов. В итоге мы пришли к тому, что стали записывать биографические интервью, в которых обязательно касаемся всех тем, содержащихся в программах. А чтобы решить вторую (художественную) задачу, работаем с героями так, как режиссеры неигрового кино. Снимаем интервью как парную сцену, стараясь через снятый материал раскрыть Человека с его особенностями, слабостями, парадоксами; показываем, как на его взглядах, оценках, суждениях отразились пережитые им репрессии. Сразу стало очевидным, что мы не будем намеренно искать героев, как этого требует неигровое кино, где поиск такого человека — специальная сложная задача, и от ее решения во многом зависит успех фильма. Мы будем снимать каждого, кто придет и захочет поделиться своими воспоминаниями. Еще одна важная особенность нашего проекта: мы делаем акцент на времени записи интервью. Снимая в конце 2010-х годов, мы стараемся достичь того, чтобы герой из сегодняшнего дня оценил свое собственное прошлое и настоящее и прошлое и настоящее нашего общества и нашей страны. Постепенно выработалась и форма проекта. «Мой ГУЛАГ» представляет собой один фильм, состоящий из множества отдельных историй, — бесконечный поток людских судеб, объединенных темой репрессий. С самого начала встал вопрос о названии, в Музее истории ГУЛАГа шла оживленная дискуссия о его выборе. Из множества вариантов в финале осталось всего два: «Мой ГУЛАГ» (идея Антона Андросова) и «Воспоминания свидетелей о ГУЛАГе» (предложение заместителя директора по науке Галины Михайловны Ивановой). Мы провели голосование среди сотрудников музея, в результате мнения разделились ровно пополам. Тогда мы обратились за помощью к участникам нашего проекта — людям, которые прошли лагеря и уже успели рассказать нам свои истории. Наши респонденты провели аналогию с идиомами «мой крест» и «моя Голгофа» и выбрали «Мой ГУЛАГ». Они посчитали, что именно такое название дает возможность передать глубоко личную составляющую каждого рассказа, субъективность и сокровенность воспоминаний. Через год появилась возможность расширить проект, и я пригласила режиссеров и операторов, с которыми вместе училась на Высших курсах сценаристов и режиссеров, людей, близких мне по духу и взглядам. Так в проект пришли режиссеры Вероника Соловьева, Ирина Бузина, Мария Гуськова и Денис Гуськов, немного позже — Таисия Круговых и Василий Богатов, еще через несколько лет к нам присоединились Валерий Туголуков, Виктория Рябинина, оператор Анатолий Марфель, Елена и Леонид Никифоренко. Моя задача усложнилась: оставаясь режиссером проекта, я начала принимать и редактировать материалы нескольких съемочных групп. Сейчас в проекте работают 11 съемочных групп в Москве и других городах. Мы записали около 300 биографических интервью хронометражем от трех до 25 часов. Работа над одним материалом занимает примерно месяц. Особо сложные и богатые истории режиссеры иногда монтируют несколько месяцев. На выходе мы получаем полную видеозапись интервью и фильм хронометражем от 15 до 40 минут, который становится очередной серией. Через три года наш проект стал расширять свою географию. Поначалу режиссеры сами организовывали экспедиции в другие города — Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль, Тамбов, съездили в Карачаево-Черкесию, снимали интервью в Норильске. С помощью наших коллег из ингушского «Мемориала» была организована экспедиция в Ингушетию. А больше года назад к проекту присоединилась Анна Ветрова, ставшая региональным куратором, и география наших экспедиций значительно расширилась. Режиссеры проекта побывали в Казахстане, Чечне, Екатеринбурге, в Новоуральске, записали интервью в Германии. Еще одна важная особенность проекта «Мой ГУЛАГ» — он тесно связан с нашим музейным социально-волонтерским центром, в чьи руки (и это буквально) мы часто передаем наших героев после окончания записи. Это сотрудничество помогает им не чувствовать себя покинутыми, а проекту — вновь и вновь возвращаться к ним и снимать новые сюжеты. Также наши волонтеры взяли на себя огромный труд по расшифровке интервью. Все воспоминания, опубликованные в этой книге, расшифрованы волонтерами музея. Я абсолютно уверена, что наш проект, забота волонтеров меняют жизнь героев. Самое ценное, что я услышала от одной из наших героинь: «Вы изменили мою жизнь, теперь я чувствую, что прожила ее не напрасно». Но работа с этой темой и людьми, пережившими репрессии, несомненно, меняет и нас, участников проекта. Многие вещи становятся очевидными. Например, та чудовищная деформация, которая произошла с нашим обществом в результате длительных репрессий. Ведь в течение ста лет, начиная с прихода к власти в России большевиков, память о прошлом как на государственном, так и на личном уровне подвергалась умышленному искажению. Многие, в чьих семьях были арестованы родственники, стремясь сохранить жизнь себе и своим детям, предавали забвению имена репрессированных близких, вытесняя «опасную» память, прерывали семейные связи. Люди, вернувшиеся из заключения, желая оградить свою семью от страшного опыта, скрывали то, что видели и пережили в лагерях. Неудивительно, что в некоторых семьях только сегодня узнают о том, что их родственники были расстреляны, погибли в лагерях или ссылках. Так произошло и с моей семьей. Во время работы над проектом мы нашли двух близких родственников, память о которых была практически стерта. Двоюродные братья, которые совсем юными с разницей в два дня 1938 года были расстреляны на Бутовском полигоне: Георгий Шапошников — как польский шпион, а Владимир Темерев — как японский. Именно поэтому главной целью проекта я вижу актуализацию памяти о репрессиях и системе ГУЛАГа. Сегодня к проекту «Мой ГУЛАГ» может присоединиться каждый, кто хочет записать воспоминания своих родных или знакомых, пострадавших от репрессий. На нашем сайте размещено методическое пособие, оно поможет и в работе с технической стороной проекта (как правильно снять видео и записать звук), и с формированием списка вопросов и тем интервью. Сегодня проект принимает новые формы. Впервые музей издает материалы интервью в виде книги, этот формат поможет некоторым видеоматериалам, обойденным вниманием, стать востребованными. В проекте есть удивительные истории жизни, их рассказывают люди очень пожилые, воспринимать их на слух очень тяжело, а книга раскроет потенциал этих ценнейших свидетельств. Важной особенностью книжной публикации являются исторические комментарии, которые подготовила к каждому интервью историк, старший научный сотрудник ГМИГ Татьяна Полянская. Снимая и редактируя такое огромное количество материала о людях, переживших репрессии, я поняла, что есть наиболее интересный и близкий лично мне тип человека, прошедшего через эту машину. Это люди, которые уже до лагеря четко понимали, в какой системе они живут, — мальчишки из послевоенных поэтических кружков, в своих стихах смеявшиеся над ограниченностью Сталина (Юрий Фидельгольц), бывшие военнопленные, воевавшие, видевшие и сравнившие то, как жили люди в Европе и в СССР, умеющие и знающие, как за себя постоять (Лев Нетто). Те, кто был арестован и отправлен в лагерь «за веру», «не отрекшиеся от Бога», к какой бы конфессии они ни принадлежали (Софья Федина, Алексей Арцыбушев, Павел Беженарь). Все они обладают редким чувством собственного достоинства, и никто из них ни в какой мере не является жертвой. Самое интересное, что все они ясно представляют, что стало со страной в результате репрессий и какой невосполнимый урон нанесен обществу. Только эта категория героев необыкновенно трезво оценивает нынешнюю ситуацию в стране и, несмотря на возраст и ограниченность в источниках информации, не подвержена воздействию какой-либо пропаганды.
Антон Андросов, режиссер проекта «Мой ГУЛАГ»

Я пришел в «Мой ГУЛАГ» в 2013 году. Проект начался со съемки интервью с лагерниками, которые один за другим покидали этот мир. Выбирать героя не приходилось, они все были героями. Люди, пережившие длительное насилие и выжившие в каторжных условиях, хотели поделиться своим опытом, понимая, как важны будут для живущих «показания» свидетелей. Для меня проект «Мой ГУЛАГ» — это долг. В стране, где более ста лет осуществляется геноцид собственного народа, нельзя жить, ничего не делая против этого. Когда мы думали, как назвать проект, я предложил «Мой ГУЛАГ». Название пришло из английского, по аналогии с названиями социальных сетей — My Space, например. Хотелось, чтобы в названии было осознание человеком своей истории. Смысл названия должен был быть одинаковым на двух языках: «Мой ГУЛАГ» — My Gulag. Когда стали опрашивать респондентов, они почти все правильно понимали смысл названия и ассоциировали его с собственной биографией, с понятиями «мой крест», «моя Голгофа». Что касается моего пути в проект, то в антропологических проектах я участвовал и раньше. Передачи и фильмы на основе прямых автобиографических интервью без дикторского текста, без ведущего в кадре считаю современным визуальным языком. После окончания ВГИКа я десять лет работал администратором и редактором на телевидении и в документальных проектах. Монтаж меня увлекал с детства, когда он еще производился на пленке. Постепенно стал монтировать свои проекты сам, снимать как оператор. С темой ГУЛАГа столкнулся впервые в 2013 году. Незнание новой истории, непонимание масштабов репрессий и личной драмы людей можно заметить по первым моим интервью. Со временем и опытом приходило понимание. Чтение литературы, работа с архивными документами, просмотр хроники и постоянное сопоставление источников с устными свидетельствами дали объемную картину. В 2013–2015 годах мне пришлось работать в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске, отбирать хронику для проекта и для новой музейной экспозиции. Тогда я впервые осознал масштаб подневольного труда в нашей стране. Это были записи процессов 30-х годов по «делу Промпартии» и «шахтинскому делу». Бесконечные, до горизонта, нефтяные вышки, угледобывающие шахты, тяжелый труд — вот то, что фиксировала камера. В довоенной хронике о Колыме — масштабные работы по добыче руды заключенными, все вручную. Затем экспедиции на Колыму и на Чукотку, организованные Музеем истории ГУЛАГа, позволили увидеть все это своими глазами. Разрушенные, заросшие лесом лагерные бараки, прииски от Колымской трассы до горизонта, пробитые тоннелями насквозь горы, выброшенная на склоны пустая порода, ржавое оборудование. Варварская эксплуатация природы и человека. Первые два-три года в проекте было тяжело. Часто мы снимали людей, у которых не осталось близких. Тогда в музее еще не было социально-волонтерского центра, и приходилось помогать хоть чем-то. Зачастую выполнять ту работу, которую обязана делать соцзащита. У нас не было необходимой видеотехники, снимали на свои камеры, монтировали дома на собственных монтажных. В какой-то момент всем стало очевидно, что в проект стоит вкладывать средства, хотя бы в съемочное оборудование. Для меня проект «Мой ГУЛАГ» — это возможность снимать прямые многочасовые автобиографические интервью с людьми, имеющими уникальный опыт выживания в тоталитарном обществе. Большинству героев проекта за восемьдесят. В их рассказах о жизни, о выборе постепенно проступает настоящий человек, который не сдался, не струсил, заступился за другого, помог без всякой выгоды, человек, руководствующийся лишь верой во всепобеждающие добро, правду и справедливость.
Вероника Соловьева, режиссер проекта «Мой ГУЛАГ»

В проект «Мой ГУЛАГ» шесть лет назад меня позвала моя однокурсница по режиссерской мастерской Людмила Садовникова. Тогда еще не было студии визуальной антропологии при Музее истории ГУЛАГа, не было профессиональной техники, монтажного оборудования, системы хранения и прочего, они с Антоном Андросовым начали снимать своих первых героев. Но уже тогда была уверенность, что это важный проект и его качественная реализация требует серьезных ресурсов. Я в то время окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров, поступила в кинооператорскую лабораторию Московской школы нового кино и снимала документальные фильмы. Наверное, это главное, что резонировало тогда внутри. Мне казалось, что мы с Людмилой «смотрим в одну сторону». Со временем с каждым новым героем приходило более четкое понимание той роли, которую играет «Мой ГУЛАГ» в культурной, исторической, травматической памяти общества. Это возможность зафиксировать наше прошлое через реальных очевидцев, людей совершенно разной социальной, идеологической, религиозной культуры. История переписывается до сих пор, мы постоянно что-то открываем и снова закрываем, если это неудобно выглядит. В этом контексте воспоминания выживших в ГУЛАГе — большая ценность. Главная особенность нашей работы — в том, что мы избегаем обобщений. Они нужны, чтобы сэкономить время, освоить масштабы и идти дальше. А мы пытаемся останавливаться, и не всегда это легко и комфортно — необходимы усилия. Мы их прилагаем, переживаем новый опыт, который в итоге оказывается опытом нашего прошлого. Для нас очень важен отдельный человек, его уникальное восприятие, в большинстве случаев противоречивое в отношении к общепринятым фактам. Интересен психологический аспект личности, лишенной права на собственную жизнь и тем не менее не теряющей свою уникальную траекторию. Попадая в мясорубку политической стихии, человек не распадается. С ним что-то происходит, и теперь ни наше желание по-человечески сочувствовать, ни наша рефлекторная потребность к суждению не работают. Сегодня он сидит, подключенный к микрофону, перед двумя камерами — под пристальным взором. И ему нужно снова вернуться туда, снова стать ребенком и пережить такое, о чем и думать страшно. Он весь перед тобой: закрытый, скованный, изображает уверенность или чистый и искренне плачет. Не все соглашаются, но если соглашаются — то это доверие, это распятие. И мы должны об этом знать. Бесценно все это.
Валерий Туголуков, режиссер проекта «Мой ГУЛАГ»

Моя бабушка — мамина мама — служила в НКВД, а в это время мой дедушка — папин папа — сидел в ГУЛАГе. Правда, мама с папой тогда еще знакомы не были. К моменту их знакомства НКВД уже переименовали в МВД, а дедушка вернулся домой. Из лагеря он попал на фронт, разумеется, в штрафбат, потом пришла похоронка, а потом появился и он сам, израненный, с негнущейся ногой и изувеченной рукой. Бабушка рассказывала, что проверила будущего зятя по эмвэдэшной картотеке и чуть не упала в обморок: ее единственная дочь собралась замуж за сына уголовника. Мы жили отдельно от дедушки, ходили к нему в гости, иногда он приходил к нам. Помню, что очень боялся его, бабушка же говорила: уголовник. Моя вторая «встреча» с ГУЛАГом — Татьяна Окуневская. Кинозвезда, любимица Берии и Броз Тито в одночасье оказалась за решеткой. Окуневская рассказывала мне, что ее подруга Зоя Федорова — еще одна сталинская кинодива — билась головой о стену камеры, чтобы покончить жизнь самоубийством. Охранники привязывали Федорову к нарам… Тема лагеря присутствовала в разговорах Окуневской не реже темы кино. На многие вещи в жизни она смотрела глазами лагерницы. Любимый анекдот Окуневской: Хаймовича ведут на расстрел. — Какой сегодня день? — спрашивает Хаймович. — Понедельник. — Ничего себе неделька начинается! Отдельная тема — застолья у Окуневской на «Динамо». С «послеобеда» и до утра водка, байки и красной нитью — лагерь, часто через анекдоты: — Сегодня на ужин морковка. — Ура! — Тертая. Это тоже от Окуневской, кажется, под винегрет. Все герои «Моего ГУЛАГа» пережили свой кошмар. У меня часто так: записываю рассказ героя и не могу соединить того, прошедшего ад, и этого, живого передо мной сейчас. От каждого из героев «Моего ГУЛАГа» идет свет. Это мое личное наблюдение. Образ птицы феникс срисован с человека. Это мой личный вывод. С дедушкой о ГУЛАГе я так и не поговорил: когда он умер, мне было всего десять, но с Окуневской — по полной программе и в подробностях! Так что, попав в проект «Мой ГУЛАГ», я оказался хорошо подготовлен. Скажу честно, после интервью я не рыдаю и меня немучают бессонницы. Но всякий раз расстаюсь с героем с одной мыслью: это должны знать все! Судьба одного человека не похожа на судьбу другого. Одна биография, вторая, третья… Период сталинских репрессий пришелся на детство и юность наших героев, когда все происходящее с человеком запоминается детально. Собрать воспоминания этих людей — единственный способ сложить максимально объективную картину того времени. В советских и современных книгах и фильмах прошлое, как правило, отредактировано историческим моментом, вкусом и позицией авторов, наполнено устоявшимися легендами. «Мой ГУЛАГ» — редкий пример «невмешательства» в историю. Многие годы я работаю на телевидении и абсолютно искренне считаю, что это один из самых интересных проектов, которым я когда-либо занимался. Лично мне он дал очень много для понимания психологии людей, живших в то время. Когда у меня спрашивают, какой из героев запомнился больше других, я отвечаю: все! И еще о дедушке. До ареста он играл в футбол в составе команды города, не курил, не пил. Но я помню уже другое. Все, что он не пропил, разворовали собутыльники. Он умер 23 февраля в абсолютно пустой квартире. И лишь на стене каким-то чудом оставались висеть старинные часы Gustav Becker. Пишу сейчас этот текст, а дедушкины часы — на стене передо мной. Я к ним так привык, что уже не слышу боя. Вижу только, как качается тяжелый маятник.
Ирина Бузина, режиссер проекта «Мой ГУЛАГ»

Во время учебы на журфаке МГУ я работала в программе «Жди меня», выходившей тогда на Первом канале. Помню, как однажды в программу пришло письмо от пожилой женщины, она к тому времени много лет уже проживала в Германии. В 1937 году в Ленинграде сначала арестовали ее отца, через какое-то время забрали маму, а девочку отправили в детский дом. Там ей поменяли имя, отчество и фамилию. От родителей остались только янтарные бусы, которые были на шее малышки во время ареста. И все. Фотографии изъяли при обысках, а своей настоящей фамилии она не знала. Она была совсем крошечной, когда происходили эти страшные события. Были, конечно, в программе истории, когда родственников находили по коробку спичек или по старой открытке, но тут никого не удалось найти. Я часто вспоминаю эту женщину и пытаюсь себе представить: как можно жить, не зная, кто ты, кто твои родители и откуда твой род? Потом похожие истории в письмах мне стали попадаться все чаще, и уже тогда меня напугали масштабы репрессий, касавшихся чуть ли не любой семьи, любых сословий, любого уголка страны. Людей, которым стерли память, оказалось очень много. К сожалению, эту травму невозможно изжить. Она почти в каждом из нас. В моем роду тоже были ссыльные, которые так и сгинули в Вятке. Толком про них сейчас никто ничего не знает. Есть имена, но нет воспоминаний. Поэтому я считаю важным успеть записать воспоминания «коллективного героя». Истории респондентов проекта «Мой ГУЛАГ» — про нас всех. Однажды оператор, с которым мы работали на съемках, рассказала про свою однокурсницу по режиссерским курсам, придумавшую проект «Мой ГУЛАГ». Я подумала, что это очень крутой проект, делая который можно не мучить себя вопросом «зачем я это снимаю?». К тому времени любовь к телевидению прошла, я поступила учиться в Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, пришла в проект. Очень рада, что за время работы мы дважды съездили в командировку в Нижний Новгород, в мои родные края. Общаясь с местными героями, я находила многие ответы на вопросы. Для меня важно найти «своего» героя. Мы должны на время стать «бабушкой и внучкой», а не режиссером и респондентом. Нам должно быть комфортно и интересно вместе. Мне нравится, когда герой может в дырявой кофте встретить нас на даче и угостить огурцами, а потом показать теплицу с помидорами. Или когда герой показывает гераневый сад у себя на балконе, а потом приходит соседка в гости и приносит пироги для всех. Или когда героиня предлагает вязаные теплые носки, чтобы ноги у меня не замерзли. Очень простые, человечные вещи часто определяют исход съемок — удались они или провалились. Мне нравится, когда во время съемок герой не замечает камеры и незаметно переходит на «ты». Для меня это маленькая победа. Значит, дистанция сократилась и он может мне рассказать и доверить больше. Чем ближе мне удается сблизиться с героем, тем удачнее пройдут съемки, тем эмоциональнее будет материал. Он «пустит» меня, а значит, и зрителя к своему сердцу, в самые больные и сложные его участки. На моей родине в Нижегородской области о репрессиях относительно свободно заговорили совсем недавно. Массовые реабилитации начались там лишь в конце девяностых. Однажды мы снимали там женщину, которая до сих пор боится открыто рассказывать о своей судьбе. Когда мы уходили, она тихо спросила: «А мне за мой рассказ ничего не будет?!» Другая героиня после съемок шепотом на лестничной клетке посоветовала нам поскорее уезжать из страны. Мне кажется, что все мои герои по крохотной частичке живут во мне, воспитывают меня, ведут со мной диалог, когда я ослабеваю и впадаю в уныние. Масштаб наших жизненных трагедий зачастую ничтожен по сравнению с тем, что пережили наши герои. Но именно мелкие трагедии часто приводят к безысходности. Будто психика не запускает тот мощный механизм, который включается при сильных потрясениях. Думаю, у героев проекта «Мой ГУЛАГ» стоит учиться любви к себе и доверию своей внутренней силе.
Мария Гуськова, режиссер проекта «Мой ГУЛАГ»

В «Мой ГУЛАГ» меня пригласила руководитель проекта Людмила Садовникова. Мы вместе учились на режиссерском факультете Высших курсов сценаристов и режиссеров. До поступления на ВКСР я окончила филологический факультет МГУ, работала преподавателем шведского языка и переводчиком. Я очень хорошо помню свою первую съемку. Мы снимали интервью с Эстер Абрамовной Дасковской. Ее отца приговорили по 58-й статье к 10 годам ИТЛ, после чего Эстер Абрамовна ребенком оказалась в ссылке вместе с матерью. Во время съемки у меня было ощущение, что я общаюсь с очень близким мне человеком. Это интервью сильно напомнило мне разговоры с моей бабушкой. Вечерами бабушка часто наливала из самовара чай и рассказывала мне о том, что ей и дедушке пришлось пережить. От этих разговоров у меня остался сильный эмоциональный отпечаток, но содержательной части я, к сожалению, совсем не помню. И поговорить об этом осознанно уже ни с бабушкой, ни с дедушкой не смогу. Видимо, работа в проекте «Мой ГУЛАГ» позволяет мне восполнить эти содержательные лакуны и эмоционально вернуться в мои детские разговоры. Героем в кадре, как правило, оказывается тот, кто готов к откровенному и очень болезненному разговору. Человеческий мозг реагирует одинаково на реально происходящие события и на актуализацию воспоминаний о них. Это значит, что респонденту во время интервью приходится погружаться в состояние непроработанной и очень мощной психологической травмы, снова переживать публичное изнасилование системой сталинских репрессий. Человек, готовый пройти через это, всегда интересен зрителю, он всегда герой. В моменты откровения зритель видит на экране не «говорящую голову» пожилой женщины, а 18-летнюю девочку, избитую и изнасилованную начальником лагеря, беспомощную и отчаявшуюся. Надо понимать, что материал для наших интервью снимается по 8–10 часов, что некоторых респондентов мы снимаем по несколько дней. Этим людям уже не по 20 лет, им очень тяжело даются съемки, психологически и физиологически. Их захлестывают эмоции, они плачут в кадре, у них скачет давление. Однако эти люди осознают, что благодаря съемкам музея их личная история фиксируется и таким образом становится частью нашей общей истории. Во время съемок я как режиссер погружаюсь в каждого героя, эмоционально проживаю все, что пережил мой собеседник, иначе интервью не получится. Запоминаются герои, которые полностью доверились мне как режиссеру, которые через стыд, боль и слезы поделились со мной своим интимным опытом, своей личной трагедией. Для меня это Маргарита Даниловна Андрющенко, Мария Афанасьевна Туманова, Зоя Ивановна Выскребенцева, Исса Аюбович Кодзоев. Мы ездили в несколько экспедиций, но яркие впечатления оставила экспедиция в Ингушетию. Меня поразила степень осознания ингушами разных поколений потребности фиксации истории их народа. Я больше нигде не встречала такой вовлеченности в наши съемки. У нас был случай, когда молодой таксист отказался брать с нас деньги, так как хотел таким образом участвовать в проекте музея. В Ингушетии было много интересных респондентов. Так, нам посчастливилось взять интервью у Иссы Аюбовича Кодзоева, очень талантливого ингушского писателя, пережившего депортацию. Надеюсь, что эта книга позволит Музею истории ГУЛАГа охватить ббльшую аудиторию и привлечь в проект новых участников. Я хочу выразить огромную благодарность всем моим героям. Я знаю, как вам было непросто отвечать на мои нелегкие вопросы, как вам было больно говорить о том, что вам пришлось пережить, и как вам приходилось подолгу приходить в себя после интервью. Вы — смелые и сильные люди. Я вами восхищаюсь. Большое спасибо, что поделились своей историей.
Виктория Рябинина, режиссер проекта «Мой ГУЛАГ»

По роду деятельности я телевизионный журналист, в профессии с 2001 года. За это время неоднократно слышала душераздирающие «звездные» истории про репрессии: Алиса Фрейндлих, Лев Додин, Владимир Дашкевич, Светлана Безродная, Зоя Зелинская. Услышанное заставило задуматься о том, что таких историй, к сожалению, много, у каждого — своя память, своя боль, свое желание высказаться. Мне захотелось собрать эти воспоминания, записать как есть, без купюр, без особого монтажа и приукрашивания, чтоб не думать о формате и хронометраже, а потом о рейтинге — неизбежных составляющих телевизионного процесса. Пусть люди говорят то, что хотят и сколько хотят, пусть вспоминают, пусть достают потрепанные, выцветшие справки, фотографии, какие-то только им понятные и памятные артефакты того страшного времени, пусть плачут в кадре, пусть не боятся быть настоящими, пусть выскажутся, пусть навспоминаются, пусть отпустят эту тему, хотя отпустить полностью вряд ли получится. Так я присоединилась к очень нужному и важному проекту «Мой ГУЛАГ» в Музее истории ГУЛАГа. Мое первое интервью для проекта «Мой ГУЛАГ» было с дочерью авиаконструктора С. П. Королева — Натальей Сергеевной Королевой. С ней я знакома давно, но в этом интервью она была какой-то особенной: вспоминала не величие своего отца, а ужас того времени, своего украденного детства. Истории «Моего ГУЛАГа» — тяжелые истории. Для меня самое сложное — не заплакать во время интервью, надо ведь казаться сильной. Степень «тяжести» или «легкости» интервью зависит от самого героя. Бывает, что человек легко «впускает» тебя в свою память, а бывает, и сам неохотно туда возвращается. Я помню всех героев, но особенно — Зураба Михайловича Чавчавадзе. Очень легкий человек, позитивный и оптимистичный. Он о грустном и тяжелом вспоминал легко и с иронией — на этом интервью я даже смеялась. смеялась вместе с ним. Помню интервью с героиней этой книги Нинель Мониковской. Для меня Нинель Петровна — сложная героиня, точнее сказать, она просто героиня. Я бы сказала — этакая Снежная королева, а королевы простыми не бывают. Все истории я переживаю тяжело: после съемок два-три дня хожу под впечатлением, не отпускает. Думаю, что и нашим героям непросто дать интервью. Но после им однозначно становится легче — по крайней мере, так говорили все. Люди — разные, истории — разные, но объединяет их один поразительный лично для меня факт: никто никого не осуждает, не обижается, не обвиняет, не сетует на судьбу. Люди, которые сами прошли лагерь, отличаются потрясающим жизнелюбием, человеколюбием, они живут просто и мудро.
Елена Никифоренко, режиссер проекта «Мой ГУЛАГ»

«В проект «Мой ГУЛАГ» я пришла совсем недавно, в 2018 году, имея личный повод, личную историю. В 1941 году мой прадедушка Ефрем Александрович Восканян был направлен на защиту Севастополя. В июне 1942 года во время оккупации он попал в плен, а в 1944 году ему удалось бежать. Узнав об отступлении немцев, прадедушка явился в штаб советских войск, где был арестован и осужден на 10 лет лагерей как изменник родины. Ефрем Александрович работал на угольных шахтах Интинской территории и только в 1955 году был освобожден, смог вернуться в родной дом. Прадедушка был человеком светлым и сильным духом, несмотря на трудности, которые он пережил. Общаясь с героями наших документальных интервью, я каждый раз как будто бы общаюсь с моим прадедом, и каждая судьба — это бесценный опыт воли и надежды. Моим первым героем в проекте «Мой ГУЛАГ» стал Михаил Николаевич Пеймер. Мы снимали его во время экспедиции в Ярославль. Я очень волновалась, думала: справлюсь ли? Помню, как на лестничной площадке нас встретил очаровательный лучезарный человек и жестом пригласил войти. Говорить ему было тяжело: он зажимал рукой трахеостомическую трубку в горле. Пока мы готовились к съемке (выставляли камеру, свет), Михаил Николаевич рассказал, что трубка в горле — последствия рака, который он пережил в преклонном возрасте, и что победил болезнь своим жизнелюбием. Мне повезло, что именно он был моим первым героем. Михаил Николаевич помог глубже ощутить и понять ценность того, что я делаю, помог поверить в то, что все получится и я справлюсь. Для меня Пеймер — очень личный герой. Он попал в лагерь из-за разговора о несогласии с политикой Сталина, с его приказами отправлять в ГУЛАГ пленных советских солдат, бывших в немецких лагерях. А это история моего прадедушки. По сути, Пеймер не побоялся вступиться за таких, как мой прадед. Конечно, напрямую это никак не связано, но я откликнулась. В Михаиле Николаевиче меня поразило то, как он смог переосмыслить свой лагерный опыт. В нем нет озлобленности, обиды. Он говорил, что смог найти в себе силы и сделать лагерную жизнь наполненной и осмысленной. Мне кажется, это очень важно, потому что ты сам порой не можешь понять, как свою жизнь сделать наполненной и осмысленной и как ей радоваться. Ведь ты не в ГУЛАГе, и у тебя все хорошо. Если бы этой встречи не произошло, то, может быть, мне не хватило бы сил психологически выдержать экспедицию в Ярославль. «Мой ГУЛАГ» — важный и ценный проект, возможность увидеть эпоху, в которой мы не жили, глазами очевидцев. Прошлое сложно анализировать, часто возникает искажение информации. Многие люди склонны идеализировать прошлое, а незнание того, как это было, неизбежно приводит нас к повторению ошибок.
Таисия Круговых, режиссер проекта «Мой ГУЛАГ»

Мне посчастливилось попасть в норвежскую тюрьму Bastoy Prison. Она расположена на острове Бастой недалеко от Осло. В ней нет клеток-камер в привычном нашем понимании, охраны. Всего три официальных охранника на 125 человек, притом что у заключенных преступления достаточно серьезные — убийства, наркотрафик. Живут эти люди в двухэтажных домах с «икеевскими» комнатами, оборудованными кухней и ванной. У них есть кинозал, большущая библиотека, ферма, где они ухаживают за животными, место для барбекю, футбольное поле, магазин. Я записала большое интервью с директором этой тюрьмы, и мне захотелось снять кино и про российскую тюремную систему, чтобы показать ее отличие от прогрессивной норвежской. Потом я приехала с камерой в российскую колонию в Мордовии, где сидела моя подруга, дорога к ее исправительной колонии шла между заборами с колючей проволокой несколько километров. Когда я подъехала, мне сказали: убери срочно камеру, иначе охранник на вышке выстрелит. Разница налицо. После этих съемок я поняла, что могу приносить какую-то пользу обществу, и сделала еще несколько фильмов про психиатрическую систему, про систему здравоохранения в Европе и России. Я выложила фильм про норвежскую тюрьму на YouTube, и Сахаровский центр предложил мне сделать его показ. В зрительном зале оказались люди из «Мемориала», они, в свою очередь, пригласили меня работать с темой ГУЛАГа. Большинство фильмов я снимаю со своим любимым человеком Василием Богатовым. Он в это время учился на режиссера-документалиста вместе с руководителем проекта «Мой ГУЛАГ» Людмилой Садовниковой. Она позвала его в Музей истории ГУЛАГа, я была «довеском». Так мы и начали работать. Особенность съемок для проекта «Мой ГУЛАГ» заключается в том, что обычно все режиссеры снимают сидящего за столом человека, рассказывающего свою историю. Для кино это маловато, потому что кино — это не радио, не текст. В таком формате остается надеяться только на героя, что он будет харизматичен, интересен, трагичен, будет обладать какой-то невероятной энергией или внутренним конфликтом. Семен Виленский в этом смысле был очень хорошим героем. Помню, когда мы приехали на съемки, нам выделили ровно час и попросили не выходить за рамки этого времени, так как Семен Самуилович очень плохо себя чувствовал. Мы были согласны на все, потому что Виленский тогда уже не давал интервью, он разбирал свои архивы вместе с его помощницей — журналистом «Радио Свобода» Катей Лушниковой. Виленский уже практически ничего не слышал, говорил тихо. Он сидел в маленькой комнате, мы кое-как поставили камеру. Думаю, именно сложные условия как раз и создали необходимую для фильма атмосферу. Ну, и само собой — сам герой. Это история невероятного интеллектуала, оказавшегося в пыточной тюрьме, в невыносимых условиях государственной репрессивной системы. Когда я задавала ему вопросы, я понимала, что он отвечает не мне как режиссеру, он отвечает куда-то в вечность, он уже смотрит на себя из другой точки. Это была уникальная и интересная беседа. Семен Самуилович умер через неделю после нашей встречи. Наши съемки были последними в его жизни. В проекте «Мой ГУЛАГ» люди говорят о боли, и эта боль выходит в другое пространство. Мы фиксируем это на наши камеры. Количество этих рассказов огромное. Когда-нибудь эти истории и документы обретут политическую силу для того, чтобы никто больше не страдал от государственной репрессивной системы.
Василий Богатов, режиссер проекта «Мой ГУЛАГ»

В своей работе с российской тюремной системой я впервые столкнулся из-за дела Pussy Riot. Тогда я и моя подруга Таисия Круговых близко общались с Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич. После их ареста мы активно участвовали в кампании в их поддержку. В своих публичных выступлениях во время процесса девушки часто ссылались на опыт советских диссидентов и обнародовали информацию, обычно тщательно скрываемую в колониях. Я ездил к Pussy Riot, одно время у нас был постоянный «лагерь» поддержки. Мы жили практически у стен мордовских колоний (бывшего знаменитого Дубравлага). Потом мы с Тасей ежемесячно посещали Можайскую колонию для несовершеннолетних, где занимались с детьми кино и анимацией и помогали им делать фильмы. Так тюремная тема стала частью моей профессиональной жизни. В какой-то момент нас пригласили снимать для «Мемориала», делать ролики для «Возвращения имен», про Катынь, Медное, Сандармох и другие захоронения. Для меня это стало своего рода исследованием корней той системы, с которой мы уже сталкивались. Вскоре я встретился с руководителем проекта «Мой ГУЛАГ» Людмилой Садовниковой, с которой мы раньше вместе учились, и она предложила мне работать в ее проекте. Работая над фильмами для «Моего ГУЛАГа», я вижу перед собой человека и понимаю, как повлияла на него та репрессивная система, при которой он жил. Когда мы снимали Семена Виленского, я увидел, что передо мной — ожившая скульптура Коненкова, и почувствовал, что прикасаюсь к истории и она проходит сквозь кончики моих пальцев. Ради таких ощущений, наверное, я и работаю в проекте «Мой ГУЛАГ». Интервью с Виленским оказалось последним в его жизни. То, как Семен Самуилович говорил и выглядел, невозможно забыть. Он сидел с закрытыми глазами и говорил очень тихо и неторопливо, как будто он не совсем здесь и сейчас, как будто он был уже вне времени. Очень жалею, что продолжение нашего интервью не состоялось. Когда мы снимали интервью с Анной Заводовой, мне запомнился такой эпизод. Кажется, когда она уже сидела под следствием, к ней во сне явился Сталин. Он въехал в окно на кресле и стал говорить о том, как много хорошего сделал он для простого народа, для рабочих, а Анна — против него. После съемки именно в этом месте я обнаружил брак: автофокус камеры быстро дергался. Я не верю в сверхъестественное, но это совпадение забавное. Сама Анна Николаевна невероятно хорошо выглядела для своих лет. Как будто следствие, годы лагерей на ней не сказались. Я несколько лет работаю с этой темой и сегодня понимаю, что система ГУЛАГ продолжает существовать и сейчас, но только с какими-то декоративными изменениями.
Анна Ветрова, региональный куратор проекта «Мой ГУЛАГ»

Моя история начинается в 1940 году со слов: «Я — Эдуард Микелевич Трезиньш, признаю себя виновным в том, что я занимался выпечкой хлеба и торговлей…» Эдуард Трезиньш — это мой прапрадед по материнской линии, цитата — из дела, копия которого попала мне в руки в 2017 году, тогда мне было 33 года. Я не знала, что в 1941 году три поколения моей семьи было выслано из города Валмиера (Латвийская ССР) в Сибирь на долгих 20 лет. И вот я в Латвии, стою на берегу реки Гауя, смотрю на церковь, в которой венчались мои прапрабабушка и прапрадедушка, и понимаю, что церковь эта — протестантская. Вот такой привет из прошлого с вопросом: да что ты вообще знаешь о себе самой? Кто ты такая? Через несколько месяцев после этой поездки я присоединилась к проекту «Мой ГУЛАГ». У нас в музее — это рядовой случай, практически все мы пришли в эту тему с историей своей семьи. В «Моем ГУЛАГе» я с 2018 года. В тот момент перед проектом стояла задача расширить географию, — так я стала региональным куратором «Моего ГУЛАГа» — человеком, отвечающим за съемки в регионах. Музей тогда получил грант от Фонда президентских грантов, и в 2018 году у нас появилась возможность провести съемки в Республике Ингушетия, в Республике Чечня, Республике Тыва, в Екатеринбурге, Новоуральске, Казахстане, Ярославле, Туле, Нижнем Новгороде, Красноярске, Санкт-Петербурге, Латвии. Это был один из счастливых периодов в моей жизни. Каждое утро начиналось со звонков: «Здравствуйте, это Музей истории ГУЛАГа, мы хотели бы записать с вами интервью, расскажите свою историю. Кто был репрессирован в вашей семье?» Реакции у людей были самые разные — удивление, недоверие, благодарность. Люди спрашивали, а где гарантия того, что их не посадят, если они дадут нам интервью, некоторые бросали трубки, многие благодарили за проявленный интерес. Какой бы ни была реакция, я всегда чувствовала, что для человека на том конце провода этот звонок и этот разговор очень важен. За время работы я поняла, насколько тема репрессий жива, потому что она живет в людях, в их головах и сердцах. То, что не высказано, — остается с нами, поэтому так важно говорить о том, что болит. Ничего не рождается на пустом месте, у всего есть свои причины и корни, и, чтобы лучше понимать свое настоящее, нам порой нужно пристально всмотреться в свое прошлое. Герои проекта «Мой ГУЛАГ» — немолодые люди, средний возраст от 80 до 105 лет, дать многочасовое интервью, рассказать о том, что очень больно, обнажиться, заново пережить — очень непросто. У многих перед съемками поднималось давление, болело сердце, в таких случаях мы всегда отменяли запись. Наши герои — удивительные, особенно меня поражают лагерники — самые большие оптимисты на свете. Думаю, то, что этим людям пришлось пережить, недоступно для нашего понимания, но мы можем учиться у них терпению, принятию и стойкости, способности оставаться человеком в любых обстоятельствах. К сожалению, старость в нашей стране безмолвна, она как «черная дыра», которая засасывает людей, а что там с ними происходит — неясно, зато очень страшно. Мне кажется очень важным, чтобы истории о прошлом звучали и все эти люди обрели голос, были услышанными. Самое тяжелое в работе для меня — невозможность записать всех людей, которые пострадали от массовых репрессий советского времени. Люди уходят, их память угасает, порой отложить экспедицию на месяц-два означает просто не записать этого человека, потому что его больше нет, и это тяжело. Со многими героями я дружу, звоню им по телефону время от времени, узнаю, как дела, но невозможно уделить внимание всем, и это тоже сложно принять. Я бы очень хотела поблагодарить всех людей, которые помогают нам с поиском респондентов в регионах. Как правило, это региональные музеи, отделения общества «Мемориал», местные активисты и исследователи. Мне бы хотелось перечислить всех, но, боюсь, этой книге потребуется еще много дополнительных страниц. Просто скажу, что без вашей помощи, участия, без ваших знаний у нас бы не получилось записать ни одной истории. Спасибо!
Елена Жолобова, литературный редактор книжного проекта «Мой ГУЛАГ»

Мою семью репрессии коснулись непосредственно. Прадедушка, простой белорусский крестьянин, был расстрелян в 1937 году, ему было 42 года. Сценарий последующей жизни семьи развивался вполне типично для поколения — про факт репрессии если и знали, то не говорили. «Очнулась» я поздно, когда расспросить тех, кто что-то знал, было уже невозможно. Фотография и несколько страшных страниц из архивно-следственного дела — это все, что удалось разыскать. Поколение, пережившее сталинские репрессии, уходит, поэтому всякое живое свидетельство бесценно. Масштаб трагедии, которую пережила страна, складывается из жизней отдельных людей, покалеченных или уничтоженных. Чем больше мы о них знаем, тем объемнее наше восприятие не только прошлого и настоящего, но и самих себя. Проект «Мой ГУЛАГ» сделал большое дело — снял фильмы с людьми, пережившими репрессии, которые и легли в основу книги. В качестве редактора мне посчастливилось иметь к ней отношение: я работала с текстовыми расшифровками видеофайлов. Эти «непричесанные» расшифровки — совершенно уникальный материал, зафиксировавший живую речь без прикрас, без купюр, честную и настоящую. Моей задачей было сделать из них рассказы от первого лица, максимально сохранив и передав в книжном тексте «голос» героя, эмоцию, стиль его речи, индивидуальную логику. Это удивительный опыт — герои, совершенно незнакомые люди, становятся очень близкими. Это и болезненный опыт — погружение в человеческое горе. Оно долго не отпускает. Эмоционально это очень трудное чтение. Но оно дает возможность лучше узнать себя, ответить на очень важные вопросы: кем бы я был в тех обстоятельствах, способен ли к состраданию или хотя бы эмпатии, хочу ли я жить осознанно и любить родину не вслепую, а с открытыми глазами. Отдельная тема — воспоминания детей репрессированных родителей или очень юных людей, абсолютно невинных жертв адской репрессивной машины. Истории про разрушенные жизни, неслучившееся счастье. Слез было пролито немало, но на выходе — пронзительное понимание хрупкости человеческой жизни, ранимости и невозможности никаких иных чувств, кроме сочувствия и бережного отношения друг к другу. У проекта выраженный терапевтический эффект. «Мой ГУЛАГ» — честное, точное и говорящее название. Не только потому, что в нем собраны свидетельства людей, переживших репрессии, но и потому, что ГУЛАГ как модель существования и способ подавления человеческого многое определил в современной жизни, сказался на образе мыслей, поведении и самоидентификации. Мы живем в его последствиях, и это формирует нашу личность, а наше «сегодня» родом оттуда. Вытесняя «неудобную» память о репрессиях, мы еще глубже загоняем в себя вирус ГУЛАГа. Опамятоваться — это означает прийти в себя, очнуться, одуматься. Проект, как мне кажется, про опамятование. Я далека от мысли, что книга может что-то кардинально изменить в мировоззрении сограждан, которые симпатизируют личности Сталина — «ведь он выиграл войну» — и ностальгируют по иллюзорному имперскому величию. Но «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», а потому — «делай что должен, и будь что будет».
Алена Сханова, литературный редактор книжного проекта «Мой ГУЛАГ»

Редактировать воспоминания людей, прошедших ГУЛАГ, оказалось весьма болезненным и одновременно вдохновляющим опытом. У меня впервые была возможность услышать так много историй из первых уст. У нас ведь не принято делиться пережитым — не принято озвучивать ужасный опыт, рассказывать о плохом, о страшном. Мы живем в стране нерассказанных историй. Я родом с севера Иркутской области, и во времена моего детства, в 70–80-е годы, люди, пережившие репрессии, все еще составляли там значительную часть населения: потомки раскулаченных, ссыльные немцы, остатки местных китайцев, чудом переживших Большой террор, бывшие заключенные расформированного в 1954 году Бодайбинского ИТЛ. В моем детстве пожилые женщины с татуировками были повсюду: в детском саду — наша нянечка тетя Саша (ее руки красные от мытья посуды, и на левой надпись «Шура»), в школе — моя замечательная учительница математики Любовь Алексеевна (из кружевного рукава ее блузки виднеется «Люба»), дома — соседка баба Маша (у нее на руке было наставление: «Помни слова друга»). Я родилась и выросла среди этих людей, но никогда не слышала их историй. Не принято было рассказывать. Все молчали. В моей семье, как оказалось, тоже были раскулаченные и репрессированные, но до начала 90-х годов об этом вообще никогда не упоминалось, да и потом узнать удалось совсем немногое. Привычка молчать о пережитом прочно укоренилась в нас. Миллионы людей десятилетиями хранили свои истории нерассказанными. Мне кажется, именно поэтому наше общее прошлое, укрытое плотной пеленой молчания, и кажется нам таким нереальным. Без живых личных историй трудно поверить, что все, о чем пишут историки, происходило на самом деле. Поэтому возможность наконец услышать эти рассказы была для меня по-настоящему ценной. Моей задачей было превратить снятые на видео многочасовые рассказы в достаточно краткие тексты, и я очень сожалею о том, как много материала не вошло в сборник. Формат документальной прозы обязывал нас придерживаться фактологической части интервью, поэтому множество интересных деталей, личных наблюдений, романтических и даже мистических историй остались за рамками этой книги. Жизнь каждого из наших героев может стать основой для большого романа, фильма или сериала. Я очень рекомендую сценаристам, писателям, историкам, исследователям языка посмотреть полные версии этих видеоинтервью. Замечательно, что этот бесценный материал записан и теперь всегда будет доступен.
Татьяна Полянская, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа

По профессии и призванию я историк, и в основе моей деятельности лежит работа с архивными документами и научной литературой. Профессиональный долг любого историка — опираться на неопровержимые исторические факты: законодательные акты, делопроизводственную документацию, официальную статистику. Но работа историка в музее имеет свои особенности, одна из которых — сделать историю доступной и понятной для всех посетителей, включая детей. А это нелегкий труд. Музей истории ГУЛАГа по своему профилю не просто исторический музей, его миссия — сохранение памяти о ГУЛАГе и его узниках, о политических репрессиях и карательной политике сталинской власти в отношении собственного народа. Деятельность музея носит научный характер, в ее основу заложены не только новейшие исторические исследования, но и собственная научно-исследовательская работа. Но за бездушными цифрами статистики и сухими фразами приказов, докладов и отчетов, с которыми мы кропотливо работаем в научном отделе, стоят миллионы людей, прошедших ад сталинских лагерей и тюрем. Я не была свидетелем рождения «Моего ГУЛАГа», но с первого же просмотра одного из интервью этого проекта я впервые с необычайной ясностью поняла ценность живого свидетельства и каждый раз с нетерпением жду новых фильмов проекта. Для меня «Мой ГУЛАГ» — это не просто возможность подтвердить, а где-то и дополнить уже известные мне исторические факты, это мощная эмоциональная перезагрузка, возможность под другим углом взглянуть на историю и «вырваться» из «стерильного» документального мира нашего научного отдела в частности и исторической науки в целом.
Светлана Пухова, руководитель издательской программы Музея истории ГУЛАГа

Нашу с дизайнером Игорем Гуровичем инициативу делать красивые интересные книжки для Музея истории ГУЛАГа поддержал директор Роман Романов. Это было в 2017 году. А теперь у музея есть издательская программа, над книгами работают прекрасные дизайнеры — Игорь Гурович, Анна Наумова, Кирилл Благодатских, Настя Яруллина. Замечательный верстальщик — Дмитрий Криворучко. А началось все с маленькой рукописной книжечки-дневника заключенной Карлага. Эта книга была совместным проектом с «Новой газетой». В основе книги «Метео-чертик. Труды и дни» было журналистское расследование Зои Ерошок. К ней эта маленькая, с ладонь, книжечка попала волею случая, и совершенно ничего не было известно об ее авторе, кроме имени Олечка. Два года Зоя настойчиво искала автора. Им оказалась Ольга Михайловна Раницкая, сидевшая в лагере по политической статье и работавшая на метеостанции. Свой рукописный дневник она посвятила сыну Сашке, но им так и не суждено было увидеться — он покончил с собой. Не выдержал травли одноклассников. Он же был сыном врага народа. Когда вышла наша книга с рукописным дневником-книжечкой, со всеми воспоминаниями об Ольге Михайловне, с материалами ее дела, Зоя Ерошок, светлая ей память, плакала от радости. Мне запомнились ее слова о том, что у нее личные счеты со Сталиным (Зоя Ерошок долгое время вела в «Новой газете» раздел о ГУЛАГе). И каждый человек, возвращенный из небытия, из гулаговского забвения, — это ее личная победа. Потому что один — это очень много. Один, возвращенный из этого сталинского ада, — это очень много. Я повторяла потом долго это короткое предложение: «Один — это очень много». Я подумала, что хорошо было бы в память о Зое Ерошок взять эту фразу в качестве девиза нашей издательской программы Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти. В 2018 году у нас вышло пять книг: Леонид Городин, «Одноэтапники. Невыдуманные рассказы»; Ирина Ратушинская, «Серый — цвет надежды»; книга о Борисе Крейцере «Папка с эскизами»; «Атлас ГУЛАГа» и «Каталог изданий книг авторов, репрессированных в годы советской власти». И каждый раз, когда выходила очередная книжка, я радовалась и повторяла, как заклинание: «Один — это очень много». Я ни секунды не сомневалась в том, что необходима книжная версия проекта «Мой ГУЛАГ». Более того, я надеюсь, что это будет не одна, а серия книг. Отснято столько уникального материала, километры пленки, но многое остается за кадром. Многие герои проекта уже настолько слабы, что их сложно слушать, порой каких-то слов не разобрать, и их рассказ в книге получится более полным и ясным для всех. Для некоторых это были последние интервью, и они ушли от нас навсегда. В книге столько боли! Столько боли! Работая с текстом, всегда стараешься быть отстраненным и беспристрастным. Но здесь это не работает, это какой-то особый текст, особый случай. В совершенно неподходящий момент слезы прорываются, как бы ты ни крепился. Да, многие плачут, не я одна. Редакторы, дизайнеры, все, кто работает с воспоминаниями репрессированных. Когда читаешь о ясельниках в лагерном детдоме, поднятых в шесть утра и стоящих по стойке «смирно», слушающих гимн их страны. Или о ребенке, шедшем в детдомовском строю, покинувшем его из-за яблочного огрызка, жестоко наказанном за это и оправдывающемся: «Я же не совершала побег!» И так же как у Иссы Кодзоева в его воспоминаниях перед глазами надолго остается человек в полушубке, вышедший на полустанке за молоком для больной матери, бежавший за вагоном с этим котелком. Как выстрелил в него охранник, как он, мертвый, растянулся на рельсах и как плеснуло молоко… и следующий комментарий: «Это был рядовой случай». Рядовой случай. Один — это очень много. В нашей книге «Мой ГУЛАГ» — 26 историй. 26 рядовых случаев. Если ты их прочитал, вслушался, вник, ты не сможешь оставаться прежним. Ты будешь благодарен этим людям, которые не только нашли в себе силы это пережить, но нашли в себе силы это вспомнить. Если у нас один — это очень много, то теперь — плюс 26.
Список сокращений
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика АХО — Административно-хозяйственный отдел БАМ — Байкало-Амурская магистраль Берлаг — Береговой лагерь ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства ВИНИТИ — Всесоюзный институт научной и технической информации ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) ВОКС — Всесоюзное общество культурных связей Волголаг — Волжский ИТЛ Воркутлаг — Воркутинский ИТЛ ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет Вятлаг — Вятский ИТЛ г. — год г. — город ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации гг. — годы Генштаб — Генеральный штаб Вооруженных сил СССР ГМИГ — Государственный музей истории ГУЛАГа ГКО — Государственный комитет обороны ГТО — «Готов к труду и обороне!» ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний ГУЛЖДС — Главное управление лагерей железнодорожного строительства ДК — Дом культуры ИТК — исправительно-трудовая колония ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь Карлаг — Карагандинский ИТЛ КГБ — Комитет государственной безопасности СССР колхоз — коллективное хозяйство концлагерь — концентрационный лагерь КПЗ — камера предварительного заключения КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза лаготделение — лагерное отделение лагпункт — лагерный пункт Локчимлаг — Локчимский ИТЛ М. — Москва МВД — Министерство внутренних дел МГБ — Министерство государственной безопасности МГУ — Московский государственный университет мединститут — медицинский институт МИИТ — Московский институт инженеров транспорта Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения НИПЦ «Мемориал» — Научно-исследовательский и просветительский центр «Мемориал» НКВД — Народный комиссариат внутренних дел НСДАП — нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) Озерлаг — Озерный лагерь ОЛП — отдельный лагерный пункт ОУН — Организация украинских националистов пионерлагерь — пионерский лагерь ПОВ — польск. Polska Organizacja Wojskowa (Польская военная организация) Политбюро — Политическое бюро пос. — поселок продаттестат — продуктовый аттестат ПТУ — профессионально-техническое училище райисполком — районный исполнительный комитет РГАНИ — Российский государственный архив новейшей истории РГАСПИ — Российский государственный архив социальнополитической истории РОА — Русская освободительная армия РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика РФ — Российская Федерация сельхоз — сельское хозяйство СМ — Совет Министров Смерш — «Смерть шпионам!» СНК — Совет народных комиссаров совхоз — советское хозяйство СССР — Союз Советских Социалистических Республик ст. — статья Степлаг — Степной лагерь США — Соединенные Штаты Америки торгпред — торговый представитель Торгсин — торговый синдикат УК — Уголовный кодекс Усольлаг — Усольский ИТЛ УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика Устьвымлаг — Устьвымский ИТЛ ФНРЮ — Федеративная Народная Республика Югославия ФРГ — Федеративная Республика Германия ХЭМЗ — Харьковский электромеханический завод ЦА ФСБ — Центральный архив Федеральной службы безопасности ЦИК — Центральный исполнительный комитет ЦК — Центральный Комитет ЧСИР — член семьи изменника РодиныСписок источников, использованных в научных комментариях
Государственный архив РФ (ГА РФ) Фонд 5446. Совет Министров СССР. Фонд 7523. Верховный Совет СССР. Фонд 9401. Министерство внутренних дел СССР. Фонд 9414. Главное управление мест заключения Министерства внутренних дел СССР. 1930–1960. Фонд 9479. 4-й спецотдел Министерства внутренних дел СССР. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ) Фонд 1. Съезды КПСС (1955–1991). Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) Фонд 644. Государственный комитет обороны СССР (ГКО). Сборники документов ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960. М., 2000. Дети ГУЛАГа. 1918–1956. М., 2002. История сталинского Гулага: Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7 томах. М., 2004. Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. 1937–1938. М., 2004. Сталинские депортации. 1928–1953. М., 2005.Научные издания Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М., 2003. Иванова Г. М. История ГУЛАГа, 1918–1958. М., 2015. Кукушкина А. Р. Акмолинский лагерь жен «изменников родины»: история и судьбы. Караганда, 2008. Полян П. М. Не по своей воле… История и география принудительных миграций. М., 2001. Савин А. И. Репрессии в отношении евангельских верующих в ходе кулацкой операции НКВД // Сталинизм в советской провинции 1937–1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447: Сборник. М., 2009. Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: Справочник / О-во «Мемориал», ГА РФ. М., 1998.
Над книгой работали
Составитель Людмила СадовниковаДизайн Игорь Гурович, arbreitskollektiv
Литературные редакторы Елена Жолобова Алена Сханова
Верстка Дмитрий Криворучко, arbreitskollektiv
Автор комментариев, научный редактор Татьяна Полянская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа
Фоторедактор Анна Ветрова, региональный куратор проекта «Мой ГУЛАГ»
Корректоры Валентина Авдеева Лидия Китс Юлианна Староверова Николай Хотинский
Ответственный редактор Светлана Пухова, руководитель издательской программы Музея истории ГУЛАГа
Менеджер проекта Мария Андрюкова, заведующая редакцией «BpeMeHa.rpynnaG» департамента прикладной литературы издательства АСТ
Технолог Людмила Серянкина, главный технолог производственного отдела издательства АСТ
Музей истории ГУЛАГа 123473, Москва 1-й Самотечный переулок, д. 9, стр. 1 +7 495 681 88 82 +7 495 621 73 10
Последние комментарии
1 час 41 минут назад
1 час 50 минут назад
8 часов 2 минут назад
8 часов 6 минут назад
8 часов 16 минут назад
8 часов 22 минут назад