Ударная армия [Владимир Фёдорович Конюшев] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Ударная армия
ВОИНАМ 65-й АРМИИ ВТОРОГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА ПОСВЯЩАЮ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
22.50. 18 апреля 1945
КОМАНДАРМ
Вот закроет дымом эту звезду… Какая ясная… Закроет — и пойду звонить Рокоссовскому… Отлично ставят саперы дымовую завесу, отлично… Закроет дымом звезду и… Судьбу пытаешь, Сергей Никишов? Какая ясная звезда… Просто чудесный свет… Судьба… Вот пошагиваю по бетону немецкой автострады, до Ост-Одера всего полверсты… А эта звезда — над гаванью Штеттина. Спокойно, Сергей Никишов, генерал-полковник Никишов. Спокойно. Ты прав. Да, ты прав. Решение верное. Здравый смысл говорит — если мы начнем форсирование Одера, этого проклятого Одера, до полного рассвета, будет удача. Должна быть удача! Должна быть! Принципы стратегии… принципы стратегии… как дальше?.. А, это же мысль Мольтке-старшего, да, да… Принципы стратегии мало превосходят первоначальные понятия здравомыслящего человека… Должна быть удача! Решение простое. Начнем атаку в шесть тридцать, а не в девять, как предлагает штаб фронта. Первый залп артиллерии, пехота — за весла и… Пятьсот метров через Вест-Одер… Да, да, в полумраке рассвета — через Вест-Одер! Немыслимо форсировать реку поздним утром — немец не на Днепре, даже не на Висле, немец — на Одере… Да, на рассвете… Я прав. Только так придет удача. Только так. А звездочка-то… какой ясный свет… Ясность — вот что главное. Да, да, я же видел глаза офицеров, когда сказал им о новом решении… Ведь все поняли, поняли, что Седьмая армия ставит себя в особое положение… Да, поняли. Я видел по лицам офицеров — поняли… Если мы провалим наступление, пощады нам не будет. Это справедливо. Иначе не может быть. Десятки тысяч людей понимают: нам нельзя не победить утром двадцатого апреля. Надо победить. Нашей победы ждут и Жуков, и Конев. Нам нельзя дать немцам перебросить свежие дивизии под Берлин, нельзя… Где Сева?.. А, стоит. Он тоже все понимает. Он не спит вторые сутки… (— Всеволод, позвони-ка, пожалуйста, Андрееву. Пусть усилит дымзавесу. Ветер с Балтики крепчает, кажется… — Слушаюсь, товарищ командующий… Сергей Васильевич, генерал Рудников сразу же позвонил маршалу… Вы еще задержались там, у макета, с полковником Волынским разговаривали, а Рудников докладывал, и, знаете, он ведь… — Иди-ка ты спать, Всеволод. — Сергей Васильевич, он же просто побелел весь, когда с маршалом говорил… Никишов опять мудрит, сказал… Ну почему он так бессовестно, Сергей Васильевич? Ему наша семерочка всегда поперек горла стоит, ведь все знают, что он на ваше место давно целит… — Лейтенант Марков, идите отдыхать. — Слушаюсь… товарищ командующий. — И не забудьте позвонить саперам. — Слушаюсь.) Обиделся, человече… Да, представляю, как изложил маршалу мое новое решение генерал Рудников… Надо звонить. Прошло уже двадцать минут, как я закончил совещание… Горит звезда… прелесть. А Всеволода я напрасно обидел… Борзов, наверное, тоже на меня обиду затаил… И Горбатов… После Данцига так и не собрался я узнать — живы ли?.. Командарм Никишов… Тебе судьба велела быть самым добрым человеком в Седьмой ударной… Надо быть добрым, иначе нет смысла жить. (— Караушин?.. Соедините-ка меня с Волынским. А еще лучше — с полком Афанасьева… Жду. — Товарищ третий, докладывает оперативный дежурный Караушин. — Слушаю, Николай Семенович. — Из хозяйства Павлюкова телефонограмма на ваше имя. Разрешите зачитать? — Изложите суть. — Слушаюсь. Уровень Одера на их участке поднялся на сорок два сантиметра. Ветер с Балтики нагоняет воду, междуречье заливает. Некоторые подразделения вынуждены концентрироваться на высотках, дамбах… Павлюков просит помочь выделением дополнительных плавсредств. — Так… Что на левом фланге? — Сейчас уточню, товарищ третий. Видимо, спокойно. — Слово «видимо» поберегите для мирного времени. — Виноват, товарищ третий. — Если немец ударит артиллерией по высоткам, что пехота сейчас облепила… С кем через Одер пойдем? Так. Инженера — к Павлюкову. — Слушаюсь. — Звоните на левый. Телефонограмму во все хозяйства — вторые эшелоны на вязку плотов. Солдаты не могут быть сутки по горло в воде, сейчас не июль… Смену боевых постов в низинах — через час. Впрочем, об этом офицеры сами решат, надеюсь. Мне докладывайте срочно, Николай Семенович. Все.) Надо быть добрым, чтобы меньше было зла… Ненавижу злых людей…ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
Дороги в этой Европе — сами ноги идут, да сапог не напасешься… Сколько верст отмахал по тем дорогам гвардии рядовой Борзов Николай (призыва 24 июня 1941 года) — про то генералам знать, им на картах все версты как на ладошке. А в апреле сорок пятого выполз он, котелком позвякивая, на берег реки, снял сапоги и вымыл ноги. — О-о-ох… чертовка… холодна немецкая водица, ребята… Из Невы пил, из Скуицы… такая маленькая речушка под Великими Луками… На Днепре был, Нарев тоже знакомый, Висла… А из немецкой реки пить не хочу, ноги в ней вымыть — только и гожа, стерва! — Не простудись, Николаич, — сказал ротный, гвардии капитан Венер Горбатов, подступил к черной воде и попинал ее носком сапога… Потом повернулся к кустам. — Связи мне долго ждать прикажете? — Есть связь, товарищ гвардии капитан! — отозвался командир отделения связи Пашка Шароварин. А через час семнадцать минут за две тысячи километров от болотистого бережка, где вторая рота уже успела отрыть окопы по пояс, в кабинете Верховного главнокомандующего было сказано: — Седьмая ударная армия вышла на рубеж Одера. Не ведал об этом Борзов. Привалился к стенке своего окопчика, курить хотелось, да не велел ротный — до немца всего полверсты… Отводил Борзов душу разговором с тремя мальчонками второго месяца службы, которым солдатская судьба счастливую карту выдала. Говорил, будто бы аккурат в апреле, в сорок третьем году, под Ладогой-озером, на тех проклятых господом богом и солдатами Кислых Водах из одного котелка кашу ел с командармом, генерал-полковником Сергеем Васильевичем Никишовым. Разжалован тогда был Сергуня ни за что, по ошибке начальства, в землянке на одних нарах будто бы с Борзовым маялся, одной шинелькой укрывался, из одного кисета куривал… Посмеивались про себя солдаты: загибает, поди, Николаич, старый кочколаз, чище Геббельса. А может, и верно — было дело. — Ну, славяне, покимарить надо, — сказал Борзов. — Последнюю немецкую реку перешагнем, Москва в нашу честь пальнет двадцать четыре залпа из трехсот двадцати четырех орудий, и домой нам можно собираться. Спите, мальчишки, перед боем солдату поспать — дело святое, хоть об этом в уставе и забыли написать. Прикрыл Борзов голову плащ-палаткой и утих.1
Отбросив от двери блиндажа задубевшую, промерзшую за ночь плащ-палатку, Марков выбрался в узкую щель ровика. Предрассветная стынь сразу охватила лицо гвардии лейтенанта, полезла за ворот свитера, но плечам и спине под наброшенной шинелью было тепло. В еще темном февральском небе, чуть тронутом над крышей блиндажа зеленоватой полосой зари, уже гасли звезды. Четыре бледных дымка над блиндажами батареи ровно уходили ввысь. Вглядевшись, Марков угадал бруствер орудийного окопа по серым отвалам земли, припорошенным клочками снега. За низенькими елочками, стоящими вразброс на бруствере, шевелились три тени. Стукнула там крышка снарядного ящика, звякнул сталью замок пушки… Вспыхнул рыжий огонек, потух, загорелся снова, подергался на ветерке и стал четким. Марков понял, что зажгли орудийный фонарь. — Четвер-р-ртое готово! — густым стуженым баском крикнул из окопа сержант Банушкин. В пяти шагах от Маркова пробежал солдат в короткой шинели, впрыгнул на бруствер, отфыркиваясь, словно из воды вылез, сказал мягким, почти девичьим голосом: — Запалыв, товарищ сержант… Гасу совсим нема… — Вижу, — сердито отозвался Банушкин. — Говорено вам, пшенникам, заправить фонарь вчерась? Дождетесь у меня, весь расчет в яму загоню, жрать не дам сутки, точно… По чужой точке наводки стрелять прикажете? — Можно и в ямке п-поспать, если Осипов даст лопат, рыть-то нечем, — заикаясь, сказал наводчик Володька Медведев. — Готово! — Да я уж отсигналил, — недовольно сказал Банушкин. — Канителишься ты, Медведев. С тобой только на прямую наводку идти, сразу гробы припасать можно… — П-погорим когда-нибудь. Всю дорогу авансом готовы. Вот лейтенант выздоровеет когда, проверит наши п-прицельные… труба дело! — Ты, москвич, помолчи. Тебе первый заход в яму делать. — С удовольствием. Высплюсь. Девчоночьим смехом отозвался Мишка Бегма. — Ты, пшенник, не скаль зубы, — сказал Банушкин. — Две фрицевские лопаты посеял, раззява полтавская. Мы их с самой Ладоги берегли. — Та шо вы надо мной катуете, товарищ сержант? Я ж тоди снаряды разгружал. Чуть шо — так Бегма виноватый, подить вы… — Миша, п-приделай ноги лопатам в третьем расчете, когда Осипов дрыхнуть будет, и медаль тебе обеспечена, — сказал Медведев. — Дирочку от бублика у нашего сержанта получишь, це да. — Помолчи, пшенник, — засмеялся Банушкин. — Лейтенант чуток поправится, тогда ты службу поймешь. Он тебя научит свободу любить. Он тебе припомнит, Миша, как за шкирку тебя из полыньи тащил… — Та я ж сам бы вылез… — Сам! Все огневики как люди по льду идут, а ты, брюхо толстое, в полынью втюрился… В общем, Миша, без медальки тебе домой ехать, это уж точно… — Та подить вы, товарищ сержант… — Нет, Остапыч, и-положение твое хуже Гитлера, — сказал Медведев. — Неделю уже лейтенант болеет, а ты даже блинчиков ему из своей муки не наварганил… На Полтавщину зажал, на свадьбу? — Та подить вы… Марков усмехнулся. Зябко дрогнул плечами, поплотнее запахнул полы шинели. Морозец поприбавил… Зыбкая полоса тумана наползала со дна ложбины… Справа, шагах в семидесяти от Маркова, крикнул старший на батарее лейтенант Савин: — Первое! — Ор-рудие! — отозвался командир первого расчета, и сразу ударил звонкий и резкий грохот, проскочил по ложбине, мигнуло в тумане розовое пятно вспышки выстрела… — Второе! — Орудие! — Третье! — Орудие! — Четвертое! — Ор-р-рудие! — яростно крикнул Банушкин, и Марков невольно отшатнулся в ровике — так плотно ударило воздухом в лицо. Из окопа послышались звуки закрываемого орудийного замка, перезвон медных гильз, бросаемых в ящик, потом кто-то ударил несколько раз чем-то тяжелым по дереву — крепили подсошниковые брусья. — Мишка, сгоняй, точку наводки потуши, — сказал Банушкин. — Та ще ранечко. Мабудь, стрелим, — недовольно отозвался Бегма. — Сказано тебе? — Та сказано, шо я — глухой, чи шо? Закурить дозвольте, товарищ сержант… — Последний раз даю, — сказал Банушкин. — Куда ты махру прячешь, куркуль? Мишка вылез на бруствер и неспешно зашагал по пологому склону ложбины вниз. Похрустывал грязный снег под его сапогами. Марков, улыбаясь почему-то, провожал его взглядом…2
Мишка Бегма — в нательной, бязевой, не по росту рубахе, в ватных штанах, до блеска измазанных на коленях пушечным салом, — окоченел, поливая из котелка ледяную воду на шею сержанту Банушкину. — Та вже хватит, товарищ сержант, — дергая посинелыми губами, сказал он. — Мне лучше знать, — снова намыливая бритую шею, хохотнул Банушкин. Бугры его лопаток грузно шевелились под смуглой кожей, по ложбинке широкой спины стекала мыльная вода. Мишка нетерпеливо переступал бурыми, в пятнах засохшей глины сапогами, прятал подбородок в ворот рубахи. — Та шо вы — на свадьбу собираетесь, чи шо, товарищ сержант? — Лей, лей, куркуль полтавский… Что ты льешь, словно начпрод водку? — Та шо мини? Вона не куплена… — И Мишка выплеснул остатки воды на голову своего командира. Банушкин захохотал, крепкими короткопалыми ладонями пригладил черные жесткие волосы и стал, пофыркивая, растирать грудь полотенцем. От его тела шел парок. — Ффу-у… Вот где порядок-то в артиллерии, понял, Михаил Остапыч? Мишка, кривя губы, поставил пустой котелок на снег и взял другой, полный. Надо было полить еще и гвардии лейтенанту… Взводный чистил свои новенькие яловые сапоги немецкой щеткой, даже края толстых подошв кремом надраивал… Офицеры — они все такие (поглядывал на взводного Мишка). Гвардии лейтенант шестой день на нарах блиндажа отлеживался, простудился крепко, а все одно — форс офицерский держал, четыре раза побрился… Взводный спрятал в задний карман зеленых габардиновых бриджей полоску сукна от немецкой шинели, завернул в синюю шелковую тряпицу щетку и баночку с кремом, повернулся к Банушкину. — Спасибо, командир. Разорил вас. Никак до военторга не доберусь… У взводного были зеленоватые застенчивые глаза, но склад пухловатых губ — тверд. — Да вы крему не жалейте, товарищ лейтенант, — сказал Банушкин. — Этого добра нам Медведев натаскал с военторгу, землячку там, московскую кралю, встретил, мы и живем как зав карточного бюро… — Зав?.. Думаете — все завы живут хорошо? — Бывает… Я в тылу, верно, только два месяца кантовался, в Иванове на излечении, но… — Бросьте, Банушкин. Не сидят воры в завах. — Поговорка такая… — Чепуха. Если поговоркам всем верить, то старшина — лежебока, взводному — только б в комендантский взвод пристроиться, солдат поспал — а служба сама идет… А о завах… — Гвардии лейтенант усмехнулся. — После училища я домой на три дня у старшего команды отпросился… Сестренку младшую в больницу отвез. Голодное истощение. Скарлатиной болела… А мама моя, командир, заведует карточным бюро при исполкоме… — Да, товарищ гвардии лейтенант, я ведь… это… — виновато усмехнулся Банушкин. Он переглянулся с Мишкой, тот засопел, с готовностью качнул в правой руке котелок… — Разрешите полить, товарищ литинант? Банушкин взял у Мишки котелок. — Топай в блиндаж, воин… Окосел с морозцу… — Та ни! — Топай. Володька с Лилиеном там блинцы сообразить хотят на завтрак. Муки не одолжишь, а? У тебя в запасе есть, знаю, Остапыч. — Пошукаю трохи. Мишка ушел, степенно переваливаясь с боку на бок. Сержант Банушкин — лицо у него было суровое, словно занят он был невесть каким серьезным делом, — осторожно наливал воду в сложенные лодочкой ладони взводного… — Не застудиться б вам, товарищ лейтенант. Тепленькой воды б надо принесть с кухни… — Обойдусь. — Савин-то наш… Шебутится. Зря вы к нему не пошли вчера, товарищ лейтенант… — Банушкин кашлянул. — Обиделся он, это точно. Начнет теперь к нашему взводу цепляться… — Не начнет. — Делов-то, выпили б стакан с Савиным — и спать можно спокойно… — Я и так хорошо сплю. — Да ведь я, товарищ лейтенант, не ради чего… Только со старшим на батарее когда контры пойдут — хужее жить… Марков медленно вытирал полотенцем руки. — Идемте-ка чай пить, командир, — сказал, усмехнувшись.3
Через минуту Марков и Банушкин сидели в блиндаже на низеньких нарах, что были застланы зеленым атласным одеялом (Мишка Бегма притащил одеяло со сгоревшей мызы как раз перед форсированием Вислы). Малиновые пятна жара на чугунной печурке постреливали искорками, в трубе гудело… Солдаты лежали на одеяле, разомлев от тепла, блаженно шевелили пальцами босых ног… Только Мишка Бегма, поджав губы, копошился со своим туго набитым вещевым мешком. Он вынимал сверток, разворачивал обрывок газеты или тряпочку, проверял содержимое, упаковывал, перевязывал, перекладывал, затискивал в мешок свое добро поглубже, поукладистее… Только третий месяц пошел, как Мишка прибыл в батарею из запасного полка и сержант Банушкин дал ему вещмешок убитого замкового Генки Дементьева, а «полтавский куркуль», как окрестили батарейцы новичка, две недели спустя, на строевом смотру, что устроил старшина огневым взводам, горбился под своим мешком на левом фланге четвертого расчета… Скривив губы, чуть не плача, выбрасывал Мишка по приказу старшины богатство: три деревянные ручки от немецких ручных гранат, жестяную банку с шурупами и гвоздями, шесть конских подков (завернуты были подковы в новую портянку), вычищенный кирпичом и смазанный пушечным салом топор, будильник без часовой стрелки (нарисована была на циферблате здоровенная баба, молодуха, на облаке развалилась, нахально толстые ноги разбросав, — старшина даже облизнулся, на тот циферблат глядя), польский календарь на тридцать второй год с картинками — толстую книгу с портретом маршала Пилсудского в рогатой конфедератке, ржавые плоскогубцы (не успел Мишка вычистить и смазать), четыре тоненькие свечи, стамеску без рукоятки и резиновую куклу — мордастого пацанчика. И сейчас Мишка, вспоминая пропавшее из-за старшины добро, посапывал, уминая мешок… — Опять наталкиваешь, Миша? Это у тебя в крови — жадность, — сказал Володька Медведев благодушно и ткнул пальцем в мешок. — Подить вы… Домой колы вернусь, якой гвоздь у нас в сели пошукаешь, немець скрозь все увез… — В одиночку на своем дворе ковыряться собираешься, чудило ты, — сказал Банушкин. — Всем миром восстанавливать будем, понял? В одиночку нам сто лет хватит ковыряться, покуда Россию подымем… — Подить вы… — Не троньте, панове, товарища Бегму, — сказал сосед Медведева, смуглый парень с длинными черными волосами, свисавшими двумя крылышками к вискам, замковый Стефан Лилиен. — Товарищ Бегма мне вчера целую пуговицу дал — и рука не дрогнула, панове… — Подить вы… — сказал Мишка, положил мешок к стенке и завалился на нары. Слышно было — пробежал кто-то рядом с блиндажом, откинулась плащ-палатка у двери, боком пролез солдат в зеленой телогрейке. Ушанка его была сдвинута набекрень, на белом лбу — капельки пота… — Достал, товарищ сержант! — сказал солдат торопливым новгородским говорком и поставил у печки котелок, накрытый клочком газеты. — Зажимал Осипов, да я припомнил ему сахарок на Сандомире… Хороший лярд, свежий, лучше сала. Осипов у самоходчиков позавчера достал, повара встретил, а он — земляк, калининский! Солдаты поднялись… — Остапыч, гони муку, — потирая ладони, засмеялся Банушкин. — Завернем такие блины, что Гитлер с зависти загнется. — Давай, давай, Миша, у тебя еще п-пуда четыре, я знаю, — сказал Медведев. Стефан Лилиен улыбнулся. — Не сомневайтесь, панове, даст, я вижу… Мишка лениво пошевелил пальцами ног, вздохнул, полез в свой мешок, достал рукав от зеленой немецкой шинели, прошитый с одного конца белыми нитками. — Не просыпь, чуешь? — Не п-просыплю, не дрожи, — сказал Медведев. Он начал взбалтывать в котелке, зажатом меж колен, жидко замешенное тесто. Стефан Лилиен соскребывал трофейным тесаком старый жир с большой сковородки. — А все-таки, панове, у товарища Бегмы — талант крупного дельца, — сказал Стефан. — В моей Варшаве он давно бы имел собственное кафе на Маршалковской… — Ну, мы б его враз раскулачили, — улыбнулся Володя Субботин (он выполнил самое важное дело — достал лярду — и теперь благодушно помаргивал светлыми глазами новгородца). — Не вмешиваться в дела чужих народов, — сказал Медведев. — Мишуня, воды не долить, глянь? — Подить вы… — Заладил одно… Вот придется всем расчетом бегать до кустиков, а у меня гвоздище в сапоге, по-понимаешь… Все засмеялись, и Мишка ухмыльнулся. — Трохи долей, голова, — сказал он, прищуриваясь. Первый блин Медведев поднес гвардии лейтенанту (помалкивал лейтенант, обхватив колено, улыбался — видно было: ему полегчало). — П-прошу на п-пробу… — Спасибо. Только хозяина муки не обидеть бы… — Та ни, товарищ литинант, — сказал Мишка. — Кушайте. Стефан Лилиен причмокнул, осторожно кусая блин. — Прима! Варшавский вкус, панове… — Ладно, ладно, варшавский… — сказал Банушкин. — У нас в Донбассе не хуже твоей Варшавы блины варганят… Медведев выскреб остатки теста со стенок котелка, шлепнул на сковородку… Нахмурив тонкие темные брови на розовом от горячей печки лице, сосредоточенно смотрел, как плавает в лярде маленький блин… — Смеется тот, кто п-последним рубает. — Медведев осторожно откусил крошечную дольку блина. — Мне скромность не п-позволяет сказать, что московские блинчики — самые вкусные… Мишка Бегма, сыто улыбавшийся в углу нар, достал из кармана штанов что-то завернутое в газету… — Шо ж, полтавьски блинци — тож ни абы яки… И все увидели на ладони Мишки блин — с тоненькими, прожаренными до рыжизны краями… Солдаты захохотали. — Ну, полтавский, учудил… — едва выговорил Банушкин и потер тыльной стороной ладони глаза. — Подкузьмил москвича, хо-хо-хо!.. Уел под девятое ребро… — П-победил, Мишенька, п-признаю, — засмеялся Медведев. Мишка протянул ладонь к взводному: — Товарищ литинант, це вам. Та берите ж, товарищ литинант… — Не зря вы полтавского из воды тащили, товарищ лейтенант, — сказал Володя Субботин. — Такой блин для вас приберег, ай-ай!.. — Кушайте, товарищ лейтенант, — сказал Банушкин. — В обед еще Миша из своего цейхгауза отвалит мучицы… — До Данцига дойдем, я тебе, Остапыч, мешок муки припру, — сказал Субботин. — Подить вы… — Мишка опять завалился на нары. — Самый бескорыстный человек в нашей батарее — Михаил Остапович, панове, — сказал Стефан Лилиен. — Это я утверждаю, панове. — Подить вы, — дремотным голосом отозвался Мишка. — Трохи поспать треба… — Покимарь, покимарь, Остапыч, покуда тихо, — сказал Банушкин. — Скорей бы рвануть на Данциг, ребята, — сказал Субботин. — Люблю по городам шляться… Кочколазы дня три уж треп пустили, что наша дивизия на Данциг пойдет, мне Борзов говорил, из второй-то роты… Орден Славы ему дали, тепленький старик ходил… — Да знаем мы Николаича, — сказал Банушкин. — Мужик хороший, я с ним еще на Ладоге побратался… Можно и на Данциг, город подходящий, говорят… Первый Белорусский вон к Одеру уже подходит, а там до Берлина — раз плюнуть… Не везет нам, а?.. Люди на Берлин двигают, а мы черт те куда опять… — Возьмем Данциг запросто, еще и к Берлину поспеем, Гитлера ловить, точно, — сказал Субботин. — Седьмая ударная свое дело туго знает, наш Никишов дает немцу дрозда, будь здоров! Говорят, ему всего-то тридцать три года, а, товарищ лейтенант? Марков улыбнулся. — Кажется, так. — Точно, товарищ лейтенант, — сказал Банушкин. — Я ж одного года с ним! — Вот только в чинах тебя командарм малость обошел, Степа, — засмеялся Медведев. — Э, поднажму чуток, догнать можно. Надо будет попросить у своего годка какой корпусишко иль дивизию для начала… Мишу — в адъютанты, и сыт и пьян буду… Товарищ лейтенант, а вы разве командарма не видели? — Нет. — А я разов шесть. Хороший мужик. Голова-а… В тридцать три годка — генерал-полковник, а? Моложе Черняховского… Говорят, товарищ Сталин шибко уважает нашего Сергуню… А сука Гитлер четвертого генерала шлепнуть приказал за то, что от нашей семерочки драпанеску делают… Торопливые шаги прохрустели по талому снегу, потом человек остановился у входа в блиндаж, крикнул: — Товарища гвардии лейтенанта к старшему на батарее! Срочно! Слышно было — побежал прочь человек. — Начальство тоже чаю напилось, служить начинает, — сказал Банушкин, слезая с нар. — Подай-ка, Стефан, шинель командиру…4
«Виллис» поюлил меж кустов, вдавленных в землю траками танков, и выкатился на опушку соснового леска. Марков прижмурился — через переднее стекло ударило в глаза солнце, оранжево светилась равнина, припорошенная снегом. Отсюда, с высотки, были видны перекресток шоссе и проселка в лужах. В выбоинах асфальта то сверкали огненными вспышками лужицы, то меркли под черными силуэтами танков, медленно катившихся в два ряда. Посредине этих грохочущих рядов стояла тоненькая фигурка в серой шинели. Желтый и красный флажки бились под ветерком в левой руке, опущенной к сапогам. Марков покосился на шофера Егора Павловича. — Ай да славяне! — сказал Егор Павлович. — Вот силушка прет, а, Сева? В сорок бы первом нам, а? Егор Павлович засмеялся, открыл дверцу, степенно вылез. Его кожаная короткая куртка заиграла розовыми отсветами. — Посиди, Сева. Я вон с той курочкой рябой потолкую. Надо нам пропихнуться в эти танки, а то опять придется киселя хлебать по объездам. Покури. — Я пойду, — сказал Марков, открывая дверцу. — Грязь тут собачья. Марков вылез из «виллиса». Хотел хлопнуть дверцей небрежно, рукой наотмашь, как это делал Егор Павлович, но почему-то не решился, прикрыл дверцу без стука… Егор Павлович улыбнулся. Чуть скуластое, чисто бритое лицо, с пятнами обветренной кожи на щеках было добродушно, спокойно. — Аккуратненько ты как, а? Теперь я за свой драндулетик опаски не держу… А то Гриша Лукин был, перед тобой адъютантил, сейчас на гвардейскую роту пошел, ну, оторвяга, — как лупа-анет дверкой, так и катить мне на рембазу, с петель дверка долой… Ага! Марков засунул большие пальцы за новый коричневый ремень, расправил шинель, зашагал за Егором Павловичем. Тот легко топал короткими ногами в яловых офицерских сапогах, темно-желтая кобура пистолета била по правому боку. Егор Павлович поскользнулся на краю лужи, взмахнул руками. Марков засмеялся. — Команды «ложись» не было… — Польский паркет, — сказал Егор Павлович. — Все одно что у нас под Балахной. Прищуриваясь от солнца, уже падавшего к голубой, почти бесцветной полосе дальних лесов, Марков молча ступал по следам Егора Павловича. У него все звенело в душе, и он старался не показывать Егору Павловичу своей радости, потому что считал — эта радость была им не заслужена, она оглушила его сегодня утром, и она была сейчас, в конце дня, пронизанного солнцем, так же сильна, как и утром, и просто нельзя сейчас улыбаться, потому что радость эта… нет, так не должно быть, как есть сейчас, потому что… Марков глубоко втянул улыбавшимся ртом холодноватый воздух, чуть пахнувший сладковатым запахом гари («Танки же…» — понял он, обошел лужу). И Мишка Бегма стоял утром у лужи, рядом с блиндажом лейтенанта Савина, и Володька Медведев, и Банушкин, и Стефан Лилиен, и в глазах у Мишки… «Хиба ж не напишете нам, товарищ литинант?» — сказал Мишка, и Егор Павлович тогда бросил трофейную сигарету себе под сапоги, протянул Мишке ладонь, и у Мишки в глазах были слезы, слезы ведь были, а я… Ну и что? Разве нельзя… нельзя отомкнуть душу, когда ты уедешь на этом новеньком зеленом «виллисе», а солдаты останутся, и ты их можешь ведь больше никогда, совсем никогда не увидеть! Это как во сне, то, что сегодня началось утром… И туман тогда разошелся, и мне было видно всю нашу огневую, и воронку возле второго орудия, от того снаряда, который убил Игоря Федченко… Мы два дня не пели в блиндаже, пока Мишка не прибежал с кухни и не сказал, что завтра утром к нам приедет командир дивизиона и будет давать ордена и медали. Мишка так и сказал — «давать», и в тот вечер Мишка запел тихонько, он смотрел на лица ребят и пел, и тут все подхватили… как хорошо мы тогда пели… Нет, так не должно же быть! Я слова не мог выговорить, когда увидел Сурина… Он сидел в блиндаже, темно там было, орудийный фонарь закоптился за ночь, я смотрел на Егора Павловича… Почему-то я вспомнил, как мама и Егор Павлович бежали по песку, бежали рядом, у мамы расплелась коса, потом отец догнал их, схватил за руки, они втроем бросились в набежавшую от парохода волну, светлые волосы мамы сразу потемнели. Егор Павлович нырнул, долго не показывался, потом мама закричала: «Егорка, чертушка!» А отец смеялся, крикнул мне: «А ну бегом, волгарь, в воду!» Да, я сразу узнал Егора Павловича… Он встал, низенький, сказал: «Здравия желаю, товарищ гвардии лейтенант…» — и засмеялся. Офицер для поручений… Офицер для поручений командарма-семь. Командующего Седьмой ударной армией генерал-полковника Никишова. Это же я офицер для поручений, это же я… Нет, так не должно быть. Только утром в блиндаже я говорил, что никогда не видел командарма, и вдруг… «Товарища лейтенанта… Срочно!» И я иду к Савину и вижу… Я напишу маме. Я — как Петька при Чапаеве, напишу, мама поймет… Цензура ведь зачеркнет, если написать — «офицер для поручений». А если командарм посмотрит на меня и… — Да ты что сапог не жалеешь, начальник? Марков вздрогнул. Егор Павлович, засмеявшись, покачал головой: — Солнышком, что ль, тебя припекло, Сева? Ты чего прямиком по лужам жаришь? — Егор Павлович почти кричал: танки были в тридцати шагах. Щепотно переступая сапогами по краю лужи, Егор Павлович выбрался на протаявшую полосу земли в щетинке прошлогодней травы, зашагал к перекрестку. — Э-эй, золотиночка! Отдохни-и! — крикнул он, останавливаясь у края шоссе, в пяти шагах от регулировщицы. — Землячка! Регулировщица оглянулась. Марков, улыбаясь, смотрел на нее, но не различал лица — за низенькой фигуркой девушки стояло солнце. — Перекури службу, золотиночка! — крикнул Егор Павлович, пятясь от грохочущего шоссе. Марков стал рядом с ним. — Реву-то, а? — закричал Егор Павлович, поднимая веселое лицо к Маркову. — Гитлер капут! По всем дорогам танки жмут, силища! Они смотрели, как регулировщица, повернувшись к закату спиной, погрозила пальцем очередному танку, набегающему на нее, и быстрой девичьей побежкой юркнула перед самым носом танка, из открытого люка которого сейчас же выглянула голова водителя в черном шлеме, мелькнули его белые зубы, и танк прокатил мимо… Регулировщица перебежала через кювет. Подняла к Маркову худенькое лицо, такое смуглое, что глаза казались совсем светлыми, щеголевато пристукнула каблуками кирзовых сапог, смуглая ладонь дернулась к шапке-ушанке… — Да ты закоптилась вся! — засмеялся Егор Павлович. — Ах черт те дери, золотиночка, вся чернущая ж ты, ага! Регулировщица смешно замотала головой, показала пальцем правой руки на ухо, было видно, что она смеется, но смех не был слышен… — Оглохла-а! Не слышу! — Перекурим это дело, — сказал Егор Павлович, достал из кармана куртки оловянный портсигар. — Спасибо! Не курю! — Ты скажи, Сева, какая девчуха славная! Тамбовская, ты нас запусти в танки, а? — Москвичка я! — Ай, батюшки! — В колонну нельзя! Не могу! — Это нам-то, золотиночка? — Вам! — Господи, это в Москве-то такие нельзяки? Золотиночка, это же личный адъютант самого Никишова! Ясно тебе, золотиночка? Светлые глаза улыбнулись Маркову… — Почему же нельзя? — сказал он, краснея. — Не положено. Раздавят! — Да я впритык, аккуратненько буду ехать! — сказал Егор Павлович. — Побойся ты бога, золотиночка! Регулировщица засмеялась. — Проскочите здесь на ту сторону! Там объезд километр! Тогда и лезьте на шоссе! А здесь не могу! — Дисциплина, — сказал Егор Павлович. — Ладно, дисциплина — залог победы. Дай нам щелку меж этих бандур проскочить, золотиночка. Девка ты хороша. Адресок московский не дашь, а? Регулировщица засмеялась, махнула рукой, в которой трепыхнулись флажки, и побежала к шоссе…5
На маленьком, домов в десять, фольварке, через который проходило шоссе, в каждом дворе борт к борту — «студебеккеры» под выгоревшими зелеными тентами. — Глянь, Сева, тыловики — и те фрица не боятся, ишь, наставили, черти, транспорту, — сказал Егор Павлович. — До большого тепла, это точно, добьем фрица — и начнем, Михалыч, большой всесоюзный капремонт! Дел у нас в России по горло… Восемь потов прольем, мало — десять прольем, а взбодрим такую жизнь, Севка, небу станет жарко! Вернусь на автозавод, в цех притопаю, все ордена нацеплю… Привет героическим труженикам тыла от гвардии сержанта Егора Сурина!.. Эх, Севка, до чего мы жить ладно будем… Тебе-то, понятно, служить еще как медному котелку, в генералы дорогу торить. Все мальчишки хотят в генералы, это уж закон такой железный… Егор Павлович засмеялся, побарабанил короткими пальцами по баранке руля, обмотанного для шоферского форсу белой изоляционной лентой. Машина обогнала старенький «ЗИС-5», груженный снарядными ящиками. — Нет, не наш, — сказал Егор Павлович. — Что — не наш? — Бортовой номерок-то… Наверное, из армии Батова. Понимаешь, как увижу где «зиска», так и думаю — не моей автороты работяга пылит? Я же в автороте до Сергея Васильевича на таком вот рысаке километры мерил, всякое добро возил, больше под снаряды, правда, мы ходили. Я ведь войну-то начал младшим воентехником, с кубарями в петлицах. А потом накрылось мое звание… Дела! В сорок втором году, ни дна ему ни покрышки, в сорок втором погорел… ага. Егор Павлович, прищурившись, поглядывал на «ЗИС-5», что стоял впереди, съехав с шоссе на обочину. — Чего загораешь, земляк? — крикнул Егор Павлович шоферу в синей телогрейке, приоткрыв со стороны Маркова дверцу и замедляя ход «виллиса». — Порядок! — крикнул шофер тенорком. — Напарника жду. Не видали? На «ЗИСе». — Сейчас прикатит. Бывай, земляк! — В Берлине свидимся! Егор Павлович, засмеявшись, рванул машину на полный ход. — Примечаешь, Михалыч, какие славяне здесь стали, а? Все словно с одной роты, ага… Дружки. Это на нашего брата, русака, заграничный воздух действует. В России и поругаться можно было меж собой, на родной-то земле, а здесь… Чужбина! Даже вот гляди — с тобой мы сегодня народу сколько повидали, а все — бритые. Ага! Егор Павлович ухмыльнулся. — Уж вот этот шоферюга-то, что обогнали… Ведь он, курицын сын, где-нибудь на Калининском фронте брился верняком раз в неделю, покуда старшина не гаркнет. А здесь — как на праздник все чистятся или на инспекторский смотр, ага… Если без смеху говорить, то самый распоследний солдатешка из обоза — и тот, курицын сын, о себе теперь помнит: я, брат, из России сюда дотопал, я, брат, не лаптем щи хлебаю, я — русский солдат! Ага… А техника-то? Страшенная ведь силища прет, а? У фрица теперь глаза на лоб лезут, понял он, гада ползучая, что русские — здесь, а Москва — эвон где, не видать!.. По Берлину мы скоро своими сапогами гулять будем, во как. Справедливость — она есть, Михалыч, есть, это точно. Вот по своей шкуре сужу. Правильно мне полковник Андреев кубари тогда с петличек выдрать приказал? Справедливо. Законно. Потому что мне, дураку, было приказано со своей авторотой склад, понимаешь, армейский склад вывезти из Ростова, сапоги для целой, может, дивизии, а я выехал с теми сапогами на тракт, что от Батайска идет, и… Мать честная, страх вспомнить, аж печенка холодеет… — Да… Сорок второй я тоже помню, — сказал Марков. — Похоронку на дядю Валю получили в июне… Командиром батальона был… — Времечко, будь оно трижды проклято… Ведь я тогда, в июле, и погорел-то, когда немцы нам под дых врезали на юге-то. Выехали мы первыми машинами на тракт, а там — народ уходит. Эвакуация… Ростовский народ от немца души спасает. Море народу, страх вспомнить, сколько народу по той дороге проклятой уходило… Жарища — спасу нет, печет, пылюга. А немец стаями черными в небе, клюет и клюет бомбами, долбает и долбает. По степи народ уходит… И детишки тебе тут, и старухи телепают, и всякая беззащитная публика. Да… Смотрю на народ, а, понимаешь, думка одна башку сверлит… В последний раз, думаю, ты, фашистский гад, верх над нами берешь… за то, что под Москвой тебе врезали, из последних сил ты, фашист, жмешь на нас, повалить хочешь, за горло Россию взять… Выкуси, фриц, собака! Не выйдет! Били тебя под Москвой, гада, научили тебя хенде хох делать, как миленького, научим тебя вшей кормить, в бабьи кацавейки кутаться… Ну, да что говорить, Севка… Я от фрица отступал, а не боялся его, гада, не-ет, страха перед немцем у нас тогда не было… Все равно знал я — будем в Берлине, будем, Севка! — Да, да, — торопливо сказал Марков. — Ну, хорошо… Едем это по тракту, народ руками машет — возьмите, дескать, хоть на подножку. А куда ж тут тысячи-то посадишь? Потом петлю, значит, дорога делает, а народ напрямки путь сокращает, по полю. Прибавил я скорость, с Васькой Мироновым ехал в кабине, хороший был шофер… Да… И вижу — стоит посередь дороги мальчонка, ну, от силы — двенадцать, ну, тринадцать ему. В синей такой курточке, ага. Кричит что-то, с дороги не сходит. Тормознул мой Миронов, значит. Выскочил к мальчишке, за руку схватил, к кабине хочет вести, а мальчишка кричит: «Нет, нет, дядя, нет! Танечку возьмите! Дядя, Танечку возьмите!..» И вижу — сидит у дороги девочка годов семи, узелочек белый рядом. Ножки, понимаешь, Сева… это… отнялись у маленькой… Да… Бомбил немец, ну, испугалась девочка… Подхватил Миронов ее, на верх кузова, на мешки положил, один мешок сбросил. И брательника посадил. Ну, поехали. Опять глядим — народ с поля свертывает на дорогу, да… Едем на малом газу, тут сигналь не сигналь, народ с дороги не сходит. Васька Миронов на меня, понимаешь, смотрит… «Товарищ командир, народ-то…» — «Вижу сам», — говорю. И он вдруг, Васька-то, заплакал. Заплакал, рязанская его душа, за тормоз ручной — раз! Ножной-то у него тогда барахлил, не успели отладить, куда тут с ремонтом и думать… «Товарищ командир — говорит — не поеду!» Я на него матом, ага… «Не поеду — говорит — стреляйте меня, не поеду!» Да-а… Гляжу — из кабины он выскочил, не успел я глазом, понимаешь, моргнуть, слышу — плюх, плюх. Я — на подножку. Гляжу — шерудит мой Василий Фомич те сапоги, в мешках-то, ага… Швыряет мешки с кузова — на-поди… Гляжу, а уж вся колонна моя стоит, ребята кузова очищают. Вот так, Всеволод Михалыч… Война — самое распаскудное дело. Ежели б не Россию спасать надо было… Русский мужик всякие там дранги нах осты-весты никогда в башку себе не забивал, у него норова такого не было — чужое хапать. Земля, слава богу, на полсвета, все, что надо, свое, кровненькое есть… Ну, ладно. Покидали мы тогда те сапоги, посадили баб да детишек, один к одному в кузовах набились… Отвезли их километров на сто пятьдесят примерно, тут высадить пришлось, — доехали мы до штаба тыла армии… Доложил — прибыл, дескать, в полном составе, потерь машин и людей не имею. Мне и приказывают: «Машины не разгружать, следуйте по маршруту на восток, до Сталинграда правьте… В Сталинграде разгрузитесь». А мне что разгружать-то? Воздух? Ну, мои командирские кубики и того… Да я не больно жалею, честно говорю. Мне б только на какой берлинской улице покурить махорочки — и все свои беды, — да пропади они пропадом, ага… Я на жизнь обиды не держу… Я сейчас кум королю, во как, Михалыч… Они засмеялись. — Между прочим, слышь, Михалыч, меня и по сё к прокурору армейскому таскают, ага… Я уж думал — забыли те чертовы сапоги, ан нет, в бумажках все хранится про мою грешную душу. Два раза перед Сандомиром к прокурору являлся. Ну, он меня больно хорошо знает, что лично самого командарма вожу, разговор у нас с прокурором вежливый, последний раз чайком меня угостили, ага… Мне хоть и нож острый, что гвоздик в камеру ткнуть, всю эту чертоплешь вспоминать, но я виду, понятно, не показываю… Только в последнюю встречу я культурненько так удочку закидываю: дескать, товарищ полковник, уж и лычки с погон моих спороть хотят за то дело? Не заслужил я, значит, за всю войну? А прокурор, черт толстый, смеется, а в чем суть — помалкивает, ага… Ну, только мне больно наплевать, мне, главное, в Берлин добраться живому, а там — хоть к стенке ставь тот прокурор, черт с ним, помирать буду спокойный — не на Волге фриц-то, а на своей… как ее, в Берлине-то?.. — Шпрее. — Точно. На Шпрее русак вложит немцу по шее, а? И опять они смеялись, угощали друг друга трофейными сигаретами. А дорога гудела от тысяч колес, рев моторов поднимался к синеющему перед вечером небу, чуть тронутому в страшной выси реденькими облаками, из кузовов «студебеккеров», «ЗИСов», «газиков», «шевроле» улыбались иногда Маркову солдаты с чисто бритыми лицами, и он улыбался в ответ, и радовало всех, что так хорошо идут машины по мокрому бетону немецкой дороги, так хорошо небо, в котором проскакивали аккуратные девятки самолетов, так хорош этот денек, когда где-то очень далеко впереди погромыхивают пушки, и их слышно даже на полосе бетона, забитой машинами до предела. Хорошо, что солнце садится перед нашими глазами, а не за нашими спинами, как садилось оно в сорок втором. Хорошо, что я везу Севку, хороший парнишка вырос у Михаила, дружка, гвардии лейтенант ведь уже, а я ему когда-то грузила к удочкам прицеплял, вот как времечко-то катит, все одно как мы сейчас катим, миль сорок пять в час жмем, точно… Хорошо, что плечо Егора Павловича рядом, так хорошо, и я напишу маме, что мне очень хорошо, командарм меня не прогонит, я же хороший офицер, нет, я не хвалю себя, я же слышал, как командир батареи гвардии капитан Хайкин говорил обо мне командиру полка… Я уже орден должен был получить скоро, комбат намекал, что хочет писать на меня представление… Мишка Бегма уже медаль получил, а сержант Банушкин сразу две получил, Егор Павлович тоже хороший человек… Россия победит, будет очень хорошо жить всем нам, всем будет жить очень хорошо… Я приду в свою двадцать пятую школу, по коридору будет идти Аделаида Максимовна, надо подгадать, когда она выйдет из класса, увидит меня, очки снимет, она всегда, когда волнуется, снимает свои очки, я скажу: «Гвардии лейтенант Марков прибыл на консультацию по тригонометрии!» Вот будет лицо у нашей Адечки, она всегда любила меня, я здорово шел по математике, и Адечка… — Хоро-о-ош денек-то был, а? — сказал Егор Павлович. — Прямо весна… — И жизнь хороша, и жить хорошо… — засмеялся Марков. — Толково сказано. Между прочим, командарм наш говорить мастак, ага. Скажет — как отрубит, прямо в точку скажет. Когда Вислу-то форсировали, он на командно-наблюдательном пункте сидит у стереотрубы, а рядом — раций несколько штук на полке, сразу все разговоры начальства он слышит — ну, корпусных, дивизионных. На приеме рации, понимаешь? Кто-то, слышно, докладывает в корпус комкору, что, дескать, иду отлично, успех. Трезвонит, расхвалился… А Сергей Васильевич берет микрофон, говорит: «Побойтесь бога, Иван Данилыч. Немцы — и те краснеют». И микрофон положил… Эх, тут комкор этому хвастуну-то, комдиву… беда! Прямо с сапогами сожрал! И давал уж он ему, и давал уж он… а все ведь слыхать Сергуне-то! На стенке репродуктор пристроен, понял? Ага! Опять берет Васильич микрофон, говорит: «А теперь краснеюя». И — заткнулся комкор… Разве можно матом в открытую по рации комдива чехвостить? Человеку ведь дивизией командовать, а тут его таким манером к службе правильной приучают… Ну, на пункте все армейское начальство так и полегло с хохоту, ага! Член Военного совета, хоро-о-оший мужик, Илья Ильич, отдышался, говорит: «Сергей Васильевич, завидую…» А командарм только глаз серый прижмурил. Золотой мужик, вот увидишь сам! Думаешь, зря его солдаты меж собой зовут Сергуней, а?.. Это, Михалыч, заслужить надо. Везде командармов батями зовут, а наш — Сергуня… По-русски ведь это… как бы сказать-то?.. Ну, любовно, что ль, выходит… Говорят, батька у него большо-ой человек был, вроде с самим Лениным действовал, в Новороссийске в пятом году такие дела разделывал, будь здоров. Это не каждому выпадет — с Лениным рядком быть… Еще слушок в армии ходит, будто перед войной сам товарищ Сталин вызывал Сергея Васильевича на это, на собеседование, Васильич тогда в академии учился, после Испании, понимаешь? Минут сорок, говорят, Сталин с ним толковал, ну, сам знаешь, у Сталина глаз на человека прицельный, враз видит — гусь ты, пустобрех иль стоящий мужик… Сергей Васильевич после такого дела и пошел в гору, ага… А про разжалование-то его знаешь? — Да так, немножко… У нас вторая рота была, поддерживали ее в бою, там ротный Горбатов мне говорил. — Венер? Так это ж первейший дружок Васильича! — Толковый офицер. — А Васильич с бестолковыми не канителится, по шапке — и кати в отдел кадров, на черта ему дураков в нашей семерочке держать. Он, понимаешь, мужик твердый. Погорел-то в сорок третьем-то за что, думаешь? За твердость свою, точно. Ему начальство говорит, фронтовое-то, что наступать надо таким вот манером, а он их к бабушке Гитлера послал… Ну, туда-сюда, кляузу сочинили, в Москву — срочно, а там какому-то обормоту бумажка та попала, с Васильича полковничью папаху долой, в рядовые шугнули под Ладогу, в гиблые места… А друзей-то настоящих у Сергея хватает, еще с Испании друзья-то, ну, кто-то и решился к самому Сталину идти. Так, мол, и так, наступление накрылось, а полковник Никишов за чужую дурь страдает… Ага. Ситуация, можно сказать. Сталин берет, понимаешь, трубку телефона и говорит: «Генерал-майора Никишова прошу ко мне на беседу послезавтра в двадцать два ноль-ноль…» Так. Начальство завертелось. Сталин сказал «генерал-майора» ему подать, значит — все, разговор кончен… Ну, машинистку штабные товарищи за бока, стучи приказ! Оформили звание. Прямо из землянки Сергуню под локоток: «Вас товарищ Сталин самолично вызывает, товарищ генерал!» Ага… Представляешь, Севка? Привезли Васильича прямо в Кремль… Ну, о чем со Сталиным он толковал — дело для нашего брата неизвестное, чином не вышли, только уехал Васильич аккурат к Малиновскому, по Испании еще дружку верному, понял?.. А через три месяца, когда немцу под Курском врезали, Сергею еще звездочку на погон — пожалуйте, заслужил… Вот так, Михалыч, бывает… Ты ведь тоже не гадал, не чаял, что Егор Сурин к тебе утречком прикатит, а? Егор Павлович шевельнул правым локтем, толкнул легонько улыбнувшегося Маркова. «Виллис» обогнал шесть танков с белыми орлами на башнях. На переднем стоял, высунув голову из башенного люка, парень, помахал рукой вслед «виллису». — Поляки, — сказал Егор Павлович. — Отчаянные ребята, ага. Мы фрица не любим, а уж они… Дают фрицу дрозда! Егор Павлович закурил, чуть сбавив ход машины, глянул на Маркова. — Ты чего это… заскучал вроде? — Да нет, ничего. — Сергея Васильевича робеешь, а?.. Это зря, Сева, я тебе ведь, считай, как без малого родня говорю, чудак ты… Не робь, волгарь! Ты вот послушай, как я с ним встречу имел. Прямо чудно, ага… В сорок третьем, значит, в конце апреля было. Я тогда шоферил в артуправлении, снаряды возил. Приехал, значит, на станцию такую задрипанную, немцем сто раз бомбленную, порожнюю тару с кузова вон, а очередь моя под погрузку — еще машин двадцать ждать. Дождь хлещет — беда. Сижу это в кабине, покуриваю. Вижу — подходит дядя. В плащ-палатке, чемодан не шибко великий в руке. Молодой парень. И шинель видна из-под плащ-палатки — новенькая, драп — будь здоров. Говорит: «Не подбросишь, хозяин, до Сычевки?» А до той Сычевки, знаю, километров так восемнадцать, дорога — болотище, топь, собачья дорога по весеннему-то времени… Ну, я, конечно, толкую, что не могу, сейчас очередь моя подойдет, грузиться буду. А как величать парня — не определю. Ясно, не солдат, на всякий случай майором назвал, по годам — самый раз в майорах быть… Да. А он, понимаешь, смотрит на меня, улыбнулся так. «Значит, нельзя?» — «Не могу, товарищ майор». И, понимаешь, совестно мне почему-то стало… ну, в общем, совесть у меня залягалась, барыня… Говорю ему, если лейтенант Завьялов, наш старший колонны, разрешит, то можно и в Сычевку. «Ага, понятно», — говорит. Захлопнул он дверцу, пошагал со своим чемоданчиком к станции. Минут через двадцать — рысью бежит мои Завьялов, старый хрен. Я дверцу открыл. А он с ходу: «Ты что ж, голова садовая, первый день в армии? Товарищ генерал-майор под дождем ходит, а ты, балда, сидишь тут!» Я так и окосел. Вот те и майор, угадал, как Гитлер свою победу… Да. Завьялов — ладошку под козырек, чемодан у генерала берет, мне к ногам ставит. «Товарищ генерал, прошу извинить! Виноват, товарищ генерал!» Малость струхнул мой начальничек. Мужик он, верно, хороший был, честный мужик, но уж генералов боялся лишку… Сел ко мне, значит, генерал. «Закурим на дорогу, товарищ Сурин, генеральских?» Смеется, коробку протягивает. С ходу мою фамилию запомнил, видать, Завьялов поминал в разговоре. Едем… Он себе помалкивает, а я тоже солдатскую службу знаю — начальство не спрашивает, ну, и помалкивай в тряпочку. Но сказал я все же ради вежливости, значит: «Виноват, товарищ генерал, не догадался…» Усмехнулся он: «Претензий, брат Сурин, абсолютно не имею». Довез я его мигом. Руку мне пожал, пошел к штабу. А тут аккурат «виллис» разворачивается перед крыльцом, генерала Малиновского машина, я знаю. Вдруг — стоп. Малиновский вылезает, руки размахнул. «Пауль!» — говорит. Это уж я потом узнал, что в Испании так Никишова звали. Бежит мой генерал к Малиновскому… к Малиновскому… да… Егор Павлович кашлянул. — Обнялись они… Да… А я покатил себе. Ну, а погодя немного узнал от шоферов штаба, что привез тогда генерал-майора Никишова Сергея Васильевича, говорили ребята, он с Малиновским в Испании воевал, дружки, стало быть, крепенькие, повидали кисленького да солененького с горьким, уж это понять можно, в Испании воевали страшно, люто там воевали… Потом, слыхать, к Рокоссовскому его перебросили… Пошел Васильич ходко, армию получил… — А как же ты к нему попал, Егор Павлович? — прищурился Марков, закуривая. — Много ты куришь, Севка. Не паникуй, чудак… — Абсолютно спокоен. — Ну, ну… абсолютно, — засмеялся Егор Павлович. — Как попал? В армии дело просто выходит. Дивизию нашу после формировки передали в Седьмую ударную. Утром меня Завьялов вдруг вызывает. Бледный, гляжу, старикан, ага. «Что у тебя за шинель?» — говорит. Шинель — как полагается, шоферская, с колером, на парад, точно, не больно гожа. Шинель мне мигом старшина волокет, погоны новые сует. «В штаб армии поедем», — Завьялов мне толкует. Поехал я пассажиром на полуторке, сам Завьялов за баранку, смех один… Приехали. Я топаю смело, грехов за спиной, думаю, нет. Тут какой-то подполковник. К Никишову!.. Ну, думаю, давно не видал командарма… Малость мандраже у меня, понятно… Ну, к командарму заводят нас. Гляжу — веселый! «Есть шанс отличиться, товарищ Сурин», — говорит. «Как прикажете, товарищ командующий», — отвечаю. «Прикажу, за этим дело не станет. Водитель мне на «виллис» нужен — такой, как вы». Я стою. Морда, поди, красная, ага… «Очень правильный выбор, товарищ командующий», — Завьялов охрабрел, а с самого пот в три ручья, все одно побаивается, старый шоферюга, Никишова-то. «Ну, так как — поладим, товарищ Сурин?» А я: «Как прикажете». А он: «Ну а по-человечески если сказать?» Я обмяк тут, говорю: «Спасибо за доверие, товарищ командующий…» Засмеялся Никишов, ага… Гляжу на него — до чего ж парень хорош! Ростом гвардеец, плечищи ядреные, молодой ведь! А главное — глаза у него добрые, веселые, ага… Ну, я тут улыбнулся, и у Завьялова, видать, отлегло от души, тоже лыбится, старый черт… Егор Павлович засмеялся. — Вот мы и дома, Михалыч!6
Затянутый ремнем в рюмочку высокий солдат козырнул и, путаясь в длинных полах новой шинели, подошел к шлагбауму, поплыла вверх черно-белая перекладина… — Приехал, Егор Павлыч? — Порядок! «Виллис» поднырнул под шлагбаум, прибавил скорость и покатил по шоссейной дороге — уплывали по сторонам назад каменные дома деревни. Непривычно для Маркова было видеть множество офицеров, шагающих вдоль домов, кое-где у крыльца или ворот стояли часовые в шинелях — новые были шинели, и это почему-то расстроило Маркова. «Армия… да, штаб армии… Мне страшно… Я боюсь, боюсь ведь Никишова…» — думал Марков, рассматривая людей в шинелях, в зеленых куртках с начищенными пуговицами, а то и просто в кителях и гимнастерках. Давно уже не видел Марков таких спокойных людей… Слева от шоссе, у водоразборной чугунной колонки, два солдата в зеленых телогрейках мыли сапоги. На короткий рычаг колонки нажимал кряжистый, низенький майор в распахнутой шинели, его шапка была ухарски сдвинута на левое ухо. Марков усмехнулся. «Армия… штарм-семь… Майор солдатам воду льет… А мне Мишка Бегма… нет, сегодня Банушкин из котелочка поливал. Черт бы драл этого Егора Павловича, вытащил меня сюда… Странно как-то, я ведь давно не вспоминал о соседе Сурине, он воевал, а я еще только в училище собирался. И вот он читает эту заметку в газете, где Стефан Лилиен расписал, как я вытащил из полыньи Мишку… Рискуя жизнью, офицер… черт бы тебя драл, Стефан! И — всё, качу вот на «виллисе», а ребята на огневой. Ребята, наверное, сейчас блины наладили. Банушкин, наверное, про сорок первый год страсти рассказывает, как он из окружения выбирался три месяца. Мишка в своем мешке порядок наводит… А я вот сейчас…» Марков удивился: машина резко свернула влево, развернулась и покатилась к колонке, где два солдата мыли сапоги. — Рокоссовский! — сказал Егор Павлович. — Видать, с передовой вернулись с командармом нашим… Он тормознул так, что Марков чуть не стукнулся лбом о переднее стекло, выскочил из машины с удивившей Маркова легкостью, захлопнул наотмашь дверцу и торопливо зашагал к колонке. Марков смотрел на Рокоссовского. Красивый маршал… А этот, значит, и есть Никишов. Молодой какой… — Товарищ маршал! — голос у Егора Павловича был почему-то веселый. — Разрешите обратиться к товарищу генералу? Рокоссовский вытер ладони о полу телогрейки, сказал с легкой картавинкой: — Сергей Васильевич, еще не прогнал этого разбойника? — Несу свой крест, несу, — сказал, засмеявшись, Никишов, повернул загорелое, худое лицо в сторону «виллиса», достал из кармана зеленых ватных брюк носовой платок, не торопясь вытирал ладони. — Перестаньте разбойничать, Сурин, — сказал Рокоссовский. — Фронтовую рембазу по миру пустили, армейской вам мало? — Никак нет, товарищ маршал! — Что именно — никак нет? — Два подфарничка у ваших ремонтников получил, товарищ маршал, — весело сказал Егор Павлович. — Не обеднеют, товарищ маршал. Рокоссовский засмеялся. Голубые глаза, чуть прищурившись, смотрели на Егора Павловича. — Привезли, вижу, земляка, Сурин? — Так точно, товарищ маршал! Рокоссовский глянул на улыбавшегося Никишова. — Командарм, ты что ж это своего адъютанта так встречаешь? Обидится человек и уедет в свою дивизию. Марков толкнул дверцу, выскочил на снег… Надо было пройти полтора десятка шагов до маршала и командарма, и Марков понимал, что по тому, как он пройдет эти полтора десятка шагов, маршал и командарм сразу увидят — военный он человек или… Марков чувствовал, как упругой, веселой силой наливаются его ноги, он уже знал, что пройдет эти шаги хорошо, так, как ходил он на плацу училища, нет, надо пройти хорошо, хорошо! Он чуть склонил вперед корпус, шагнул — и по цоканью подошв своих сапог по брусчатке, чуть припорошенной снегом, понял — все будет хорошо… Он остановился в пяти шагах перед маршалом. — Товарищ маршал, разрешите обратиться к товарищу генералу? Рокоссовский, улыбаясь, глянул на Никишова. — Строевик? — Строевик, — сказал Никишов, подошел к Маркову, протянул руку. Он был чем-то похож на Рокоссовского. — Товарища гвардии лейтенанта я еще когда-а знал, — сказал Егор Павлович. — В детские годы, товарищ маршал, ага. — Сергей Васильич, были мы мальчишками? — сказал Рокоссовский. — Были, Константин Константинович. Никишов посмотрел на Егора Павловича. — Егор, вези-ка ты нас обедать. Константин Константинович окажет нам честь. — Окажу непременно, — засмеялся Рокоссовский. Егор Павлович пошел к машине, открыл заднюю дверцу. — Садитесь, Марков, к земляку, — сказал Никишов. — Спасибо, порадовали нас выправкой. — Он взял маршала под локоть. — Константин Константинович, прошу… Низенький майор в распахнутой шинели подошел к машине. — На обед тебя не зову, Павел Павлович, — сказал Рокоссовский. — Сам в гостях. — Павел Павлович, покури, сейчас Егор за тобой вернется, — сказал Никишов. — У нас сегодня в честь Константина Константиновича его любимая снедь — кашица-размазня. — Благодарю, Сергей Васильевич, — засмеялся майор. — Я уж лучше к вашим оперативникам, они народ умственный, предпочитают отбивные. И, с позволения маршала, согрешим с капитаном Семеновым по махонькой… — Согреши, — сказал Рокоссовский. Майор захлопнул за маршалом дверцу.ГЛАВА ВТОРАЯ
23.05. 18 апреля 1945
КОМАНДАРМ
(— Товарищ третий, докладывает Караушин. На левом фланге подъем воды — восемнадцать сантиметров. — Терпимо. — В центре прибавилось три сантиметра. Ветер крепчает. — Прикажите — пулеметные взводы, ротные минометы грузить в плоскодонки. Инженеру дайте указание — срочно весь свой резерв саперов на вязку плотов. Весь резерв! — Слушаюсь. Разрешите выполнять? — Добро.) Так… не дождался маршал моего звонка… Уж если он первым за телефон взялся… держись, командарм-семь… (— Сергей Васильевич? — Слушаю, товарищ маршал. Прошу извинить, что… — Мне уже доложил Рудников, что вы сообщили своим офицерам новое время операции. Это так? — Так точно. — Это верно, что вы решили начать артподготовку в шесть тридцать? — Так точно. — Сергей Васильевич, ваше «так точно» ничего мне не объясняет. Давайте говорить конкретнее. Вы же действуете не отдельно, вы должны участвовать во фронтовой операции. В чем же дело, Сергей Васильевич? Будьте любезны объяснить причины вашего решения. — Константин Константинович, мое решение отнюдь не самовольство. И на моем месте вы бы так же… — Я не на вашем месте. — И слава богу, Константин Константинович, я не в претензии на свою военную судьбу… Соображения простые, Константин Константинович. С вашего согласия мы провели частную операцию в пойме Одера. Я бросил туда отряды четырех дивизий, потом Ост-Одер форсировали передовые полки. Вся пойма сейчас в наших руках, мы — на дамбе восточного берега Вест-Одера. Хозяйство полковника Волынского — все в междуречье, а один усиленный полк — на восточном берегу Вест-Одера, это севернее берлинской автострады. Генерал Гребенюк двумя полками захватил автостраду на берегу Вест-Одера и соседние дамбы. У полковника Величко один полк тоже на дамбах Вест-Одера. — Эти данные у меня есть. — Константин Константинович, мы проанализировали обстановку. Вывод: наше исходное положение для наступления улучшилось. Мы теперь не за четыре километра от немца, как другие мои соседи, до немца всего четыреста — пятьсот метров. Наши соседи еще будут завидовать… У них пороху не хватило ворваться в пойму… — Там увидим, кто кому будет завидовать. — Увидим, Константин Константинович… — Продолжайте. — Слушаюсь. Пойму мы оседлали капитально. Саперы у нас молодцы. Намечены трассы щитовых колейных дорог на болотистых местах, спланированы пристани, выбраны места для двух мостов и паромных дублирующих переправ. Пустили в ход три лесопильных завода, немцы не успели их докалечить… У нас — шестьсот сорок примерно лодок, есть катера, паромы, самоходные баржи. Три рейса — и перебросим через Одер все основные силы дивизий первого эшелона. Первыми пустим самых крепких людей, которые проявили себя при форсировании Дона, Буга, Нарева, Вислы… — За это — хвалю, Сергей Васильевич. Но — конкретные ваши соображения, дайте мне зерно замысла. — Суть такова, Константин Константинович. Полки первого эшелона — в огневой связи с немцем. До него — полверсты. Все средства переправы — на плаву, в полной готовности, а за оставшееся время мы еще поднажмем на это дело. При таких условиях ждать полного рассвета, мы считаем, нет нужды. Зачем же мы будем выставлять своих солдат под прицел немца при полном божьем свете? Потери в этом случае будут серьезные, а людей у меня — половина от штатного расписания, Константин Константинович. Техники предостаточно, а вот людей… Мне каждого солдата втройне жалеть сейчас надо. Обстановка осложняется, Константин Константинович. Докладывают со всего моего участка — вода в Одере поднимается. Боюсь, все междуречье зальет… У Павлюкова уровень вырос на полметра. Меры приняты, плавсредств ему подбросил. Солдат жаль… Кое-где роты — по пояс в воде… Но народ держится твердо. Солдат понимает — нам нельзя застрять на Одере, надо помочь тем, кто сейчас под Берлином ломает шею Гитлеру… — Знаю. — Еще, Константин Константинович: артподготовку мы не будем растягивать на девяносто минут. Ударим на сорок пять, дадим больше плотности. За это время мы должны быть на том берегу. Успеем. Первый залп — и солдаты за весла. Подгонять тут никого не придется. Или ты ступишь на тот берег, или немец тебя в воду бросит… — Народ как… понял вас народ, Сергей Васильевич? — Уверен, Константин Константинович. Каждый солдат понял: или на берег, или к рыбам… Простая идея лучше до головы доходит. А туг и до сердца дошла — все знают, последнюю немецкую реку перешагнем — и победа наша, на сухопутье мы немцу долго жить не дадим! — Сергей Васильевич… можно тебя по секрету спросить? — Сделайте честь. — Я смотрел на тебя, когда проводил с командармами рекогносцировку у Фрауенхофа. Боюсь, что мой замысел — поставить на решающее направление твоих соседей — не по душе тебе пришелся… Ошибаюсь? — Если честно… — Только так! — Если не лукавить, то… — Значит, обиделся… И только поэтому ты… — Нет, Константин Константинович! Поверьте — нет. Может быть, все это было… как бы сказать… ну, толчком для поиска… более заметной роли в операции. Но ведь я знаю своих людей, Константин Константинович! Нет, я не обиделся. Я просто верю, что и на нашем направлении семерка сделает все, на что она способна. Да, именно так, Константин Константинович. Я уверен, что соседи… нехорошо быть злым пророком, но кривить душой не привык… Думаю, что по моим переправам вы еще будете перебрасывать моих соседей… — Подсунул ты мне, Сергей, теоремочку… Ты понимаешь, что за неудачу нашему фронту Верховный… — Я верю в успех. Я верю! Более того — верю, что семерка будет иметь успех больший, чем соседи. Они еще наплачутся на этих проклятых четырех километрах поймы, ведь солдаты говорят — здесь два Днепра в одних берегах да еще Припять в придачу… — Ну, хорошо. Придется тебе подождать. Я посоветуюсь с другими командармами и позвоню. — Константин Константинович, да ведь у меня душа не…) Так. Положил трубку… Ждать. Надо ждать. Да или нет… Да или… Это просто невыносимо. Только двадцать три девятнадцать?.. Когда же ответит маршал? Через полчаса? Или… Надо терпеть. Надо… Если маршал скажет «нет», плохо будет Седьмой ударной, будет невыносимо тяжко… Рисковать в самом конце войны, ведь в самом конце, судьбой тысяч людей… А они хотят жить… Ну, ночка мне предстоит, хочешь забыть — не забудешь такую ночку… Люди хотят жить… Скоро мир… Люди, люди… Надо позвонить Афанасьеву… (— Здравствуйте, Афанасьев. Не разбудил я? — Не спится, товарищ третий… — Ладожцы мои — как? — Все в порядке, товарищ третий. Борзову я позавчера еще медаль вручил — «За отвагу». Венеру Кузьмичу за захват двух самоходных барж на Одере полагается «Отечественной войны» первой степени, сегодня утречком постараюсь вручить, вернее — завтра, ноль часов еще не подошел… — Как народ — не боится двух-то Днепров, а? — Никак нет, товарищ третий. Смыслу нет бояться… — Нет?.. — Так точно. Были б робкими — и сейчас бы под Ладогой в болотах гнили. Настроение у нас правильное, товарищ третий. Постараемся сделать все как надо… — Ну, спасибо. Дозвонитесь до Кузьмича, передайте от меня: на том берегу встретить хочу. Глядишь, день рождения Гитлера и отметим, а?.. — Двадцатого? Точно, товарищ третий… В верхах у вас не слыхать — не подох еще Адольф-то? — Дышит, сволочь… Ну, всего доброго, Афанасьев. — Спокойной ночи, товарищ третий. Сейчас Горбатову позвоню. Спасибо вам. — На том берегу увидимся…)ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
Бежал гвардии рядовой Борзов вдоль ограды. Основа у тон ограды — красного кирпича, на метр высоты, а поверх — чугунная решетка: дубовые ветви переплелись. — Хорош заборчик, а, Юр? — сказал Борзов своему отделенному Юрке Ковшову, похрипывая (устал — с ночи на ногах). — Поглядывай! Усмехнулся Борзов. Какой с мальчишки спрос? Третий месяц отделением командует, кроме службы-матушки знать ничего не желает… Да и поглядывать тут нет нужды: за забором — парк сосновый, дорожки асфальтовые, от снега расчищенные, скамейки — то голубые, то розовые, то зеленые стоят. Фрицами тут и не пахнет. Добежали до ворот — чугунные ворота, с орлами, а рядом, меж бетонных столбов, — калитка, тоже чугунная. И вывеска на столбе. Золотые буквы на черном стекле. Юрка смотрел на вывеску, потный лоб наморщил… — Шуле… какая-то, черт ее разберет, уж буквы у фрицев — словно пьяный выдумал! — Школа? — Ага… Ма-ри-ен… дорф… В общем, какая-то школа деревенская, понял? Дорф — значит деревня. Глянем! — А я, темнота, думал, что дорф — пол-литра по-немецки, — усмехнулся Борзов. — А выходит… — Разговорчики! Пхнул сапогом Юрка в калитку — распахнулась. Пошли по широкой аллее, где из-под тонкого слоя ночной пороши асфальт пятнами виднелся. А шагов за сто от длинного двухэтажного дома из красного кирпича с крыльцом-верандой из разноцветных стекол свернули с аллеи налево, в сосны: дуриком вслепую переть война давно отучила. Встали за соснами, поглядывают… Дымки из трех высоких белых труб на сизой черепичной крыше… Высоченная дверь веранды — не иначе, дубовая, ишь какая резная — распахнулась, вышел старый фриц в вязаной шапке, в зеленой куртке с меховой опушкой по подолу, в желтых шнурованных ботинках до колен… Морда бритая, только на подбородке — седая бородка клинышком, словно кто после пива плюнул. А за стариком — мальчишки и девчонки выходят, табунятся, потом быстро по четверо в ряд разбираются, за стариком медленно идут… — С мешками, глянь, Юр… — Рюкзаки это, темнота ты, Николаич… И тут девчоночка — двенадцать ей, никак не больше, крайняя слева в первом ряду, в синем пальтишке, синей шапочке — варежками синими лицо закрыла… Обернулся старик, закричал что-то на девчонку. — Смываются, — сказал Ковшов. — Эвакуация, а? — Похоже, — сказал Борзов и покачал головой, забросил ремень автомата на плечо, из-за сосны вышел, через сугробик с краю площадки перед крыльцом перебрался на разметенный от снега черный асфальт. Юрка — за ним (только автомат наготове). — Ротармистен! — крикнул какой-то мальчишка. И не шелохнется никто в колонне. Борзов смотрел на ту девчонку, в синем пальтишке. Личико-то у нее… ангелы такие бывают на церковной стене. «Господи, боятся-то как маленькие…» — только и подумал Борзов. — Не тыркай ты своим самопалом, чудак, — сказал он Юрке, медленно подступил к старику. — Вы… папаша, нас не бойтесь. Детишек русские никогда не забидют, папаша… Борзов еще шаг сделал, руку протянул и девчонке в синем пальтишке по розовой щеке тихонько провел. — Ну, ну… Дунечка ты немецкая, не бойся, дурочка… — Геррен зольдатен! — сказал старый фриц, бородкой подрагивая, и ладонь к щеке приложил. — О-о, геррен зольдатен! — Шуле? — сказал Юрка, белобрысые брови хмуря. — Я, я, рихтиг! — крикнул какой-то мальчишка. — Эвакуацию отменяю, понятно? — сказал Юрка. — Никс эвакуация! Понятно? Опоздали. Хир быть! Хир! Унзер Красная Армия капут Гитлер махен унд аллес ин орднунг! Понятно? — Я, я, герр шержант! — торопливо сказал старик. — Яволь, герр шержант! — Ду — директор изт? — Да, да, так! Ужье… двасать лет, да, герр, шержант! Этого школа, да, товарищ шержант! Это больни дети… детушки… Туберкулез, да. Живем лесе, да. — Бежать вам некуда, кругом наши. Понятно? Эвакуация никс! Дошло? — Дошло… однако. — Однако? — Борзов усмехнулся. — В России, папаша, бывали? — Да, был Россия. Первая война был. Плен, понимайте? Омск был, да. Два года лагер, немножко революцьон, поехаль домой, Германия… — Во — земляки! — засмеялся Юрка. — Ну, земляк, давай-ка ты обратно маришрен махен. Нах хауз, ферштеен? — Корошо. — Поглядим, товарищ гвардии младший сержант, из школу, а? — сказал Борзов, прищуриваясь (по званию обращался к Юрке только в особых случаях). — Некогда! Прочикались тут. Пошли! Юрка козырнул директору, Борзов тоже. — Бывайте здоровы, — сказал Борзов. — До свидани, господа, — сказал директор. Юрка и Борзов зашагали по аллее к воротам. — Между прочим, Николаич, войну отломаем, я в пединститут пойду, — сказал Юрка, оглядываясь. — Дело хорошее. Это очень дело хорошее, Юра. — А у директора-то… морда самая паскудная, заметил? — Да полно, — засмеялся Борзов. — Глаза у него… тухлые какие-то. — Брось. Автоматная очередь (из немецкого автомата — это Борзов с Юркой сразу определили по звуку) бросила их на асфальт… Развернувшись головами к дому, они поползли налево, к соснам. Еще ударила очередь… Видели Борзов с Юркой: последние мальчишки и девчонки убегали за правый угол дома… А на асфальте перед крыльцом лежал кто-то в черной шинели, в каске и бил из автомата… — Юрка, погоди, не стреляй! Детишек зацепишь! — крикнул Борзов. — Ну, гад гитлеровский, — сказал Юрка. — Лежи, Николаич, я в обход возьму сволочь… Юрка вскочил и успел сделать несколько шагов до ближней сосны. Длинная очередь ударила от дома… Юрка обхватил сосну… И упал навзничь… — Юрка!.. Да ты… да что ты?! Борзов дал очередь — и темная немецкая каска ткнулась в асфальт… Он лежал рядом с Юркой… — Юра… за… зацепило, Юра? — Глаза… плохие… Белесые брови Юрки дрогнули и замерли. Было тихо. Упала с ветки шишка, стукнулась о сапог Юрки… Борзов сидел возле мертвого Юрки и держал в замерзшей ладони шишку.7
По широкому бетонному крыльцу двухэтажного особняка, пятясь от двери, торопливо водила тряпкой маленькая девушка в гимнастерке. Она оглянулась на подходивших к крыльцу Рокоссовского и Никишова, бросила тряпку в зеленое ведро, подхватила его и юркнула в высокую дверь из матового стекла. Рокоссовский улыбнулся, пошаркал подошвами сапог по мокрому обрывку полы немецкой солдатской шипели, что лежала перед нижней ступенькой. — Зина старалась? — Она, — засмеялся Никишов. — Любят в Седьмой ударной пыль в глаза пускать… — Это Зинаида по своей инициативе крылечко вымыла — в честь командующего фронтом. — Не скромничай, Сергей Васильевич, я ведь знаю, что ты аккуратист, — и слава богу. — Есть такой грех. — Никишов посмотрел на Маркова, который все еще стоял возле «виллиса». — Что стоишь, брат? Марков покраснел, пошел к крыльцу. Он взглянул на командарма, застенчиво улыбнулся. — Хотите проскочить в грязных сапогах, Марков? — сказал Рокоссовский. — Не советую вам наживать в Зине врага. О, вы же ее не знаете, я и забыл, что вы только… Рокоссовский легко шагнул на крыльцо через ступеньку, смотрел, как Марков, прикусив нижнюю губу, старательно пошаркивал по тряпке подошвами новеньких яловых сапог… — А ведь нам, Сергей, нельзя жаловаться на судьбу. В сорок первом нам крылечек не протирали… Приедешь в дивизию или корпус, в землянку влезешь. Еще хорошо, если землянку успели отрыть… — Все хорошо, что хорошо кончается. — Никишов подошел к двери, распахнул. — Прошу, Константин Константинович…8
В темноватом коридоре на втором этаже у открытой белой двери стояла девушка (узнал ее Марков — та самая, что мыла полчаса назад крыльцо). — Здравствуйте, — сказал Марков. — Это, наверное, вас я должен найти… — Здравия желаю, товарищ гвардии лейтенант, — слабеньким голоском проговорила девушка. — Я все уж приготовила, зовите умываться. Фонарь «летучая мышь» на стеклянной полке слева от большой ванны освещал лицо девушки — худенькое, с широкими темными бровями. — Егор Павлович говорил, что вы земляк ему, горьковский, товарищ гвардии лейтенант. А я ведь из Дзержинска… — Девушка улыбнулась. — Меня звать Гриднева Зинаида, а как вас — уже все наши знают, Егор нам вчера про вас рассказывал. — Ну, представляю, что он… — Да хорошее говорил, что вы! — засмеялась девушка. — Егор за вами собирался и к нам… Девушка не договорила — за спиной Маркова кто-то тяжело ступал по ковровой дорожке… — Погладил уже, Максимыч? — сказала Зина. Марков оглянулся. Высокий солдат с черными усами держал в руках по кителю с широкими погонами, с орденскими планками, на левом была Звезда Героя. — Отутюжили маненько, — сказал солдат, и по его голосу понял Марков, что солдат не молод. — Констентина Констентиныча шибко измявшись был… Марков шагнул в проем двери ванной, чтобы пропустить солдата. — Здравия желаем, товарищ лейтенант, — сказал солдат, улыбаясь лицом в крупных морщинах. — А я вот ординарцем при Сергее Васильиче второй год… — Да неси ты, Максимыч! — сказала Зина. — Во — самый заглавный мой враг, Зинаида-то, — засмеялся Максимыч. — Уж лютует она, уж лютует надо мной, беда прямо, а я… — Неси ты, господи, — сказала Зина, посмотрела на улыбавшегося Маркова. — Скажите там, чтоб шли, товарищ гвардии лейтенант. Но идти Маркову не пришлось — дверь Максимычу открыл Никишов, с подвернутыми до локтей рукавами серого свитера. — Сергей Васильич, я тут утюжком маненько, — сказал Максимыч, проходя мимо Никишова в комнату. — Ну, спасибо, Максимыч. — Никишов смотрел в комнату. — Константин Константинович, вас Зинаида ждет. В коридор вышел Рокоссовский — в таком же, как у Никишова, свитере. — Только цыганского хора не хватает у тебя, Сергей, для полного комфорта… Рокоссовский подошел к Зине. — Здравия желаю, товарищ маршал! — приподняв подбородок, сказала она. — Здравствуйте, Зиночка. Очень рад вас видеть. Только сапог я мыть не буду. Зина засмеялась. — Да что вы, товарищ маршал! — Она отступила к ванне. — В другой раз по грязному крыльцу вот пойдете. Давайте, полью вам… Зина подошла к эмалированному ведру с водой, взяла с полки алюминиевую солдатскую кружку. Рокоссовский склонился над ванной. — Ого… даже теплой воды не пожалела, — засмеялся он. — На месте командарма давно бы сделал вам предложение, Зиночка, честное слово… — Он стал вытирать худое лицо пушистым розовым полотенцем (видимо, из запасов бывшего хозяина особняка). — Изволила наша Зинаида неделю назад стать супругой гвардии старшего лейтенанта Гриднева, бравого танкиста, — улыбнулся Никишов. — В самом деле? — Рокоссовский набросил полотенце на медный крюк. — Очень рад… Поздравляю. Скоро победа, счастья вам на сто лет хватит… Просто очень рад… — Спасибо, товарищ маршал. — Зина прищурилась, засмеялась. — Такую невесту проморгать, а, командарм? — сказал Рокоссовский. — Так и помрешь холостым, бездарный ты жених. — Вот уж в следующий раз я… — В приказе по фронту отдам пункт о неполном служебном соответствии за отсутствие здоровой жениховской инициативы, да, да… Рокоссовский достал из кармана брюк кожаный портсигар, закурил, смотрел, как Никишов вытирает полотенцем руки. — А невеста какая есть, ой! — сказала Зина. — Такая невеста, диво одно, правда, товарищ маршал… Она зачерпнула из ведра воды, полила на ладони Маркова. — Есть? — сказал Рокоссовский. — Зинаида Васильевна, побойся ты бога, — торопливо сказал Никишов. — Есть, есть, товарищ маршал. Только сегодня утром к нам приехала! С артистами приехала, прямо из Москвы! Только вы с Сергеем Васильевичем на передовую направились, а тут они на автобусе как раз, четырнадцать человек, прямо с аэродрома! — Москвичи? — сказал Рокоссовский. — Вот так всегда — бедный штаб фронта артистов полгода не видел, а Седьмая ударная прямо с аэродрома их украла… Нехорошо, командарм. Никишов засмеялся. — В самом деле, Зинаида? — Да через два дома отсюда они, мы туда бегали… Андрей Манухин привез! Восемь артисток и шесть мужчин, своими глазами видела. А самая красивая изо всех, просто уж такая, ой, до чего красивая… — Сергей Васильевич, голубчик, не подведи, — сказал Рокоссовский, смеясь. — Боюсь, оплошаю… — Такой хорошей девушки я не видывала, правда, товарищ маршал, — сказала Зина. — Глаза такие… синие-пресиние… Сама кудрявая, высоконькая такая, ой, что за девушка! А имя-то какое хорошее! Иночка… Ее все московские-то — Иночка да Иночка, любят ее, сразу же видно! — Наверное, обед уже простыл, — сказал Никишов. — Ничего не простыл, — сказал Рокоссовский. — Не уклоняйся от генеральной темы. — Да, Сергей Васильевич, не злитесь вы, господи, — виновато улыбнулась Зина. — Вот уж тайну вам скажу. Андрей Манухин грозил мне голову напрочь, если проговорюсь вам… — Ох, Зинаида… — Ведь Иночка-то… это ж Манухина дочка! — Выдумываешь ты, Зинаида… — Ничего не выдумываю. Инесса Андреевна Манухина. — Инесса Андреевна? Рокоссовский засмеялся. — Спасибо, Зина. Информация была исчерпывающей и своевременной. Надеюсь, Сергей Васильевич, ты заслуг Зины не забудешь? — Ох, Зинаида, постыдилась бы маршала. Жена офицера, а язычок… — сказал Никишов. — Сева, обедать будешь с нами. — Обиделись, значит, Сергей Васильевич, — упавшим голосом сказала Зина. Никишов пошел за Рокоссовским, у двери оглянулся. — Зинаида, скомандуй там пообедать, будь добра.9
В дверь библиотеки постучали — быстро, но негромко… Марков вскочил с кресла, но дверь уже приоткрылась, и голос Зины сказал: — Разрешите? Марков распахнул дверь. Стояла перед ним Зина с белым свертком в руках. — Скатерочку надо постелить, — весело сказала Зина, оглянулась. — Лида, что ты там? И женский голос ответил: — Не пустая, чай. Темнотища-то здесь… Зина подошла к дубовому овальному столу, мягко посвечивавшему полированным верхом, набросила на него скатерть, туго прошуршавшую, повернулась к медленно шедшей по паркету высокой девушке в белом передничке поверх форменной зеленой юбки. Дымились на большом подносе три тарелки с золотыми ободками… — Здравия желаю, товарищ маршал, — негромко сказала девушка, опуская поднос на край стола. — А-а… Лидия Акимовна, добрый вечер, — сказал, привстав в кресле, Рокоссовский. Он снова сел в кресло рядом с большим письменным столом на точеных толстых ножках, устало протянул ноги. — Дал я вам сегодня лишних хлопот… Ругаете? — Да что вы, товарищ маршал! — Полное лицо Лиды улыбалось чуточку возбужденно. — Вы каждый день к нам обедать приезжайте! Никишов, куривший возле раскрытой форточки высокого окна, улыбнулся. — Ты, Акимовна, напросишься, что маршал и впрямь… Тебе-то приятно хвастать своими кулинарными талантами, а мне-то каково, а? — Не прибедняйся, командарм, — сказал Рокоссовский. — Павел Иванович Батов меня пилит, что я все к Никишову да к Никишову… Все засмеялись. — Дней десять у нас не были, товарищ маршал, — сказала Зина. — Все в другие армии ездите, нас совсем забыли. — Зинаида, побойся ты бога, — сказал Никишов. — Откушайте, товарищ маршал, борщ сегодня хороший получился, разведчики мне даже сметаны дали, — сказала Лида. — А кашу я в духовке потомила, больно хороша у немца печечка… Убежал, все хозяйство оставил, теперь хоть посудой-то разжились. Ну, пойдем, Зин. Кушайте, товарищ маршал… Лида улыбнулась Маркову (стоял он у длинной книжной полки). — Товарищ лейтенант, вы нам скомандуйте, когда второе нести. — Хорошо, Лида. Кто-то постучал в дверь (Лида отступила от нее), вошел невысокий офицер в полковничьей папахе, длинной по-кавалерийски шинели, увидел Рокоссовского. — Товарищ маршал, разрешите обратиться? — Новости, Ярцев? Рокоссовский встал с кресла, подошел к полковнику. Тот оглянулся. Девушки вышли, кто-то из них плотно прикрыл дверь… — Так точно, товарищ маршал. Начальник штаба приказал мне найти вас и… — Меня искать не надо. Мой адрес всегда известен, я не дезертир. — Виноват, товарищ маршал, — тихо сказал Ярцев. Марков смотрел на ставшее хмурым лицо Рокоссовского… «Он же волнуется, конечно, это он на полковника… конечно, он волнуется из-за этой новости, что привез полковник, какой-то важной, наверное, новости, потому что Рокоссовский сейчас…» — не очень ясные мысли встревожили Маркова. Все было так хорошо, маршал был веселым, он же совсем простой, нет, не простой, он совсем, конечно, не простой, но ведь видно, что он любит, когда возле него люди, он не любит, наверное, одиночества, и люди его не боятся, ни Зина не боится, ни эта повариха Лида… Но приехал полковник и… То чувство, которое Марков смутно ощущал, находясь с маршалом и командармом, — чувство непривычной, удивительной безопасности — вдруг сменилось неуверенностью и тревогой. Марков стоял у книжной полки и не знал, что ему сейчас надо делать, — может, выйти из этой теплой комнаты, в которой ощутимой становилась еще неведомая Маркову тревога?.. Или Марков должен остаться?.. Он вздохнул и посмотрел на командарма. — Полковник, у вас такой таинственный вид, словно вы служите в Третьем отделении собственной его величества канцелярии… — Никишов добродушно усмехнулся, и Марков понял, что командарм тоже знает о волнении Рокоссовского. — Ну, так почему меня надо разыскивать? — сказал Рокоссовский. — Получена директива Ставки, товарищ маршал. Мне не дали текста, приказано запомнить и доложить вам. По ВЧ[1] начальник штаба не решился… — Снимите шинель, Николай Викторович, — сказал Рокоссовский, садясь в кресло. — Здесь не холодно… Полковник снял шинель, папаху, пригладил ладонью темные длинные волосы, глянул на Маркова. — Разрешите, товарищ полковник? — Марков взял шинель и папаху, пошел в угол библиотеки, положил на диван. — Ну, Николай Викторович… колотите нас новостями. Сядьте. Полковник, улыбнувшись виновато, сел. — Я выехал через пятнадцать минут после получения директивы. Член Военного совета приказал мне… — Николай Викторович, я уже понял, что новость важная, — негромко сказал Рокоссовский. — Виноват, товарищ маршал. — Докладывайте, Николай Викторович. И сядьте вы, бога ради, удобнее… Полковник сел на стул подальше, ослабил ноги. — Приказано, товарищ маршал, передать в распоряжение Третьего Белорусского фронта четыре наши армии… — Лицо полковника было спокойным, но понял Марков: многое бы отдал полковник, чтобы на его месте сейчас был другой. Рокоссовский закурил. Поискал глазами, куда бросить спичку. Никишов подошел к письменному столу, подвинул мраморную пепельницу. — Спасибо… — Рокоссовский бросил спичку в пепельницу, поднялся с кресла, подошел к окну, стал смотреть на голые ветви березы, почти касавшиеся стекла. Колотилась кровь в висках Маркова. Он видел в шести шагах от себя бледное, с едва проступившей седоватой щетинкой на подбородке, лицо маршала — не так молод он, как показалось Маркову при встрече у колонки… — Надо было ожидать… Припекло генштабистов, — негромко проговорил Рокоссовский, повернулся к полковнику. — Какие именно, Николай Викторович? — Пятидесятую, Третью, Сорок восьмую и Пятую гвардейскую танковую, товарищ маршал. Папироска Рокоссовского потухла. Он швырнул ее в форточку. — Давайте обедать, — сказал он, и полковник сейчас же поднялся, подвинул стул к столу. — Закусим новость, — сказал Никишов. Рокоссовский улыбнулся. — Черт возьми, Николай Викторович, не могли вы явиться на десять минут позже… — Штабников хлебом не корми, дай только возможность расстроить начальство перед самым обедом. — Усмехнувшись, Никишов подошел к столу. — Не ожидал от вас такого коварства, Николай Викторович. — Начальство не расстроено, — сказал Рокоссовский. — Этого решения Ставки давно я ждал, делишки-то в Восточной Пруссии не из веселых… После успехов в Белоруссии кое-кто из москвичей начал думать, что немцу крышка, а он еще живой, подлец… Никишов глянул на Маркова. — Всеволод, проскочи к Лиде, пусть еще тарелочку для гостя… — Благодарю, товарищ генерал, — торопливо сказал Ярцев. — Перед отъездом я… Благодарю. — То-то смотрю — голодные генералы сытого полковника не разумеют, — улыбнулся Никишов. Рокоссовский неторопливо помешивал серебряной ложкой борщ. — Красивая вещица… Понимали господа арийцы толк в сытой жизни, мастера, мастера о своем брюхе позаботиться… Позавчера у Павла Ивановича Батова был, рассказывал он, как одного сержанта на комсомольском собрании парни расчехвостили, в вещмешке нашли бронзовую статуэтку нимфы. Шумят: «Голую немецкую стерву на своем горбу гвардейцу таскать — да такого позору в нашем полку не видели!» До слез парня довели… — Русский солдат никогда барахольщиком не был, слава богу, — сказал Никишов. —Все богатство — чистая рубаха в мешке, для большого боя главный запас. Рокоссовский глянул на Маркова. — Жалеете о своем взводе, Марков? — Так точно, товарищ маршал. — Все бывает в нашей солдатской жизни… В середине ноября прошлого года Сталин мне звонит: собирайтесь принять командование Вторым Белорусским, на ваше место приедет маршал Жуков… Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! За что, говорю, такая немилость, с главного направления — на второстепенное? Ну, Сталин, разумеется, толковал что-то такое о замечательном полководце Косте Рокоссовском… А все-таки, если не кривить душой, обидно было… А теперь — половину армий фронта у нас оттяпали. Так что, Марков, мы с вами в одинаковом положении: вам жаль взвода, а мне четырех армий — Рокоссовский улыбнулся, отодвинул тарелку. — Константин Константинович… может, целесообразно товарищу Сталину позвонить? — сказал Никишов. — Решение Ставки — единственно верное, Сергей Васильевич. Только запоздалое. Надо было еще осенью усилить Третий Белорусский, смять к чертовой бабушке Восточную Пруссию превосходящими силами. На благородном языке учебников стратегии это означает простое понятие — недооценка сил противника… А мне докладывают сведения, в достоверности которых сомневаться не приходится. Их добывают разведчики, что действуют в немецких мундирах, понимаешь?.. Мне начальник разведуправления особо подчеркнул, что сведения поступают из абсолютно надежного источника, в перепроверке не нуждаются… Всем хороши победы, только иногда от них голова кое у кого начинает кружиться, а война этого не любит, война есть война… Ну, хорошо. Идем на свежий воздух, Сергей Васильевич, подышим. Кашу-размазню уж в другой раз отведаю… — Константин Константинович, кушайте, — сказал Никишов. — Идем. — Рокоссовский встал, и сразу поднялись все остальные.10
Яловые, потерявшие блеск от недавнего мытья у колонки сапоги маршала неторопливо переступали по припорошенной свежим снегом земле, уже начинавшей к вечеру подмерзать. Никишов, шагавший рядом с маршалом, оглянулся на деревню — до нее было уже метров четыреста, красные и серые черепичные крыши блестели на закатном солнце. У немецкой сожженной самоходки с бортовым номером «179» стояли четыре автоматчика в белых полушубках — парни из личной охраны маршала. Они отстали шагов на сорок, но ближе подходить не решались. — Покурите, ребята! — крикнул им Никишов, посмотрел на маршала. Прищурившись, Рокоссовский медленно повел взглядом по горизонту. На фоне дальнего леса багровыми квадратиками на повороте шоссе вспыхивали стекла кабин длинной автомобильной колонны, в кузовах темно-зеленой прерывистой цепочкой виднелись каски пехотинцев… — Кажется, в Девятнадцатую армию, — сказал Рокоссовский. — Да, дивизия Перхурова должна идти… Не тянет командарм, слаб, безволен, а прогнать — рука не подымается. Он достал портсигар, усмехнулся. — Ну, что думает комиссар?.. — Грабеж среди бела дня, вот что я думаю, Константин Константинович, — зло сказал Никишов. — Оттяпали четыре армии и думают, что чудо-богатыри Рокоссовского завтра выбегут на берег Балтики… Нет, на твоем бы месте, Константин Константинович, я дал бы бой генштабистам, черт их дери! Рокоссовский опять усмехнулся. — А ведь положение еще хуже, чем ты думаешь. — Хуже?.. Прости, но я… Папироса Рокоссовского потухла, он отбросил ее в снег. — Отсырели, что ли… Позволь-ка твою… Спасибо. Они шли медленно, спускаясь к незамерзшему узкому ручью, петлявшему меж голых кустов ивняка. Темная вода быстро текла почти вровень с берегами. Рокоссовский нагнулся, поплескал левой ладонью по воде. — Ледяная… А скоро и распутица припожалует… — Константин Константинович… Почему — хуже? — тихо проговорил Никишов, бросил окурок в воду. — Два дня назад получил директиву Ставки… — Рокоссовский выпрямился, сунул руки в карманы. Смотрел на черную воду. — Вводная часть — примерно такая… Немцы сосредоточили в Восточной Померании крупную группировку. Вторая и Одиннадцатая армии — в междуречье Вислы и Одера. Шестнадцать пехотных дивизий, четыре танковых, три моторизованных, четыре бригады, восемь боевых групп, пять гарнизонов крепостей… Словом, кулак солидный. — Таким кулаком можно крепко ударить, — сказал Никишов, вздохнув. — Наиболее вероятной целью немцев является: сковать армии нашего фронта и правого крыла Первого Белорусского. Цель ясна — немец хочет не допустить усиления наших группировок на Берлинском направлении… — Разумно. — Ударят немцы в правый фланг Жукова и… Понимаешь, Сергей? — Будет нам худо. — А нашему фронту приказано перейти в наступление десятого. Сегодня… — Два дня дали на подготовку фронтовой операции?! Да они что, совсем спятили там?.. — Не кипятись. И за два дня спасибо. Время нас поджимает, Сергей… Ведь к Берлину не прочь прикатить и наши дорогие друзья и союзники. В этом суть ситуации, насколько я понимаю… — Москвичи знают, что командующий любого другого фронта вежливо послал бы их ко всем чертям, а маршал Рокоссовский — солдат дисциплинированный. По совести сказать — эта директива не просто фортель генштабистов, а самое настоящее… — Никишов выругался. — А молод ты еще, Сергей, ох как молод. — Рокоссовский кашлянул. — Я думаю, что Сталин, подписывая директиву, малость хитрил… Превосходно он знает силы нашего фронта, у него вся цифирь в полном ажуре, он точные данные любит. Но цифирь цифирью, а есть еще люди… Сталин — старый хитрец, знаю я его, слава богу, смотрит на тебя своими ореховыми глазами, ну — ангел невинный, а ведь насквозь тебя видит старик. Когда утверждали план Белорусской операции, он меня вежливо два раза выпроваживал в соседнюю комнату, когда я не соглашался с планом Ставки. «Подумайте, товарищ Рокоссовский», — спокойненько так говорит, а я чувствую — доволен, что я не сдаюсь… И вообще, где сказано, что хлеб маршала слаще солдатского, а? — Нигде не сказано, только мне вся эта свистопляска наших стратегов… а, черт бы их драл, в самом деле! — Опять кипишь… После войны будешь кипятиться, когда на старости лет станешь мемуары сочинять. Одного боюсь — начнут старички приглаживать, помарочки свои стратегические — того… Красивенькая бывает война в мемуарах. О гражданской войне некоторые товарищи такую розовость напустили — стыдно читать. А война — это война… И враг бывает слаб и глуп только в сочинениях пустейших товарищей мемуаристов. — Рокоссовский улыбнулся. — Но ты, конечно, в своих мемуарах будешь резать правду-матку в глаза, товарищ командарм? Никишов вздохнул… Из-за поворота ручья выплыла, качнувшись на стрежне в белых пузырях, струганая доска метра два длиной. Зеленой краской на ней было написано не очень ладными буквами: «Семен Мефодьевич Капустин. Ура!!! 7 фев. 45 году». Рокоссовский засмеялся. — Веселый мужик — Семен Мефодьевич Капустин. Этот точно знает, что немца мы побьем, о стратегии ему думать охоты нет… И — никаких тебе директив. Позавидуешь Семену Мефодьевичу… — Каждому ношу по плечу судьба дает. Впрочем, бывает, и ошибается, — усмехнулся Никишов. — Нам сейчас не до любомудрия. Придется пораскинуть мозгами, как обидеть нового немецкого полководца рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. — Гиммлера?! — Последняя информация разведчиков… — Странно… Гиммлер… Эта сволочь жаждет поучиться у тебя военному искусству, Константин Константинович… Поучи, Генрих будет до гроба благодарен… — Поживем — увидим… К двадцатому февраля фронту приказано овладеть рубежом устье Вислы — Тчев — Косьцежина — Руммельсбург — Нейштеттин, — негромко сказал Рокоссовский. — В дальнейшем наступать в направлении Штеттина, овладеть Данцигом, очистить от немцев Балтийское побережье от Вислы до Одера… Работенка немалая. Что скажешь, Сергей Васильевич? — Попробую обойтись без крепких слов, но… — Сделай милость. Иного выхода у Ставки нет, ты это отлично понимаешь. — Я не критикую, нет, Константин Константинович… Но, насколько я разбираюсь в стратегии, директива предлагает… боюсь, не самое лучшее решение. — Фронтальный удар?.. — Так выходит. Приказывают не бить немца наповал, а… а выпихивать его на таком широком фронте к берегу моря… Так дело не пойдет, нет. Я не пророк, но… Понятно, что цель выбрана точно, а вот средство — не гениальное, нет. После белорусских операций, после опыта боев в Польше… Нет, так дело не пойдет. Сорок пять дивизий нашего фронта можно использовать толковее, Константин Константинович… — Все это присказка. А сказка — в вопросе: как именно толковее? — Не знаю ответа. — Выход, кажется, только один… Да, пожалуй… иного выхода не найдем… Начнем операцию по директиве. А я предложу Ставке кое-какие соображения. Во-первых, надо ограничить пространственный размах операции… — Согласен, Константин Константинович! Целиком согласен! Пусть Жуков нам поможет, ему Ставка сил пощедрее, чем нам, дала! — Жукова ты не напрасно вспомнил, хитрец… — Я хитрец?! — Ну, ну, шучу. — Рокоссовский чуть сдвинул папаху на затылок. — Пространство операции ограничить не для того, чтобы свою ношу облегчить, Сергей… Второй Белорусский за спину соседей не прятался и не будет прятаться. Дело в ином… — Не улавливаю. — Суть проста. Соберем ударную группировку — и в стык обеих армий немцев, только в стык. — То есть… — Отсечем Вторую армию и загоним ее, сволочь, в море, возьмем Данциг! — Константин Константинович! Это же… ведь это же… — Никишов засмеялся. — Я рад, что у нас с тобой мысли сходятся… в основном, — чуть лукаво прищурился правый глаз маршала. — Вот именно, в основном, — сказал Никишов. — Ладно, не скромничай. Если б командарм-девятнадцать так… сходился со мной в основном… Не дает мне спокойно спать эта Девятнадцатая армия. Ну, не о ней сейчас речь… О Жукове ты верно сказал, Сергей… в принципе. Однако… — Без помощи Жукова… — А если глянуть пошире, то не мы без Жукова, а он без нас будет скучно жить, — усмехнулся Рокоссовский. — Ты не учитываешь, как прозвучала бы наша просьба о помощи в Ставке… Второй Белорусский слезу пустил, а?.. Так и расценил бы Сталин, — справедливо, впрочем. — Не согласен. — Вот поживешь с мое… Не в Ставку я буду обращаться, а к Георгию Константиновичу. Он мужик с головой, поймет с первого слова; что-что, а взаимодействие фронтов для него не темный лес… И, думаю, наша совместная просьба о координированных действиях будет наверняка правильно понята Сталиным. — С ним дотолковаться можно, если что дельное сказать. — Буду просить Жукова — пусть выделит часть сил своего правого фланга, ударит по Балтийскому побережью. Он не может быть спокойным, когда немец способен ударить фронту во фланг и надолго поломать всю игру на Берлинском направлении, у Жукова нюх на опасные ситуации — позавидуешь… Ну что-то такое мы с тобой, Васильевич, на свежем-то воздухе и придумали, а?.. Никишов, улыбаясь, протянул маршалу портсигар. — В мемуарах напишу: идея удара по центру Восточно-Померанской группировки немцев — кардинальное решение маршала Рокоссовского, замечательный образец сталинской науки побеждать. И генерал Никишов в сем решении не повинен, увы… Без такого удара идти на Берлин — авантюра, шапкозакидательство и незрелость стратегического мышления. Рокоссовский засмеялся. — Одного единомышленника я уже имею, слава богу… Спасибо, Сергей Васильевич. Идем. Надо мне побыстрее в штаб, а то господин рейхсфюрер Гиммлер подложит мне такую жирную свинью, что жевать мне до самого лета… И тебе придется за компанию… — Управимся, — сказал Никишов, засмеявшись. Они посмотрели на ручей и пошли по своим старым следам к деревне. Солнце багровым шаром лежало на зеленой крыше двухэтажного дома. — Семен Мефодьевич Капустин, а? — засмеялся Рокоссовский. — Бравый, поди, солдат… В мемуарах-то отразишь? — Непременно, — сказал весело Никишов. — Семена Мефодьевича ждет в недалеком будущем всесоюзная слава. А может, и мировая, потому что маршал Рокоссовский… — Маршал Рокоссовский теперь жалеет, что отказался от такой роскошной кашицы-размазни… Черт, ну, характер у меня… Пока не решу головоломки — ни спать, ни есть… Они засмеялись, ускорили шаг.ГЛАВА ТРЕТЬЯ
23.24. 18 апреля 1945
КОМАНДАРМ
Время остановилось. Только двадцать четыре минуты… Не стоит так часто смотреть на часы. Не стоит… Друзья, простите! Завещаю вам все, чем рад и чем богат; обиды, песни — все прощаю, мне пускай долги простят… Не простили тебе долгов, брат Пушкин… И мне провал операции, разгромленную армию не простят… Нет, теперь поздно думать об этом. Все прощаю, а мне пускай долги простят… Не простят, Александр Сергеевич… Великим быть желаю, люблю России честь, я много обещаю — исполню ли? Бог весть! Да, бог весть… Ты был кудрявый, веселый парень, Саша Пушкин… Кудрявый и веселый?.. Ты, наверное, смотрел на часы, когда ждал… ну, кого ты мог ждать в апреле… ночью… а? Наталью? Приходила она к тебе ночью? Когда возвращалась с бала? Ты издалека слышал ее шаги по паркету… Я забыл, какое у нее лицо. Что-то большеглазое, ясное, с высоким лбом. Что-то прекрасное шло к тебе, Пушкин. Тебе хотелось, наверное, простоты и ясности. Вся жизнь должна светиться ясностью… Румяной зарею покрылся восток, в селе за рекою потух огонек. Росой окропились цветы на полях, стада пробудились на мягких лугах. Как же там дальше у тебя, Пушкин? Пастушки младые… Нет… Туманы седые плывут к облакам, пастушки младые спешат к пастухам. Туманы седые плывут к облакам… плывут к облакам… господи, как мне хочется увидеть утро… Туман поплывет над этим проклятым Одером и… Седьмая ударная гробанулась, скажут… Нет, скажут: Никишов гробанул армию… Я отвечаю за то, чтобы солдаты остались живыми… Если провалю операцию — никто через неделю и не помянет Седьмую добрым словом. На войне о неудачниках вспоминать некогда. Никому не скажешь тогда, что мой план был лучше, чем замысел фронта. Нужны только победы, друг мой Сергей. Это справедливо. А о плане, если есть победа… кому же вспоминать? Просто солдаты остаются живыми, и это самое главное, просто люди остаются живыми… Неудачников живые не помнят… Да, тогда мы оплошали всей группой, когда Шапошников спросил нас о Викторе-Мишеле… Обидной была для академиков улыбочка маршала. Он приглаживал белой ладонью свой английский пробор. Во всей армии, наверное, только у него был такой… старорежимный… В самой сильной группе академиков ни один толком не знал об этом чертовом генерале Викторе-Мишеле, а? Правда, я что-то такое помнил, какие-то обрывки из лекции комдива Меликова, но вылезать перед маршалом с этими клочками мыслей… Потом мы весь вечер копались в книгах… Генерал Виктор-Мишель оказался таким человеком, что мы растерялись. Разве не опозорились мы перед маршалом? Не знать о человеке, который еще в одиннадцатом году положил на стол председателя Высшего военного совета Франции гениальный, черт возьми, план стратегического развертывания армии, просто гениальный… Две трети всех французских корпусов в случае войны этот чертов умница Виктор-Мишель предлагал бросить в Бельгию и Эльзас-Лотарингию, опередить германскую армию вторжения. Он же просто сумел увидеть четырнадцатый год, он предусмотрел, что Мольтке-младший, этот хваленый тупица, бросит свои армии в Бельгию… И эта бездарная шпана… Фош, Кастельно… кто еще? Миссими, Жоффр… Выгнать в отставку самого проницательного человека своей армии, а? Старый упрямец Жоффр едва не погубил страну… А в сороковом? Подлецы… Бросили своих солдат, сволочи, бросили… Да, историю знать полезно, а вот что скажет мне маршал сегодня? Или завтра? Господи, да время остановилось! Еще и полночь не подошла. А утром… Как же я мог… как же я забыл, что утром Инна… Она же улетает в Москву, вся бригада артистов улетает… Я же не увижу Инну больше, не увижу! Спокойно, Сергей. Спокойно. Наталья шла к мужу, а к тебе никто не идет. И ничего тут не поделаешь. Ты думаешь об этой девушке, но… она к тебе не придет. Она же улетает утром… Инна. До нее сорок километров, это же по автостраде совсем рядом. Рядом… Сорок километров… Что, если я пошлю Севу, а? С письмом. С записочкой. Согрешу. Севка не спал, мальчишка, но ведь… Инна ждет, что я… что я проявлю хотя бы вежливость и пожелаю ей доброго пути. Ей и товарищам по бригаде… Или — позвонить на аэродром? Что я могу сказать Инне? Что? Гениальный генерал Виктор-Мишель, что вы предприняли бы на моем месте? Вы сняли бы трубку телефона с этого лакированного ящичка и сказали бы, что… Нет, звонить не могу. Боюсь звонить Инне. Я скажу Всеволоду, что… Нет, не могу. Ведь от того, что скажет маршал, зависит все, все… Инна… Инесса Андреевна Манухина… Позвоню, пусть вызовут Маркова… Позвоню… (— Караушин? Лейтенанта Маркова ко мне. Что? Здесь? Ну, отлично. Жду.) Так. Напишу ей. Несколько слов я еще способен сейчас, кажется, написать… Так. Экая дрянная бумага, господи… Дорогая Инесса Андреевна, я очень сожалею, что не могу проводить вас завтра. Всего вам доброго. Искренне ваш — Никишов. Дорогая… Искренне ваш… Не обидится она? А, Всеволод… Почему он так смотрит? (— Товарищ командующий, по вашему приказанию гвардии лейтенант Марков прибыл. — Обиделся? — Никак нет, товарищ командующий. — Перестань, Сева. Ты же понимаешь, что мне сейчас… — Сергей Васильевич! Да разве я… — Ну, вот и хорошо. — Сергей Васильевич… ведь все в штабе сейчас, понимаете, все ждут… — Ничего, Сева, утро вечера мудренее, как говорится, доживем и до утра. Ты мог бы сейчас выехать… нет, даже можно часика через три, еще успеешь поспать… Надо мне передать вот эту записочку… Только конверта у меня нет… — Я все сделаю, Сергей Васильевич. — Это товарищу Манухиной. — Ма… Манухиной?.. Понимаю. Мы с Казаряном сейчас же выедем, тут же ехать-то полчаса, Сергей Васильевич! — Тебя же шатает, черта упрямого… Поспи. — Сергей Васильевич… — Хорошо. — А ответ, Сергей Васильевич? — Ответ? — Конечно напишет, я скажу, что вы просите обязательно… — Вот уж это, брат Всеволод, инициативы твоей не требует. — Разрешите идти? — Спасибо, Всеволод. — Я быстро вернусь, вы не волнуйтесь, Сергей Васильевич. — Да, вот что — постарайся сказать несколько приятных слов о всей бригаде артистов, у тебя получится. — Отправляюсь! А ответ товарища Манухиной я… — Иди ты, бога ради.) Ну… вот так. Все-таки, наверное, я самый распоследний сукин сын… Если мне понравились синие глаза, это еще не дает мне права… Господи, как все это сложно… Через четыре минуты — ноль часов. Время остановилось. (— Товарищ Караушин, передайте всем управленцам мой приказ — спать до четырех тридцати. Всем спать! Мне надоел этот крестный ход возле блиндажа… Спать! И еще просьба, Николай Семенович, если найдете пачку папирос — пришлите мне. Выкурил последнюю, гибну.)ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
Заплакал Борзов, лицо рукавом телогрейки вытер, полез в кузов «студебеккера» — первый и последний раз Юрку Ковшова в губы поцеловать. — Меня б шибануло, мне б та пуля… — сказал Борзов, стоя в кузове рядом с гвардии старшим лейтенантом Венером Горбатовым. Нагнулся ротный над Юркиным белым лицом… Махнул рукой с шапкой и спрыгнул на снег. Они с Борзовым дождались, когда машина на просеку свернула, надели шапки и пошли по мерзлому асфальту шоссе. — Коля… при мне надо тебе быть, — сказал ротный. — Это я не могу, товарищ гвардии старший лейтенант. Горбатов остановился. — Что ж ты, сволочь… — От судьбы в твоем блиндажике не заначишься, Веня… — В душу Гитлера мать твою судьбу! Быть при мне! Назначаю ординарцем! — Слушаюсь, товарищ гвардии старший лейтенант!11
Человек в Москве читал расшифрованную радиограмму из Берлина:«Циммерман присутствовал на ужине у Геббельса в честь награждения имперского фюрера службы труда Гирля «Германским орденом» в связи с его семидесятилетием. Присутствовал также Гудериан. После ужина началась бомбежка. В убежище Циммерман сидел рядом с Магдой Геббельс, она была с дочерьми. Она сказала: «Мы никогда не оставим его (Гитлера), никогда!» Перед самым окончанием бомбежки Магда спросила мужа: «Что сказал де Кринис? Неужели Дольфи (Гитлер) так болен?» Геббельс ответил: «Бога ради, Магда, не надо об этом. Ты понимаешь, что значит паралисис агитанс? Кажется, так по-латыни называется эта ужасная болезнь… Чудовищная несправедливость судьбы — быть фюрером великого народа и… Ужасно…» Вид у Геббельса был крайне подавленным, дрожали губы. За весь вечер он ни разу не причесывал свои длинные волосы, хотя это его любимая привычка. С помощью 0043 и 0097 установлено: Макс де Кринис — известный профессор из нервного отделения берлинской клиники. Был принят Гитлером и ознакомился с состоянием его здоровья. Термин, упомянутый Геббельсом, — это «болезнь Паркинсона». Причиной может быть сильная простуда или венерическое заболевание, просим уточнить у специалистов. Вместе с Кринисом был доктор Леонгард Конти. Есть веские данные за то, что визит этих врачей к Гитлеру сделан по настоянию Гиммлера. Мотивы будут понятны из нижеизложенного. Внешний вид Гитлера. Глаза навыкате, взгляд застывший, потухший, на щеках красные пятна. Подергивается не только левая рука, как было раньше, но и вся левая половина туловища. Сидя, придерживает правой рукой левую, кладет правую ногу на левую, что позволяет ему сделать не столь заметным нервное подергивание тела. Походка вялая, сильно сутулится, движения затрудненные. Когда садится, ему подставляют стул. Психическое состояние. Беспредельная раздражительность, часто теряет душевное равновесие. Главная идея его в последнее время: «Никогда не уступать, никогда не капитулировать!» Маниакальное упорство Гитлера в стремлении сохранить личную власть сделало его еще более нетерпимым, истеричным. Подозревает ближайшее окружение, что существуют планы его устранения с политической арены. В правящей верхушке рейха все зримее стремления некоторых ближайших к Гитлеру «старых бойцов» отнять у него власть и получить возможность попытки договориться о сепаратном мире с нашими западными союзниками. К таким «мечтателям о власти» можно отнести в первую очередь Геринга. Напомним, Геринг в самый канун войны (на западе) пытался найти контакт с англичанами через своего шведского знакомого Биргера Далеруса (о чем Циммерманом было послано донесение). Рейхсмаршал продолжает пользоваться доверием Гитлера, хотя в знак протеста против критики Гитлером действий военно-воздушных сил снял с себя все регалии, является на заседания в скромном мундире и солдатской затрепанной фуражке. Затем — Гиммлер, Борман. Из всей верхушки один Геббельс еще сохраняет личную преданность Гитлеру. Как-то сказываются на этом и отношения интимной дружбы Гитлера с Магдой Геббельс в предвоенные годы. Предлагаем: Первое. Принять меры, чтобы профессор Макс де Кринис сохранил в тайне свой диагноз болезни Гитлера. Второе. Средством для этого считаем: вручить профессору письмо, якобы исходящее «с самого верху», от кого-либо из высших лиц империи. Примерный текст: «Господин профессор, известное Вам лицо выражает свое твердое пожелание сохранить в абсолютной тайне выводы, которые Вы доложили этому лицу и которые касаются его важнейших интересов. С прочтением будьте любезны письмо сжечь». Считаем, что такое предупреждение окажется достаточно веским, а сам факт анонимного обращения подчеркнет, что диагноз болезни является тайной даже для ближайшего окружения Гитлера. Текст будет напечатан с двумя-тремя ошибками, чтобы показать: письмо печатал не опытный в работе на машинке человек, не профессиональная машинистка имперской канцелярии или один из адъютантов Гитлера, а кто-то из высших лиц империи. Третье. Считаем операцию делом особо важной срочности. Привет!Циммерман.Коробов».
«Четвертый арестован седьмого февраля. Предлагаем выслать радиста в Данциг, Мюлленштрассе, ресторан «Густав». Коробов выедет туда на машине. В случае вашего согласия будет в Данциге десятого — двенадцатого февраля. Пароль — резервный номер три. Район Данцига предлагаем как наиболее подходящий, где легче протолкнуть радиста через линию фронта. Поток беженцев из района Кенигсберга позволит использовать ситуацию: жена офицера (не скупитесь на чины), проживавшая в Восточной Пруссии, направляется к родственникам в Берлин. В Данциге Коробов знакомится с нею как случайный попутчик. Коробов может ждать до шестнадцатого февраля. Вторая его задача — сбор сведений о частях и соединениях, скопившихся в районе Данцига, но только с условием благоприятных обстоятельств, без напрасного риска. Обстоятельства провала четвертого: заболел воспалением легких, простудившись, видимо, при радиосеансе в районе озера Вандлиц-зее, о болезни не сообщил. Хозяйка квартиры поздно ночью по своей инициативе вызвала медсестру из больницы района Шпандау, так как четвертый был уже без сознания. Четвертый в бреду говорил по-украински. По доносу сестры утром арестован. Сестра два года работала в группе хозяйки квартиры, причины ее предательства неясны. Хозяйка квартиры успела принять яд. Ее имя — Роза-Мария Курц, жена офицера-майора, попавшего в плен к американцам в сорок третьем году в Африке. Просим принять меры, чтобы ее подвиг не был забыт. Ходатайствуем о награждении орденами Красного Знамени радистов Брокдорфа и Самченко — за обеспечение регулярной связи с вами в особо трудных условиях района Берлина. Привет!Циммерман.Коробов».
12
Сизая туча наваливалась на тонкую промоину в закатном небе… На бетоне автострады клочками неба розовели лужицы. Молодые сосны, зажженные с одного бока светом зари, убегали за окнами черного «паккарда». Машина скользнула с холма вниз, в серенький ознобистый сумрак… Фели зажмурилась… Подступили слезы — заплакать бы сейчас, тихонько, как в детстве, уронив голову на колени отцу… Фели провела по дрогнувшим бровям рукой в перчатке, открыла глаза. От неудобной позы (упиралась Фели коленями в чемодан), давно ныла спина, но даже шевельнуться не хотелось… В овальном зеркальце перед Фели шестой день покачивалась синяя мамина шляпка с гарусовым узором на муаровом банте. Мама подремывала. Светлый высокий валик ее прически растрепался, и короткая прядь над пудреным лбом вздрагивала от неровного дыхания. Только густо накрашенные темным кармином все еще тугие красивые губы свидетельствовали, что мадам фон Оберхоф не собирается падать духом, хотя бы танки проклятых советов лязгали гусеницами следом за «паккардом». Фели вздохнула. Оглянулась. Рядом с мамой спала Маргот, уронив голову на пушистую, дымчатую муфту. Тонкая цепочка медальона врезалась в розовую кожу на шее Маргот. Фели протянула руку, легонько подергала за цепочку. Маргот приподняла с муфты круглое лицо в капельках пота, глянула на сестру и снова уткнулась в муфту. Коснувшись рукавом манто плеча шофера в черной кожаной куртке, Фели отодвинулась к дверце, зажала ладони меж коленей. Эрих — худой, с рыжей щетинкой усиков — сонно помаргивал, сигарета его потухла. Фели отвернулась. Вчера ночью она столкнулась с шофером в холодном коридоре гостиницы: он вышел из комнаты матери, закурил сигарету, подбросил зажигалку на ладони — и увидел Фели… — Не спится девочке? — сказал он. Протянул руку, хотел погладить Фели по светлым волосам, но она дернула головой, стукнулась затылком о дверь. — Ну, ну, куколка… С таким личиком киснуть? В Берлине заживем веселее, черт с ним, с Оберхофом! Надо стать, синие глазки, спать, спать, встанем рано, надо спать, Фельхен… Эрих качнулся. Он был пьян. Фели вернулась в комнату, тихо легла рядом с Маргот, прижала ладони к горлу… Маргот, сонная, обняла ее, но Фели, вздрогнув, сбросила горячую руку сестры. «Недотрога…» — пробормотала Маргот, чмокнула сестру в волосы и повернулась на бок. Фели отстранилась от нее, смотрела, как медленно проплывает светлая полоска по обоям, справа налево, справа налево… Это в щель меж штор пробивался свет фар автомашин, идущих по улице деревни. Полоски света проплывали все чаще… Такая же полоска света падала на снег, на еще чистый декабрьский снег, когда Фели шла к крыльцу дома; свет шел из окна комнаты Маргот на втором этаже, нельзя было так небрежно задергивать шторы… Фели прошла по пустому, тихому дому, возле двери в комнату сестры остановилась; мальчишеский приглушенный голос за дверью говорил одно слово — «сладкая» все быстрее, все громче… Фели знала, что к Маргот пришел два часа назад ее одноклассник, Герберт фон Штейнбах, но она никогда не могла подумать, что этот долговязый четырнадцатилетний тихоня мог говорить слово «сладкая» таким пугавшим все больше Фели голосом… «О-о… Герберт…» — сестра не сказала это имя, она выдавила его с таким стоном, что Фели побежала по коридору, распахнула дверь своей комнаты, упала на диван, она плакала, не понимая, что плачет, ей было так плохо, как никогда за все шестнадцать лег, прожитых ею в родовом доме фон Оберхофов… С того вечера Фели боялась смотреть на сестру… А утром Маргот сказала ей, придя из ванны: «Тебя хочет видеть Вилли, ты знаешь, он приехал к фон Штейнбахам. Ты помнишь его? Знаешь, такой красивый парень, прима!» Фели сказала: «Нет». Сестра усмехнулась… Расчесывая волосы, такие же длинные и светлые, как у старшей сестры, сказала: «Попадешь к иванам, будешь веселиться, милочка…» И вот теперь, в этой холодной деревенской гостинице, мама и Эрих… Фели проплакала остаток ночи, а утром боялась посмотреть в лицо матери — оно было непонятно, обидно красивым… — Фельхен, достаньте мне сигарету, — сказал Эрих, выплюнув окурок в приспущенное стекло дверцы. Еще вчера он доставал сигареты сам, несколько пачек их лежало в багажничке напротив Фели. Девушка не шевельнулась. — Не выспались, Фельхен? Эрих покосился на соседку. Никогда раньше он не осмеливался называть старшую дочь хозяйки поместья Оберхоф так фамильярно… Но сейчас Эриху не было дела до переживаний красивой девчонки — вон как жалко подрагивает ее пухленькая губка… Рот у нее — мамин (Эрих усмехнулся). Совсем девчонка раскисла… Неужели настолько наивна, что до сегодняшней встречи в коридоре не знала о… Портрет полковника фон Оберхофа стоял на маленьком мраморном камине в спальне Эльзы, она поставила портрет на другой день после того, как старый семейный друг генерал Венк сообщил о печальной судьбе полковника, попавшего к иванам в плен… А, к черту полковника! Эльза сама пришла ко мне, сама, разве я посмел бы прийти к ней и… Портрет полковника стоял на камине, и Эльза всегда повертывала его лицом к стене, когда я сидел в кресле и курил последнюю сигарету… И потом я снова садился в кресло и курил, а Эльза плакала, вздрагивая белой спиной. У нее очень белая спина… Отличная спина у Эльзы… Фельхен тоже славненькой бабенкой будет… Все-таки она достанет мне сигарету… Да, девочка, тебе пора повзрослеть и найти себе мужчину, который будет любоваться твоей белой спинкой, хе-хе… Все летит к чертям, все рассыпается, как стекло под колесом грузовика, всему конец, а мертвые не могут видеть белых бабьих спин… Фели открыла крышку багажничка, тряхнула оранжевую коробочку, взяла сигарету, протянула Эриху. Она не сняла перчатки, и Эрих усмехнулся: хоть этим, но девчонка мстила ему, глупенькая… Еще четыре пачки сигарет лежали на толстой растрепанной книге в коричневом переплете. — Колоссальная штука, полистайте, — сказал Эрих. Фели вздохнула, положила книгу на колени. Это был второй том «Приключений Казановы» — иллюстрированное издание для фронтовиков… На первой цветной вклейке красавец Казанова, в голубом камзоле, с длинной шпагой на алой перевязи, целовал плечо нагой красавицы, которая пыталась вытянуть из-под ботфорта Казановы кружевной пеньюар… Фели бросила книгу в багажничек, не видела, но чувствовала, что Эрих улыбается. Хотелось выскочить из опостылевшей машины, бежать прочь от унылой дороги, не видеть красивого лица матери, прищуренных глаз сестры, бежать — все равно куда… Розовая полоска неба над горизонтом стала багровой. Казалось, машина мчится по каналу с темной водой — давно бы должна провалиться в глубь этой темноты, в небытие… Посыпались рыхлые снежинки, медленно таяли на переднем стекле. Лохматая ворона испуганно дернула крылом, сорвалась с желтой деревянной стрелы — указателя направления, пропала над лесом. Эрих включил фары, темные стены сосен словно подскочили к дороге — попробуй выйди в ужас тьмы… Фели закрыла глаза… Не хочу, не хочу видеть эту тьму… Мама ударила хлыстом по картине, еще, еще ударила, и холст лопнул, на лице дедушки Альфреда провалился лоб, и еще мама ударила… Картина упала ей под ноги, а мама все хлестала по холсту, и Эрих закричал: «Перестань, Эльза, проклятье! Он не виноват, что сыновья струсили!..» Да, он назвал маму просто «Эльза», просто назвал ее по имени, и я только сейчас поняла, почему он посмел… Эрих обхватил маму, она билась в его руках. Маргот заплакала, схватила подсвечник с камина и… господи, звон разбитого зеркала словно отрезвил всех… Мама крикнула: «Уходите!.. Уходите… бога ради, дайте мне побыть одной… уходите…» Эрих взял Маргот за руку, я пошла за ними к машине… Дом был совсем пуст. Грузовик увез вещи еще ночью. Я увидела Ферапонта, он стоял у машины, в руке у него был конец веревки, Ферапонт завязывал петлю, по давно не бритому лицу я поняла, что он не злорадствует, нет, он просто старался получше увязать наши чемоданы на крыше машины… да, да, заботился он, Ферапонт, чтобы сделать все хорошо, и это было понятно по его лицу. Он совсем замерз, такой был холод в тот день, а куртка, совсем рваная, в которой Эрих привел его из лагеря русских, была распахнута… Господи, почему Ферапонт так посмотрел на меня, когда я дала ему десять марок?.. У меня больше не было, я случайно нашла в сумочке эти десять марок, когда доставала платок… Мы делали что-то очень плохое, если старый русский жалел нас, он смотрел на нас, как на очень несчастных людей, и он не радовался нашему несчастью, он снял свою рваную солдатскую шапку, и тут Эрих ударил его ногой в живот, старик упал на снег… Он приподнялся на коленях, потом сел, Эрих уже разворачивал машину в трех шагах от старика, и я… Господи, ведь я тогда вспомнила… Да, мы с папой вышли из посольства вечером, в декабре сорокового года, да, в декабре… Мы гуляли с папой по Москве, и тот старый москвич, что шел впереди нас, поскользнулся на тротуаре, на полоске льда, которую накатали мальчишки у витрины магазина, упал на бок, его шапка откатилась лапе под ноги… «Ну, оказия», — сказал старик, поднимаясь, я подхватила шапку, подала ему, он сказал, отряхивая от снега черное длинное пальто: «Спасибо, беленькая…» Нам с папой почему-то стало весело, мы пошли в кино «Метрополь», купили билеты у толстенького мальчишки в голубом кашне… Папа мог бы достать билеты у администратора, но купить их у мальчишки было интереснее. Я никогда не смогу теперь ходить по Москве, никогда. И папа… Мы делали что-то очень плохое, мы делали что-то отвратительное, ведь делали же, делали, все немцы делали что-то плохое, Ферапонт не должен был падать на снег от удара этого Эриха, он не должен был… Я знаю, папе не нравилось, что делали солдаты в России, я знаю… Он приезжал в отпуск два раза, но не привозил подарков… А к фон Штейнбахам пришел грузовик из-под Смоленска, наверное, целый магазин «организовали» два майора фон Штейнбаха и генерал-лейтенант фон Штейнбах… Они воры, эти фон Штейнбахи. «Организовать» — это слово заменило слово «украсть», да, да, немцы воровали и грабили там, в России, папа не хотел рассказывать о России, он бродил по парку и молчал… Если б я могла сейчас уснуть! Разве я могу сейчас спать, как мама? Или Маргот? Какая тьма. Над Германией тьма. Мы делали что-то плохое… И тьма. А в Москве, наверное, горят огни… конечно, горят, ведь русские уже в Германии. А у нас тьма. Старуха тогда плюнула на плакат. Прямо на лицо старого немца в кепке, на рукаве которого была нарисована повязка «фольксштурм». На стене углового дома был плакат, и старуха плюнула. А два мальчика с такими повязками на левых рукавах, один в шинели, второй в серой куртке… Сыновья? Конечно, у того, что был в куртке, такие же, как у старухи, синие глаза… да, да, сыновья… И старуха заплакала, у нее были синие глаза, как у того, младшего, и она заплакала, мальчики обняли ее, и у младшего тряслась голова под тяжелой каской… Потом они побежали, мальчики, по Грюнштрассе, они пробежали мимо меня, и у младшего было мокрое лицо. Они, наверное, опаздывали на сборный пункт фольксштурмовцев, бежали рядом, совсем рядом, плечом к плечу… Мы все делали что-то очень плохое… Тот старик, у которого Эрих купил вчера две канистры бензина, сказал, что из Восточной Пруссии удирает полмиллиона немцев, он так и сказал — удирает. Полмиллиона… Нас четверо. Мама, Маргот, я. И этот подлец Эрих. Четверо. Мы тоже в этом полумиллионе… Мы все делали что-то очень плохое, немцы… Далеко впереди засветился узенький лучик, как иглой, проткнул сумрак и через минуту растаял в желтом свете фар. Эрих покосился на Фели, она была старшей, когда спала фрау фон Оберхоф. — Да, да, остановите, Эрих. Уже десятки раз патрули фельджандармов или эсэсманов останавливали машину, небритые, злые, небрежно просматривали паспорта (почтительно улыбаясь, подавал их Эрих — они лежали в багажничке). Откозыряв, патрули ухмылялись. С треском захлопывали дверцы «паккарда». — Следуйте! Фрау фон Оберхоф возмущалась: — Конечно, иваны будут наступать, если даже эсэсманы пьянствуют! Боже, что будет с нами? Фельхен, почему ты сияла вуальку? Эти скоты так смотрят… Взвизгнули тормоза. Эрих шепотом чертыхнулся. Человек с фонарем в руке был или пьян, или не из робких — стоял посредине шоссе… В слабом, свете подфарников (Эрих выключил фары) Фели увидела высокую фигуру в офицерской шинели. Опять патрульный офицер начнет придирчиво копаться в паспортах, спрашивать, сколько лет Фели и Маргот, и скажет, что они молодо выглядят для шестнадцати и четырнадцати лет… Это была стандартная шуточка у доброй половины патрулей, что встречались фон Оберхофам от самого Кенигсберга. Человек медленно подошел к левой передней дверце «паккарда», наклонился к приспущенному стеклу, глянул на Эриха. — Хайль Гитлер, — сказал обер-лейтенант простуженным голосом. — Хайль Гитлер, — сказал Эрих. — Вы в Данциг, господа? — Пытаемся, — усмехнулся Эрих. — Почему — пытаетесь? — Обер-лейтенант дрогнул темными бровями. Он был совсем молод, этот высокий офицер с новенькими погонами… — В наше время, господин обер-лейтенант… — Пригласите меня в машину, и мы доберемся даже до ворот рая. Фрау фон Оберхоф шевельнулась: — Господин обер-лейтенант, вы окажете нам честь… — Благодарю. — Эрих, откиньте сиденье. Фельхен, перейди к нам. — Нет, нет, я старый солдат, удобств мне не требуется, — улыбнулся обер-лейтенант, но Фели уже вышла из машины, мать открыла ей заднюю дверцу. Обер-лейтенант сел рядом с Эрихом, оглянулся, поправил фуражку. — Слава богу, что фюрер освободил нас от химеры, которая называется совестью. Фроляйн, вы не можете на меня сердиться. — Я не сержусь, — сказала Фели. — О, господин обер-лейтенант, вы будете нашим ангелом-хранителем, — сказала фрау фон Оберхоф. — Обещаю выполнять эти обязанности до последнего дыхания. Позвольте представиться ангелу-хранителю? Обер-лейтенант граф Толмачев, офицер для поручений при шефе пятой камеры министерства пропаганды докторе Циммермане к вашим услугам до самых ворот рая. — О, вы из Берлина, господин… простите, но ваша фамилия… — проговорила чуточку смущенно фрау фон Оберхоф. — Владимир Толмачев. Несчастный беглец из России, которого обижать — большой грех. — О, граф, это исключено. Вас послал нам сам господь. Ангелы всегда являются с вечерней зарей. — Русские ангелы действуют круглые сутки. Все засмеялись. — Знаете, граф, а ведь я была в Москве, да, да, — сказала фрау фон Оберхоф. — Мой муж, полковник фон Оберхоф, был помощником военного атташе. Я очень хорошо помню Москву… — Я не люблю вспоминать о Москве. Я точно знаю, что дорога в рай не идет через этот город. — Где же она идет, господин обер-лейтенант? — сказала Маргот. — Через дверь в спальню фрау рейхсминистр Магды Геббельс. Эрих захохотал. — Эрих! — сейчас же сказала фрау фон Оберхоф. — Но я должен уточнить, — сказал обер-лейтенант, — Дверь в рай для каждого — своя. Боюсь, что в раю не хватит дверей для всех немцев, господь бог разочаровался в своем любимом народе, и сейчас десяток батальонов ангелов мобилизован для заколачивания дверей. Но красивым девушкам бояться, думаю, не стоит… Маргот засмеялась. — Еду в Данциг выбирать невесту, — сказал обер-лейтенант, — сейчас самое благоприятное время, когда богатые блондинки жаждут найти попутчика посмелее для путешествия в рай… — А как же фрау рейхсминистр? — спросила Маргот. — Но доктор Йозеф Геббельс еще жив, — засмеялся обер-лейтенант. — Как там Берлин, господин обер-лейтенант? Бомбят? — спросил Эрих. — Не задавайте нелояльных вопросов, мой друг, — сказал обер-лейтенант без особой резкости, но Эрих примолк. Фрау фон Оберхоф довольно улыбнулась. Этот русский граф, безусловно, великолепный молодой человек… Правда, он немного рискованно пошучивает в присутствии двух молодых девушек, но, господи мой, разве фронтовая уверенность тона, эта милая грубоватость настоящего солдата не служат в наши дни самой лучшей аттестацией для немецкого военного человека? Ведь это просто означает, что он верит в добрые дни, которые придут к нам, верит, что мы еще увидим нашу победу, да, да, этот русский граф — чудесный молодой человек, я сразу увидела, что он из хорошего общества, этот… а, Тольматшев… Два огонька вспыхнули впереди. Они покачивались по дуге. — Патруль, — пробормотал Эрих раздраженно. — Так мы никогда не доедем, проклятье… — Не извольте забываться, — сказала фрау фон Оберхоф. Машина, качнувшись на выбоине в асфальте, остановилась. В свете подфарников забелела тонкая свежеоструганная жердь шлагбаума. Четверо фигур приближались к машине. Стволы их автоматов смотрели в переднее стекло. — Дорожный пост фольксштурма! — сказал, наклоняясь к шоферу, высокий фольксштурмовец в кожаной куртке и посветил фонариком внутрь машины. — Ну и что, мальчик? — сказал Эрих. — Дать тебе шоколадку? Худенькое остроносое лицо фольксштурмовца дрогнуло. — Молчать! — выпрямляясь, закричал он, и трое остальных патрульных испуганно вскинули автоматы. — Вон из машины, ты!.. — Сидите, любезный, — сказал обер-лейтенант, распахнул дверцу и легко выпрыгнул на асфальт. Свет фонаря упал на него. — Господин обер-лейтенант… о! — торопливо сказал старший патрульный, отступая на шаг. — Кругом, — негромко сказал обер-лейтенант. — Пять шагов — марш! Старший патрульный, покачнувшись, повернулся, простучал сапогами по мерзлому асфальту. — Кругом! — Обер-лейтенант достал портсигар, вспыхнул огонек зажигалки. — Постройте вашу дивизию, вы! — Слушаюсь, господин обер-лейтенант! Пост, становись! Мальчишки подбежали к старшему, стали в шеренгу левее его. — Пост, смирно! — совсем упавшим голосом скомандовал старший и сделал шаг вперед. — Вы думаете, мой дорогой, они стоят смирно? — сказал обер-лейтенант. — Они уткнули носы в землю, ваши вояки! Они распустили животы! А локти, локти! Поднять локти! Ладони должны впиться в швы ваших мокрых штанов! Это солдатская стойка?.. Выше подбородки! Вы что — несете службу фюреру или идете пить лимонад? — Господин обер… — Попрошу молчать. Я нарушаю устав, делаю вам замечание в присутствии подчиненных. Но вы не командир. Вы штатский колпак, понятно? — Так точно, господин обер-лейтенант! — Вы не подошли к машине, а подползли к ней, как старая штатская калоша. Я не слышал ваших каблуков. Вы не приветствовали пассажиров. Вы что — забыли имя фюрера? Я набил бы вам морду, но в машине дамы… Обер-лейтенант медленно подошел к шеренге. Мальчишки задрали подбородки так, что белели их тонкие длинные шеи. — Номер автомата, быстро! — ткнул он сигаретой в грудь мальчишки, стоявшего на левом фланге. Тот молча переступил сапогами, каска его дрогнула. — Они защищают дело фюрера! Штаны у вас еще сухие? Не дрожите, вы! Благодарите бога, что в машине дамы… Обер-лейтенант отбросил сигарету. — Прочь с дороги! Мальчишки сорвались с места, затопали коваными подошвами солдатских сапог к кювету… — О, господи… Отставить! Старший патруля!.. Почему ваша банда разбежалась без вашей команды?! Я командовал вам, вам, а не этим мерзавцам! Построить!.. — Пост… — хрипло пробормотал старший, оглянулся. — Пост… У него пропал голос. Трое его подчиненных сбежали в лес. — Поднимите шлагбаум, — сказал обер-лейтенант и засмеялся, пошел к машине.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
00.08. 19 апреля 1945
КОМАНДАРМ
А ведь Рокоссовскому… Рокоссовскому сейчас тяжелее, чем мне… конечно, конечно, как я сразу не понял? Ему же тяжелее, это так ясно! Если фронт провалит операцию… если мы захлебнемся кровью на проклятом Одере… Константину Константиновичу пала на плечи неизмеримая тяжесть… Ему труднее, чем мне… — Тихо-то как… Разбежались все штабники от моего блиндажа… Не спят, наверное… Разве они могут сейчас спать? Больше всего на свете они хотят услышать от маршала «да». Я хочу — и они хотят. Вся Седьмая ударная хочет, вся…ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
Гвардии старший лейтенант Горбатов вернулся от командира полка гвардии подполковника Афанасьева только к ужину. У крыльца особняка дал рвань связному от второго взвода Федьке Малыгину. — Почему наушники опущены? На улице восемь градусов морозу. А по уставу когда разрешено опускать? — Не могу знать, товарищ гвардии старший лейтенант! — Эх, служба малиновая… С пятнадцати. Поднять! — Слушаюсь! На веранду с разбитыми стеклами ротный поднялся, по грязному паркету прошагал длинными ногами к двери, открыл — и Борзова увидел. Сидел Борзов на корточках перед кафельной печкой и бросал в раскрытую чугунную дверцу какие-то бумажки… — Ты чего… Николаич? Борзов голову повернул, на ротного глянул, ничего не сказал. Понял Горбатов: то матери Юрки Ковшова письма горят. Берег, видно, письма Юрка, в вещмешке таскал всю дорогу… Горбатов потоптался, потом сел в кожаное кресло. — Опять выпил, Борзов… Будет. — Чего это — будет? Я от службы не бегаю. — Я сказал — будет. Второй день шнапс тянешь. Будет. — Чего ты на меня орешь, Кузьмич, а? Ежели я тебе ординарец, так ты на меня и… — Прекрати, Борзов. — Чего — прекрати?.. Борзо-о-ов!.. Когда я тебя, черта конопатого, из болота на горбу пер… а?.. Ты «Коля» меня звал, а? Коля, брось, да, Коля, брось… А Коля тебя бросил, а? Борзо-ов! Я заслужил у тебя, чтоб… Борзо-ов! Ты со мной… это… вежливо должен! Борзо-ов… Думаешь, я серый? Не-е-ет, Венер Кузьмич… Мне положено — человечий разговор, по-ло-же-но, понял? Я на тыщу годов всякие истории… это… повернул… куда следоват! Понял? Я — русский солдат, а история, стерва, меня слушает… как все одно я тебя слушаю, ежели в траншее мы… Борзо-о-ов! Да, Борзов — русский солдат, понял? Нас немец бил, сволочь? Позорил он нас, немец, а?.. Было. Все было. Так. А где теперь немец? А где теперь Борзов? Во-от. Точка. Россию все народы должны по-честному… все эти народы должны памятники!.. На всех этих плацах, понял? Чистого мрамору… Золота не пожалеть! Законно! А ты мне — Бо-орзо-о-ов. Эх, ротный… Юркины письма палить… а душа у меня? Юрка Лисин без ног домой поехал, Ковшова я тоже не сберег… Березницкого Вечку схоронили… Альку схоронили, девчоночку… В бога мать! Из чистого золоту должны нашему брату памятники!.. Европа!.. Без русского мужика кишки б им выпустил Гитлерюга… слабакам буржуйским! Кофе дуют, салфе-еточки под тарелочку… культу-ура! А против Гитлерюги… Из мрамора чтоб ставили памятники, из золота, понял? За Россию сто лет молиться им, слабакам!.. — К ордену тебя, Николаич, батальонный представил, на «Славу». Две уж «Славы» заработал, а? — сказал Горбатов, кашлянул. — Глядишь, до третьей звезды дотелепаешь потихоньку. Ты уж того, Коля, закругляй поминки-то… Борзов прикрыл дверцу печки. — Сто граммов и… делов-то было, а ты… Борзо-ов… — Будет, Коля. — Слушаюсь. Перед ужином… похмелюсь — и шабаш. Я понимаю.13
Человек в Москве читал:«Подтверждаю уточненные данные по общим принципам системы укреплений на Восточном фронте. Старшие командиры фронта требовали от Гитлера приказа на устройство за первой полосой обороны (ХКЛ — хаупткампфлиние) второй полосы (гросскампфлиние) — примерно в двадцати километрах от переднего края. Выдвигалась также просьба получить инструкции по обороне, предусматривающие право командиров дивизий отводить основные силы на вторую полосу обороны, оставляя лишь небольшие силы прикрытия и тем самым выводя основные силы из-под огневого воздействия нашего артиллерийского наступления и воздействия авиации. Однако Гитлер запретил отвод войск, приказав создавать главную линию сопротивления всего в двух — четырех километрах от переднего края обороны. Считаю, что успех нашего наступления во многом зависит от планирования артиллерийского огня высокой плотности именно на первые километры глубины обороны немцев. На совещании у Гитлера после последних неудач на Востоке он потребовал стенограмму осеннего совещания по вопросам строительства оборонительных линий, утверждая, что он всегда предлагал строить вторую линию обороны в двадцати километрах от первой. Гитлер сказал: «Какой дурак мог предложить такую ерунду?» — подразумевая действующий приказ о двух — четырех километрах удаления. После начала чтения стенограммы Гитлер приказал прекратить чтение по понятным мотивам — это было самообличение. Коробов прислал с пути девять сообщений. Суть их — в районе Данцига и Гдыни большая группировка войск. Делает вывод, что ставка Гитлера планирует удар крупными силами во фланг наших армий, выходящих к Одеру. Считает ситуацию опасной. Развернуто строительство полевых укреплений, траншей, дотов, минных полей в Данцигском районе и возле Гдыни. Идет быстрое формирование новых частей из остатков отошедших к Данцигу разгромленных в Польше дивизий и бригад. Номера частей Коробов сможет сообщить, вернувшись в Берлин. Ускорьте переброску радиста, три действующие рации не справляются с объемом информации. Привет!Циммерман».
«Предложение руководства об оставлении поста и отъезде в Швейцарию категорически отклоняю. Потерять такой источник информации, как наша группа, в нынешней обстановке недопустимо. Я нужен своей второй Родине — и это самая большая награда для меня лично, как немца и коммуниста. Жму руки дорогих товарищей!Циммерман».
14
— Ты косая, косая, косая! — кричит Вовка, и Эми бьет его по голове черепахой. Черепахой Брунгильдой. Вовка падает на теплый песок, в тень от невысоких зеленых сосенок. Он смотрит на Эми и видит, что у Эми совсем не косит правый глаз, у нее такие красивые голубые глаза, она щурит их от дымка сигареты, она же совсем маленькая, она не может курить, почему же она сейчас… Вовка берет с песка черепаху Брунгильду и смотрит на свои коротенькие загорелые ноги. Он смеется — как же такими ногами идти по песку? Нет, это же не песок, это черное, и снег, лужи тающего снега на этом черном, и так холодно маленьким босым ногам… — Господин обер-лейтенант, господин обер-лейтенант… Эрих потрогал соседа за плечо. — Я не сплю, — проговорил, кашлянув, обер-лейтенант, поправил фуражку. Через переднее стекло «паккарда» в пятнах сырого снега обер-лейтенанту был виден в нескольких шагах впереди силуэт самоходного орудия, перегородивший дорогу. Тенями бродили возле машины какие-то люди, где-то рядом плакал ребенок, голос старика крикнул: «Ганс, я здесь, я здесь, мальчик!» Повозка, запряженная двумя лошадьми, разворачивалась перед радиатором «паккарда», лошадей вела под уздцы женщина в светлой шубке. — Штатских не пропускают, — сказал Эрих. — Я ходил, там застава моряков, эти сволочи избили старика. — Господин обер-лейтенант, что же с нами будет, боже мой? — проговорила фрау фон Оберхоф шепотом. — Иваны уложат вас всех в постель, только и всего, — сказал Эрих. — Помолчите, — сказал обер-лейтенант. Он вылез из машины. Теперь ему было видно, что дорога впереди, до крайних домов деревни, — толчея машин, повозок, тележек, велосипедов. В сероватой мгле над крышами деревне вспыхивали и гасли отсветы сильных фар, — видимо, за деревней шла танковая колонна… Обер-лейтенант вздохнул. — Это малый сабантуй, — пробормотал он по-русски, поднял к глазам ручные часы. Было девять минут после полуночи. Обер-лейтенант подошел к самоходному орудию. Из-под брезента, натянутого поверх бортов, доносилось полусонное бормотание трех мужских голосов. — В машине! — стукнул обер-лейтенант кулаком по бронированной дверце. — Старший, ко мне! Дверца приоткрылась. Опухшее, в трехдневной щетине лицо уставилось на обер-лейтенанта. — Фельдфебель Мачке, господин обер-лейтенант! — привычно выставляя подбородок, сказал самоходчик. — Какого дьявола вы тут торчите, фельдфебель? — Приказано перекрыть шоссе, господин обер-лейтенант! Штатские ублюдки не дают пройти нашей дивизии, лезут хуже саранчи. — Какие новости, фельдфебель? У вас есть рация? Дайте-ка мне огоньку… — Обер-лейтенант щелкнул портсигаром, протянул его фельдфебелю, тот с готовностью взял сигарету. — Благодарю, господин обер-лейтенант, — сказал польщенный дружелюбием офицера самоходчик, повозился, достал зажигалку. — Новости не из приятных, господин обер-лейтенант. — Выкладывайте, мы же с вами старые фронтовые псы, дружище Мачке, — усмехнулся обер-лейтенант. — Берлин еще не у иванов, надеюсь? — Будь я проклят, если иваны увидят Берлин, будь я проклят, господин обер-лейтенант! — Ну, ну, спокойнее, дружище… Так что веселенького сообщали в ночной сводке? — Паршивые дела, господин обер-лейтенант. Мы из-под Эльбинга. Сплошное свинство! Иваны ворвались на танках прямо в город, шпарят по центральным улицам, включили фары и давай лупить этих тыловых крыс из пушек и пулеметов, представляете?! Трамваи ходили, киношки работали, шлюхи табунами по тротуарам — и вдруг… а, представляете? Эти наглецы иваны проперлись до самого залива! — Что-о? Они вышли на Балтику?! — Да, иваны уже на берегу залива Фришес-Хафф, будь они прокляты… — Так какого же дьявола вы тут загородили дорогу, болван! Фельдфебель выплюнул сигарету, стал торопливо застегивать ремешок каски. — Господин обер-лейтенант, мне приказано… — Я уже знаю, что вам приказано. Я — на машине. Пропустите меня — и я постараюсь забыть, что у вас длинный язык паникера… Вы меня поняли, Мачке? — Слушаюсь, господин обер-лейтенант! — Фельдфебель оглянулся, закричал: — Генрих, свинья! Заводи! Сдай назад на пять метров, здесь машина господина обер-лейтенанта! Ну, живо! Струя теплых газов ударила обер-лейтенанту в лицо… — Малый сабантуй, — сказал обер-лейтенант, зашагал к «паккарду». — Эрих, поехали. — Боже мой… — сказала фрау фон Оберхоф. Обогнув самоходку, «паккард» проехал по шоссе до крайнего двухэтажного дома деревни и остановился. На асфальте лежало шесть трупов в шинелях пехотинцев… — Это… это дезертиров… так… — пробормотал Эрих. Фрау фон Оберхоф заплакала. Цокая сапогами по асфальту, к машине подошли трое — в черных шинелях моряков. Обер-лейтенант открыл дверцу. — В чем дело, парни? — Господин обер-лейтенант, проезд запрещен, — сказал высокий матрос с нашивкой на левом рукаве шинели. — Приказано задерживать всех, кто удирает. — Меня это не касается, я не удираю. Я вижу, вам чертовски понравилось истреблять гренадеров фюрера, а, моряки? Кто у вас здесь старший? — Начальник заставы лейтенант фон Бок в ресторане, господин обер-лейтенант. — Недурной командный пункт. А пиво там есть? Моряки засмеялись, щелкнули каблуками. — Так точно, господин обер-лейтенант! — Самое главное в солдатской службе — пропустить пару кружек пива перед сном, — сказал обер-лейтенант, вылезая из машины. — Проведите меня к вашему адмиралу. Матрос с нашивкой шел впереди обер-лейтенанта. В неожиданно просторном и теплом зале ресторана толпились моряки, сидели за столиками, пили пиво из высоких граненых кружек, у самого входа стоял крупнокалиберный пулемет. В дальнем углу, под портретом фельдмаршала Гинденбурга, сидел за столиком молоденький лейтенант в расстегнутой черной шинели, в фуражке, из-под которой свисали к вискам белокурые косицы потных волос. Он пощелкивал пальцем по кружке пива. Обер-лейтенант остановился перед столиком в трех шагах, молча смотрел на потное лицо моряка… Чутьем, которое его никогда не обманывало, он понимал, что дрогнуть сейчас перед этим мальчишкой с потным лицом, показать свою зависимость от него, значит — проиграть… Лейтенант выдержал взгляд обер-лейтенанта секунды четыре… Он медленно встал. — Хайль Гитлер! — Правая рука лейтенанта вяло приподнялась на уровень плеча. — Э, вы совсем спите, мой дорогой, — сказал обер-лейтенант. — Ваши парни мне похвастались, что вы уже отправили к праотцам две дивизии вермахта, принялись за третью. А?.. Недурное занятие для моряка. Садитесь, лейтенант фон Бок, я вижу, вам трудно стоять после шести кружек… виноват, семи кружек пива… Обер-лейтенант небрежно отодвинул стул от стола, сел. — Садитесь, фон Бок… Приедете ко мне в Берлин, угощу коньяком. Я вижу, вы любите пиво. А красивых блондинок любите? В машине у меня — три блондинки. Маленькая просьба к морякам от сухопутных сил — реквизировать блондинок, но оставить мне машину и шофера. Ну, лейтенант? Да садитесь же… Лейтенант сел, поправил фуражку. Только три недели назад ему вручили офицерский кортик, и вот сейчас этот наглец, этот проклятый пехотинец в такой щегольской шинели высмеял его перед подчиненными. Нет, этот обер-лейтенант — не из рядовых замухрышек… Берлинский вояка, штабная крыса… А что, если приказать ему предъявить документы?.. Нет, связываться с этим надменным обер-лейтенантом… нет, это будет глупо, глупо нарваться на новые насмешки, ведь по всему видно, что обер-лейтенант плевать хотел на все заградительные отряды, такие берлинские щеголи ни дьявола не боятся, у них такие шефы, что… — Хорошо, господин обер-лейтенант, — хрипло сказал фон Бок. — Вы чертовски покладистый парень, лейтенант. Договорились — вам блондинок, мне — машину. Прикажите своим парням провести эту операцию, а я пойду погуляю на свежем воздухе. Лейтенант, криво улыбаясь, взглядом поискал кого-то в шумной толпе моряков. — Госбах! Ко мне!15
— Господин обер-лейтенант, вы не пожалеете, что взяли меня, — сказал Эрих. — Поживем — увидим. — Господин обер-лейтенант, после Данцига вы… — После Данцига будет видно. — Да, да, конечно, господин обер-лейтенант… Эрих искоса поглядывал на обер-лейтенанта — тот подремывал, но сидел прямо… С таким парнем не пропадешь, черт побери! Наверняка он договорился с этими моряками, которые выставили из машины Эльзу и девчонок, наверняка он… Конечно, это его рук дело. Ну что же… этот русский граф боится своих земляков больше, чем я. Кажется, мы с ним благополучно унесем ноги, а?.. Жаль Эльзу, чистенькая бабенка, просто чистюля, но подыхать из-за нее в Сибири?.. Кажется, обер-лейтенант уснул… Эрих притормозил, вытянул из-под себя байковое одеяло и укрыл ноги обер-лейтенанта. — Железный крест второй степени — за мной, — сказал обер-лейтенант, не открывая глаз. Эрих засмеялся. — До Данцига не будить, — сказал обер-лейтенант.16
Как я сказал тогда? Позарастали стежки-дорожки, где проходили офицерские ножки… Дорожки зарастают травой, зеленой травой… Сейчас, наверное, в коридоре седьмой батареи тихо, дремлют дневальные… Все на занятиях… Может, в поле, в урочище Волчьи ворота… Тема: «Действия передового разъезда батареи во встречном бою»… А дневальные, счастливчики, дремлют в коридоре… На окне веранды, на том, что против ружейной пирамиды нашего взвода, нет, уже другого взвода… мои приятели по семьсот сорок третьему взводу уже давно воюют, может, и здесь, у маршала Рокоссовского… На окне веранды можно прочитать: «Владимир Коробов. 19 февраля 1943 года». А может, давно закрасили эти нацарапанные на стекле надписи?.. Сергей Листвин нацарапал свою фамилию выше моей, а правее — этот новичок из семьсот сорок четвертого… как его? А, Марков, Севка Марков, горьковский парнишка… Я уходил под арку, а Сергей и ребята смотрели мне вслед… Девятого августа сорок третьего… Если б можно было вернуться… вернулся бы я? Через восемь дней я сидел в кожаном кресле, Сергей Сергеевич ходил чуть прихрамывая, потом вошла седая женщина, молча положила на стол какую-то папку, вышла. А я говорил, говорил… Разве не наивно я тогда сказал, что для моего решения толчком была фраза, которую я услышал по радио, в лагере училища?.. Румынские оккупанты вывезли в Бухарест труппу Одесского оперного театра. Я сидел за столом рядом с Эдиком Айрапетовым, он только что простился с сестрой Сильвой, проводил ее на фронт, куда-то под Ленинград… Мы пили компот из жестяных банок американских консервов, старшина Миша Цыганок сидел напротив меня, у него было очень загорелое лицо, почему-то я подумал, что Миша похож на румына… Я сказал Сергею Сергеевичу, что в театре была моя тетка, Лидия Федоровна, прима-балерина, она не успела эвакуироваться в сорок первом и вполне могла попасть в Бухарест… Я сказал, что знаю немецкий, с детства знаю, что я — прямой потомок графа Толмачева, одесского градоначальника, матерого черносотенца, моя мама Анна Евстафьевна — его внучка, моего отца, чекиста, участника гражданской войны, из-за этого в тридцать четвертом году едва не исключили из партии, но за отца поручился сам товарищ Куйбышев, у которого отец когда-то работал в оперативной группе… Я сказал, что могу сыграть роль обиженного молодого человека, честолюбца, русского дворянина, которому есть резон перейти на сторону немцев. Ведь у графов Толмачевых были когда-то богатые поместья под Одессой. Для начала я мог бы перейти линию фронта и попытаться найти в Бухаресте тетку, а там — выполнить любое задание, которое мне доверят… Я смотрел в лицо Сергея Сергеевича и видел, что мои слова — глупость, глупость, дикий бред пустого мечтателя о подвигах, я готов был провалиться через все этажи огромного дома, врезаться головой в асфальт, только бы не видеть усмешки на лице Сергея Сергеевича. Я замолчал. Сергей Сергеевич глянул на меня, подошел к своему столу, сел на краешек… Тогда вошел майор Рыжов?.. Да, да, Сергей Сергеевич только присел, и вошел майор… «Не помешаю?» — сказал он, улыбнувшись. «Да нет, мы с артиллеристом уже закругляемся, — сказал Сергей Сергеевич, и я чуть не заплакал от стыда и… и от злости. — Вот молодой человек говорит, что знает немецкий…» Майор подошел к столу. На нем была отутюженная гимнастерка с двумя орденами Ленина над левым карманом. «Ну, зачем же так волноваться, друг мой?» — сказал майор по-немецки. «Я не волнуюсь, товарищ майор», — сказал я, очень быстро сказал, и майор переглянулся с Сергеем Сергеевичем. «Значит, не волнуешься?» — сказал, улыбнувшись, Сергей Сергеевич тоже по-немецки. Он смотрел на меня, и у него было совсем другое выражение лица, чем несколько минут назад… «Вы где это так насобачились, артиллерист, а? — сказал майор. — Отличное произношение, типичный берлинский диалект». — «Возможно, — сказал я. — Это моя учительница виновата… Немочка из Бернау-бай-Берлин…» — «Немочка?..» — «Да, я еще мальчишкой… Эми, Эмма Циммерман… Из немецкой колонии, жили специалисты, отец дружил с отцом Эммы — Карлом Циммерманом…» У меня отлегло от души — все-таки теперь оставалась хоть капля надежды, что я пригожусь… Сергей Сергеевич смотрел на меня. И майор вдруг перестал улыбаться. «Циммерман?! Ты говоришь — Карл Циммерман?» — сказал Сергей Сергеевич. «Да», — сказал я почему-то тихо. «Ты знаешь что-нибудь о нем, Коробов?» Я сказал, что Циммерман уехал в Германию в тридцать четвертом году… Он уехал из Коврова в Германию. «Карл Циммерман сейчас чиновник пятой камеры в министерстве пропаганды доктора Йозефа Геббельса, вот какие дела, — сказал Сергей Сергеевич, слез со стола, заложил руки за спину. Он посматривал то на меня, то на майора Рыжова. Потом сказал майору: «Валентин, я думаю, Коробову надо денек-два отдохнуть с дороги, а? Бери его под свое шефство, организуй ему билеты в театр, словом — действуй». — «Слушаюсь», — сказал, улыбаясь, Рыжов. Сколько тогда дней бродил я по Москве? До субботы. В субботу Валентин разбудил меня в пять часов утра, я не успел даже заправить одеяло на койке в офицерской гостинице и жалел, что моя койка будет стоять такой неубранной до девяти часов, когда придет горничная… По лицу Рыжова, когда мы остановились у высокой двери кабинета, я понял, что за дверью нас ждет кто-то из самых важных людей в этом огромном доме… «Держись, Павлович», — сказал мне Валентин. Сергей Сергеевич стоял возле стола, а за столом сидел хозяин… «Похож ведь на батьку, а, Сергей Сергеевич?» — сказал, поднимаясь, хозяин и протянул мне руку. «Похож, Евгений Оскарович», — сказал Сергей Сергеевич, и я понял, что в те дни, пока я бродил по Москве, люди из огромного дома многое узнали о Коробовых… «Нуте-с, присаживайся, Владимир Павлович Коробов, граф Толмачев, — сказал хозяин и склонил к плечу бритую голову. — Разговор у нас будет не очень скучным… Давай поговорим по-солдатски, товарищ Коробов. Ты понимаешь, что мы за эти дни полную, так сказать, картину о курсанте Коробове получить не могли… Но главное — ясно. Ты, брат, хорошего отца сын. Да и мать твоя — человек добрый, славный… Подполковник Павел Васильевич Коробов в свое время работал у товарища Куйбышева, отлично работал. Товарищ Куйбышев, разумеется, самый отменный отзыв о работе оперативной группы по проверке… гм, одного важного завода какому-нибудь пустому человеку дать не мог, сам понимаешь… Да… И погиб твой отец, Володя, под Ростовом в сорок первом, как герой… Его дивизион бронепоездов большое дело тогда сделал под Ростовом… Евгений Оскарович помолчал. Потом глянул на Сергея Сергеевича. — Давай-ка, Сергей Сергеевич, прочти, пусть послушает… Сергей Сергеевич, все время почему-то стоявший возле стола, хотя рядом был тяжелый стул с кожаным черным сиденьем, взял с угла стола тоненькую папку, серую, с голубыми тесемками завязки, раскрыл ее, и я увидел несколько листов бумаги, на верхнем был напечатан машинописный текст — всего полстранички… Далеко держа в вытянутой правой руке этот лист, Сергей Сергеевич стал читать, неторопливо выговаривая каждое слово: — «На ваш запрос номер… — Сергей Сергеевич несколько мгновений помолчал, потом прочел: — …из опроса курсантов 743 взвода, а также офицерского состава дивизиона выяснено, что о письме курсанта Коробова в ваш адрес здесь никому не известно. Причина его откомандирования из училища в распоряжение командующего артиллерией Красной Армии неизвестны…» Сергей Сергеевич положил листок. — Вот, товарищ Коробов, как получается, — сказал Евгений Оскарович и вдруг улыбнулся. — А ты, граф Толмачев, молодец… Не понимаешь?.. Вот смотри. Есть в Тбилисском училище курсант Коробов. Знает немецкий. И в один, как говорится, прекрасный день пишет в Москву… И об этом письме — никому ни слова… Ну? Я сказал: «Разве мог я… о таком письме?.. Я же понимаю, что…» — Вот это-то и позволило нам здесь сделать вывод, товарищ Коробов, что надо нам посмотреть на тебя… Ну, что ты волнуешься, артиллерист? Куришь?.. Сергеич, угости артиллериста… Да, в тот день все было решено… Перейти линию фронта… А там меня должны найти наши товарищи, мои товарищи… Самое главное — остаться живым. Меня непременно должны найти товарищи. Вот только тогда я получу точное задание… Вернусь, Евгений Оскарович, вернусь, и вы мне скажете… что же вы скажете, Евгений Оскарович?.. А что скажешь ты, Валентин Рыжов?.. Злодей ты, Валентин Тимофеевич, друг мой. Я же уходил из твоего кабинета, едва волоча ноги, в голове гудело… Мы занимались по пятнадцать часов — иначе было нельзя, время уходило, а я еще не знал многого. Кто руководители Клуба господ? Граф Альвенслебен, фон Папен… Когда был референдум о соединении поста президента Германии с постом фюрера? Девятнадцатого августа тысяча девятьсот тридцать четвертого года, товарищ майор… «Наверху, на недосягаемой высоте, стоит вождь, а под ним государство, которое является лишь инструментом для выполнения его великих планов». Чьи это слова, дорогой граф Толмачев, а? Министра внутренних дел Фрика… Ну, молодец, Володька, пардон, граф Толмачев, поехали дальше… Что это за деятели — Рем, Гейнес, Деттен, Грольмах? Руководители штурмовиков. Убиты в тридцать четвертом… Так, молодец, память у тебя ничего себе… Ну-с, а чья физиономия на сей картинке? Так, верно. Сам Генрих Гиммлер. Ручка-то у него дамская, а?.. А кто это? Доктор Лей… А что такое «имперский союз верности бывших профессиональных солдат»? А кто возглавляет так называемый счетный двор германской империи?.. Где центры военных округов?.. Кенигсберг, Штеттин, Берлин, Дрезден, Штутгарт, Мюнстер, Мюнхен, Бреслау… Достаточно, знаешь, граф, знаешь… Ну-с, а напомни-ка мне еще разок — чем занимается пятая камера министерства доктора Геббельса? Камера занимается прессой, примерно две с половиной тысячи ежедневных газет и восемнадцать тысяч журналов и других изданий… А отдел по информации заграничной прессы, граф? Руководит информацией всех иностранных корреспондентов в Германии и немецкой прессой за границами империи… Отличная у тебя память, Володя… Поехали дальше. Ты берешь в руки толстый том, на обложке читаешь имя автора — Ганс Гюнтер. Будет в твоем лице благоговение или оное будет отсутствовать? Будет благоговение, Валентин Тимофеевич, будет, потому что этот чертов Гюнтер — теоретик расовой теории, его книжки зубрят в школах все немецкие мальчишки и девчонки… Лихо, граф. А цвет петлиц у танкистов? У саперов?.. Назови следующий за обер-штурмфюрером чин. Я и не подозревал, какая дьявольская, ювелирная работа ждала меня в маленьком кабинете майора Рыжова… Разве я мог бы додуматься до того, чтобы представить: поздний октябрьский вечер сорок первого года… сын подполковника Коробова помогает матери укладывать вещи… семья едет в далекий путь, к отцу, в Ереван… И в старых вещах, на дне сундука, купленного давно, лет десять назад, сын подполковника находит толстую книгу… Я раскрывал ее и под обложкой видел толстую, пожелтевшую от времени бумагу. Это была копия запродажного дела на поместье Санжейку Одесской губернии, документ, оформленный 14 июня 1913 года в адвокатской конторе Денисенко… Валентин Тимофеевич дал мне подержать книгу в руках всего десять минут. Ведь сыну подполковника Коробова в тот октябрьский вечер, в общем-то, было не до рассматривания старинной книги… Разговор с матерью примерно такой: «Мама, смотри-ка… Что это за бумага? Ты знаешь?» Мама: «Господи, я и не помню… Давно эта книга ездит с нами… оставь ее, сыночек…» Я: «Мама, значит, значит, Санжейка была вашим поместьем, Толмачевых?» Мама: «Мало ли что у нас было, все это уже… Ну ладно, Володенька, давай собираться, и так уж ночь… Оставь книгу…» Я: «Мам, а сколько у вас было поместий? Вот смешно, — если б не революция… Меня ведь не было бы… Ты папку никогда б не могла встретить…» Мама: «Ты, я вижу, не хочешь мне помочь. Положи книгу, господи… Мало ли что было… Четыре поместья… А, все это… Давай лучше собираться». В тот октябрьский вечер я держал книгу минут десять, полистал ее. У меня хорошая память, и я мог кое-что запомнить за эти десять минут… Я не могу объяснить, почему так запомнилась эта книга… Может быть, тот разговор с матерью о поместьях — зародыш моего будущего решения: перебежать на сторону немцев при первом же удобном случае?.. Валентин Тимофеевич взял у меня книгу, засмеялся. «Все, Володя, мамаша рассердилась, что не помогаешь ей, взяла эту штуку и бросила в сундук… Ну, что запомнил, граф Толмачев, а?.. Почему нам не предположить, что офицер контрразведки там не пожелает потолковать с тобой за чашечкой кофе кой о чем, а?.. Ты ведь ничего не будешь иметь против такой беседы… Чего тебе бояться господина штурмбанфюрера СС или, скажем, даже чина повыше — оберфюрера СС, полковника?.. Кто спокойно пьет кофе? Решительный парень, нагловатый, не дурак. Парень, который не забывал никогда, что он — лицо, имеющее законное право на графский титул… И на весьма солидное состояние, поместья в так называемой Транснистрии, в бывшей Одесской губернии Российской империи…. Но состояние, которое имеет ценность только при одном условии — его владелец должен заслужить у третьего рейха этот лакомый кусочек… Итак, ты пьешь кофеек с каким-нибудь офицером в черном мундире. «Книга?» — спросит он. Ты скажешь: «Да, старинная такая…» — «Ну-с, так что ты можешь вспомнить через три года о той книге?» Вот ведь… ясно вижу… «Адресная книга России на 1886 год, содержащая в себе: адресы промышленников, фабрикантов, купцов и выдающихся ремесленников, банков, страховых и транспортирования обществ, банкирских, комиссионерских и экспедиторских контор…» Там еще три строчки… Потом — «Издание редакции всемирной адресной книги Мейера и Билиц. Берлин, Вена, Лейпциг, Лондон, Париж, Москва. Собственность издателей. Москва. 1886». Запомнилось несколько фамилий на объявлениях во всю страницу… Кригсман, пробочная фабрика, Рига и Одесса… Гаген, Москва… Картинка — «Настоящий вид ружья «Диана»… удостоенного высшей награды…» Шмит, придворный фабрикант мебели… На розовой, кажется, бумаге это объявление… И, понятно, сын подполковника после разговора о поместьях полистал книгу, нашел раздел «Одесса»… Уездный и портовый город в Херсонской губернии на северном берегу Черного моря, насчитывает около 250 тысяч жителей… Запомнилась первая фамилия в длинном перечне адвокатов, торговцев, фирм — Берг. Запомнилась фамилия Бален де Балин… Объявление «Мориц Рауш»… («Енни. Пивоваренные заводы в Одессе. Оборот 300 000 ведер». А потом… потом Валентин Тимофеевич достал из портфеля еще книжку — тоненькую, какого-то бледного красного цвета. Сказал: «В той книге была и эта, так, видимо, случайно сунул в адресную книгу кто-то из Толмачевых…» Это был двадцать пятый выпуск «Серии неизданных в России сочинений» — «Гонение на христиан в России». Письмо к редактору английской газеты и послесловие Л. Н. Толстого». «Полистай без особого интереса, — сказал Валентин Тимофеевич. — Что запомнилось?» — «Не в силе бог, а в правде». Это эпиграф на обложке… «Милостивый государь!» — на первой странице… «Делу дан был судебный ход…»; «А губернатор проехал в Богдановку…»; «Если же правительство будет жестоко…» Конец — «Лев Толстой, 19 сентября, 1895 г.». Я спросил Валентина Тимофеевича: «Про эту книгу ты выдумал, а?..» Он засмеялся: «Из-за этой книги мы часа четыре с Сергеичем головы ломали. А выдумал я, ну и что? Зато брошюрку Льва Николаевича подсунул нам сам Евгений Оскарович…» Да, мы успели стать друзьями… Валентин Тимофеевич… Так он и не сказал мне, за что получил два ордена Ленина. «За рыбалку, — посмеивался. — Как шеф едет на Клязьму, так и норовлю к нему пристроиться, подбросишь пару карасишек в ведерочко — старик и веселеет, что домашние над ним смеяться не будут, горе-рыбаком…» Ты провожал меня до аэродрома и так обнял за шею, что стало больно… черт бы побрал тебя, Тимофеевич… Я смотрел в окошечко самолета, ты стоял на выгоревшей от солнца траве, снял шляпу и… как я хочу видеть тебя, Валя! — Господин обер-лейтенант, не желаете кофе? У меня есть в термосе, — сказал Эрих. — Кофе?.. — Обер-лейтенант шевельнулся. — Компанейский ты парень, Эрих. Давай свой кофе…Кто-то откинул дверь палатки, вошел низенький капитан в кирзовых сапогах, с пятнами глины на гимнастерке, положил на дощатый топчан пухлый вещмешок. — Порядок… товарищ, — сказал он Коробову, улыбнувшись. — С тепленького фрица сняли… Коробов бросил папиросу на вытоптанную траву, притушил ее сапогом. — Минут через десять тронемся, товарищ капитан, — сказал он. — Все готово, товарищ. Каску там мои ребята сполоснут, грязна больно, фриц-то барахтался, покуда его… — Ага, спасибо… Капитан вышел, старательно расправил за собой полотнище двери. Коробов, покусав нижнюю губу, стал развязывать горловину вещмешка… Вытряхнул содержимое на топчан — мундир немецкого ефрейтора с продранным на левом локте рукавом, ремень с потрескавшейся коричневой кожей… Усмехнувшись, Коробов расстегнул пуговицы гимнастерки (на ней не было погон)… Возле палатки — осторожные шаги. — Товарищ, готовы? — сказал голос капитана. — Да, да, сейчас. Коробов надел мундир. Брезгливой дрожью ответило тело… Коробов опять усмехнулся. Подумал: «А вот этого Тимофеич не предусмотрел… черт, противно как надевать с мертвого. И почему я снял свою гимнастерку? Глупость, надо надеть мундир на нее, конечно, на гимнастерку… Ведь по легенде я удрал ночью из землянки, нельзя было даже взять пистолет, который вместе с ремнем лежал под соломенной подушкой… рядом спал командир батареи капитан Скрынько, на этой же подушке лежала его голова. Да, да, у нас была одна подушка на двоих, потому что капитан как раз перед сном обнаружил на своей подушке вошь и выбросил подушку… Хорошо придумал про вошь Тимофеевич, курицын сын. А я ведь… я сейчас растерялся… Зачем снял гимнастерку?.. Ну — спокойно. Спо-кой-но…» Коробов сбросил мундир, привычно натянул гимнастерку — теперь не так противно было надевать мундир ефрейтора… Надо было выходить из палатки, но что-то еще хотелось сделать Коробову… Свернул ремень убитого немца, положил на вещмешок. Обвел взглядом палатку, слабо освещенную немецкой свечкой-плошкой… Вчера здесь был и Тимофеевич. Он ждал сейчас Коробова там, на «передке», где минут пятьдесят назад разведчики дивизии выкрали из траншеи ефрейтора, мундир которого теперь был на Коробове. — Ну, все, — сказал Коробов шепотом и откинул дверь палатки. Было темно. В вершинах сосен полоскался ветер. — Ничего не вижу, — сказал Коробов. — Минутку постою, товарищ капитан. — Темнота сегодня, — сказал капитан. — Вот каску возьмите… Они шли медленно — капитан, за ним Коробов, в пяти шагах за Коробовым — двое солдат. Пологий склон высотки. Ручей. Под сапогами — вязкий песок. Траншея. Часовой в плащ-палатке негромко окликнул: «Стой… кто идет?» Капитан ответил: «Свои, Пономарев, свои…» Спрыгнули в траншею. Через двадцать шагов — дверь в блиндаж… Стоял перед дверью человек, белое пятно лица скрылось, скрипнула дверь… В блиндаже, куда вошли капитан и Коробов, сидел на нарах Валентин Тимофеевич Рыжов, в новой гимнастерке с погонами подполковника, и старшина — черноусый узбек или таджик в плащ-палатке и каске. — Покури, Мурад, — сказал подполковник Рыжов, и старшина вышел. — Ну что, братцы?.. Покурим по остатней? Коробов и капитан сели рядом с Рыжовым на нары, застланные трофейными плащ-палатками. Коптила «катюша» из гильзы немецкого зенитного снаряда на узкой полке под бревенчатым потолком, было душно. Подполковник раскрыл пачку «Казбека». — Тесноват мундирчик-то, а?.. — сказал он, усмехнувшись. — Выбор у беглого лейтенанта был невелик, — сказал Коробов. — Паскудный фриц попался, — сказал капитан. — Пришлось пришить финкой, по горлу Мурад резанул… — Приятная подробность, — усмехнулся подполковник. — Ты уж лучше помолчи, Мартынов. Коряво сработали твои парни. Труп додумались оставить под самым носом у немцев. Я приказал перетащить к нашей первой траншее. Ведь по плану было ясно: немец — перебежчик, наш дезертир увидел, что немец вот-вот доползет до траншеи, где дезертир уже готов сматывать удочки… Дезертир боится, что немец ему помешает… Встреча в траншее. Удар ножа. Так?.. — Так, — сказал капитан, хмуря белесые брови. — А раз так, то больше медали старшина разведчиков не заслужил. — Слушаюсь, товарищ подполковник. — Ладно, нет худа без добра… Немцы любят острые ощущения, им понравится, что наш дезертир — парень решительный, полоснул их перебежчика по горлу… Так. Оставь-ка нас на минутку, начальник… Капитан вышел. — Ну? — сказал подполковник, подсев поближе к Коробову. — Струсил я, Валентин Тимофеевич. Гимнастерку снял, надел мундиришко… Я думал, что… — Кризис готовности — типичный случай. Ну, если ты уже перегорел, то теперь будет легче, Володя. Легче, легче… Будем считать, что после удара финкой ты почувствовал спокойствие, да, да… Якорь поднят, граф Толмачев срезал свои погоны той же финкой, бросил ее в траншее — и… — А все-таки страшно… — Так и должно быть. Без страха наш брат не работает. Так, Павлович. Погоны твои уже лежат в траншее, финка — тоже. Сейчас посмотришь на лицо немца… Запомнишь… Когда при твоей ситуации убивают человека — лицо его запоминают навсегда. — Это я понял, Валентин Тимофеевич. Ты… не говори Сергею Сергеевичу про гимнастерку… — Надо, Володя. Для тебя надо. То, что сам о слабости рассказал — заменяет две страницы похвал в служебной аттестации… Все хорошо, Павлович. Теперь ты убедился, как жизнь на каждом шагу свои коррективы подсовывает. То немец попался здоровенный, то не сообразили в горячке парни, что приказано было немца решить в траншее, поторопились. Снять гимнастерку ты ведь тоже не собирался?.. Все идет, как, в общем-то, и должно… Ну, что мне скажешь хорошего? — Сделаю все, Валентин Тимофеевич… — Ну что ж, это ты хорошо мне ответил. Хорошо… Они встали, обнялись. — Спасибо тебе, Валентин Тимофеевич. — Ладно, ладно, граф… Увидимся. — Буду стараться, — Коробов улыбнулся. — Все. Шагаем. Они постояли в траншее… Выбрались из нее. Капитан и двое солдат стояли возле убитого немца… Коробов присел, разглядывал смутно белеющее запрокинутое лицо… Широкий подбородок с ямочкой… Ровный нос… Светлые волосы упали на лоб… Красивый немец… — Как звать, а? — спросил Коробов негромко. — Не надо тебе знать, — сказал подполковник Рыжов. Коробов медленно выпрямился. — Все, пошел. — Иди. Капитан и двое солдат шагали впереди Коробова. — Теперь поползать придется, — шепотом сказал капитан. — До фрица триста метров. Они ползли по шуршащей, пересохшей от зноя траве. Через пыльную полосу проселка. Снова по траве… — Все, — едва услышал Коробов голос капитана. — Ну, браток… будь здоров… Горячая ладонь капитана пошарила по плечу Коробова. — Спасибо… ребята… — Еще что-то хотелось сказать Коробову, и он сказал: — Не поминайте лихом… Вот уже и не слышно, как уползают разведчики. Коробов уронил мокрое лицо на траву… Этот капитан — последний русский человек, которого… Коробов поднял голову. Едва угадываемая глазами — расплывчатая, зыбкая черта, отделявшая темную землю от неба в августовских звездах… Коробов шевельнулся… Надо было встать над темной землей… Надо было, надо, надо… Коробов оперся о теплую землю руками, встал. Отряхнул мундир, брюки. Поправил каску с болтавшимся ремешком. Оглянулся… Ничего не видел он там, на востоке… Пошел, осторожно ступая, но глаза уже улавливали слабый отсвет неба на траве, угадывали густую темноту в ямах, воронках, различили цепочку вмятин от гусениц танка… Он увидел впереди темную неширокую полосу и понял, что это немецкая траншея… На ее краю остановился. Кто-то трудно дышал внизу, под сапогами Коробова. — Оу… камраден! — негромко сказал Коробов. И это первое немецкое слово, которое он произнес в августовскую теплую ночь, словно отрезалоКоробову дорогу назад… Он знал, что уже не пойдет по темной шуршащей траве назад, не пойдет… Коробов присел, вглядывался в тьму на дне траншеи. Что-то белело там, потом эта робкая светлота исчезла… И опять забелело это непонятное… Голос — молодой мужской голос — проговорил там, внизу: «Найн… найн… мутти, найн…»[2] Коробов спрыгнул в траншею. Человек, лежащий на ее дне, убрал руку с лица. — Варум?.. Варум, мутти?[3] — пробормотал человек. Коробов потрогал его за плечо. — Вас?.. О готт… ихь…[4] Немец сел, замотал головой без каски. — Э, камрад, ты так сладко спишь, — сказал Коробов. Услышав его, немец вздохнул, стал тяжело подниматься, пошарил рукой под ногами, взял автомат. — Собачье дело, я совсем… — пробормотал немец. Он приблизил свое лицо к лицу Коробова. Сказал встревоженно: — А ты?.. Кто ты?! — Наместник господа бога. Не хватайся за автомат, славный воин фюрера. Где твой командир? Мне надо офицера, дружище. — О готт… — Немец нерешительно оглянулся, потом отступил от Коробова на два шага. — Иди впереди! — Если ты будешь тыкать мне в спину своим автоматом, дружище, придется мне доложить офицеру, как ты стоишь на посту. — Иди! Сюда! Коробов по четырем дощатым ступенькам спустился к двери блиндажа, нажал на нее ладонью… Слабый огонек от свечки падал сбоку на лицо привставшего с нар человека в белой грязной майке. — Господин фельдфебель! Перебежчик! Задержан мною! — Солдат щелкнул каблуками. Фельдфебель смотрел на Коробова. — Зальцман, ты всегда был идиотом. Проваливай со своим перебежчиком к дьяволу в брюхо. Шлепни его. Марш! — Боюсь, вы сами идиот, господин фельдфебель, — негромко сказал Коробов. — Это вас не позднее сегодняшнего утра шлепнут, болван вы этакий. Фельдфебель глянул на солдата. — Встаньте! — подшагнул к нему Коробов. — Мне нужен офицер! Часовые у вас дрыхнут, как шлюхи в борделях у Силезского вокзала! Встать, сволочь вы этакая! Фельдфебель поднялся. — Ну? — сказал Коробов. — Изволили проснуться? Вы что — совсем кретин, а?.. С каких это пор русские перебежчики говорят по-немецки, как я? Или вам не нравится, как я говорю, а?.. Надевайте китель, мой красивый друг, и ведите меня к офицеру. Порядочки в вашей замызганной роте… Вы что — команда дезертиров? Сняв с гвоздя мундир, фельдфебель торопливо надел его, глянул на солдата (тот прятал ухмылку — уж очень здорово распушил этот странный парень фельдфебеля). — Зальцман! Бегом к дежурному по батальону! Доложите, что задержан… задержан… — Перестаньте болтать! — Коробов повернулся к двери. — Идемте со мной, черт бы вас побрал! — Отставить, Зальцман… Пойдете со мной. — Мне повезло, — сказал Коробов. — Встретил двух самых выдающихся идиотов во всем вермахте. Они выбрались из траншеи, шли по траве. У блиндажа крикнул часовой: — На месте! — Это Манфред! — сказал из-за спины Коробова фельдфебель. — Доложи господину обер-лейтенанту… К нему… человек… Коробов прижмурился от света фонаря под потолком блиндажа… Обер-лейтенант — в шинели, подпоясанной ремнем, в каске — стоял у маленького столика, застланного серым одеялом. Он был невысок, плотен. — Кто вы? — сказал обер-лейтенант. — Я могу назвать себя, но это ничего не решит, господин обер-лейтенант. — Точнее? — Я должен увидеть кого-либо из старших офицеров. — Вы немец? — Не имеет значения. Доложите обо мне старшему командиру. Обер-лейтенант переглянулся с молча застывшим у двери фельдфебелем. — У вас есть документы? — На вашем месте я предложил бы гостю сесть. — Вы не гость. — Впрочем, вашим гостем я долго быть не собираюсь. — Это мы увидим. Коробов подошел к широкой скамье у стенки блиндажа, отодвинул лежащую там солдатскую шинель, сел… — Господин обер-лейтенант, немецкому офицеру можно понять, надеюсь, простую истину, что я не похож на проворовавшегося русского повара. Русские повара знают только два немецких слова — «хенде хох»… Дайте мне сигарету. Усмехнувшись, обер-лейтенант достал из кармана брюк белую пачку сигарет, протянул Коробову… — Сулима… Дрезден… — сказал Коробов, разглядывая сигарету. — Спасибо. Огонек? Обер-лейтенант чиркнул зажигалкой, потом бросил ее на стол. — Вы берлинец? — неожиданно спросил он. — Не помню. Вы очень любопытны, господин обер-лейтенант. — Вы же говорите на берлинском диалекте, молодой человек. Я шесть лет преподавал немецкий язык в Веддинге… — Я русский. — Вы храбрый парень, черт побери… — Докладывайте вашему начальству: с русской стороны явился человек, который сейчас курит сигарету «Сулима» и находит, что это порядочная дрянь… Доложите еще, что час назад этот человек прирезал в русской траншее какого-то прохвоста, ползшего со стороны немецких позиций. Высокий, блондин, на подбородке — ямочка… Может, по этому вшивому мундиру определите — кто, а?.. — Коробов, усмехнувшись, приподнял левый локоть. — Гейнц Вальтер?! — вскрикнул фельдфебель. — Не ваш друг, фельдфебель? — сказал Коробов. Обер-лейтенант отшвырнул сигарету к двери. — Немедленно проверить, Манфред! Быстро! — Слушаюсь! — Очень, очень сожалею, что на вашем дежурстве эта сволочь решила удрать к русским, господин обер-лейтенант, — сказал Коробов. — И вообще, мое появление вам не доставило, боюсь, особого удовольствия. Звоните начальству, мне надоело кормить вшей хозяина мундира… Странного перебежчика командир дивизии генерал-лейтенант Бремер принял в девять часов утра. Генерал надел пенсне, посмотрел на лист синеватой бумаги, лежавшей перед деревянной чернильницей, — это был рапорт командира пехотного полка о дезертирстве ефрейтора Гейнца Вальтера и переходе с русской стороны человека, назвавшегося лейтенантом Владимиром Коробовым… — С вами, господин лейтенант, будет беседовать оберфюрер СС, — сказал генерал. — Придется вам подождать… — Как вам угодно, господин генерал, — негромко проговорил Коробов. — Ваши солдаты угостили меня кофе, даже одолжили бритву и не пожалели нового лезвия… А если быть откровенным, я боялся, что меня пристрелит первый же немецкий солдат… Простите, господин генерал, — вы сказали, что со мной будет беседовать оберфюрер… Я не разбираюсь в чинах… Это ведь не армейское звание, господин генерал? Стариковские усталые глаза генерала смотрели на худое мальчишеское лицо перебежчика… — Оберфюрер СС соответствует званию полковника, господин лейтенант… Сколько вам лет? — Двадцать, господин генерал. — Мда… В двадцать лет легко совершаются роковые ошибки… Вы курите? Прошу… Коробов привстал в кресле, дотянулся рукой до коробочки сигарет, что лежала рядом с бронзовой пепельницей. Улыбнулся. — Спичек у меня нет, господин генерал… Генерал медленным движением руки достал из кармана кителя никелированную зажигалку, протянул Коробову. — Благодарю, господин генерал. — Мне было двадцать лет, когда я впервые увидел русского офицера… В августе четырнадцатого года… Он командовал разъездом драгун… Он отстреливался от моих солдат, потом… Он покончил с собой последней пулей… Его револьвер я подарил своему младшему брату, когда лежал в лазарете… — Вы осуждаете меня, господин генерал? — сказал Коробов, потушил сигарету о пепельницу. — Что ж поделать, так вышло… Я не мог заставить себя вернуться в окоп, где… где встретил вашего ефрейтора… — Молодой человек… Я просто думаю о тех далеких временах, когда мне было двадцать лет… Вам не надо нервничать, молодой человек. Вам будет трудно говорить с оберфюрером Вальдманом… В кабинет, не постучав (это сразу отметил Коробов), вошел очень высокий офицер в сером плаще, за ним, виновато улыбаясь, еще один офицер — в черном мундире. Коробов встал, чуть помедлив, вслед за генералом, который отодвинул стул, пошел навстречу гостям… — Рад видеть, генерал, — сказал офицер в плаще. Он пожал генералу руку, снял фуражку — черную, войск СС. Глянул на Коробова. — Чистюля. Побрит. Очень характерно, генерал, а?.. — Пожалуй, мой дорогой Вальдман, — усмехнулся генерал. — Впрочем, я плохо разбираюсь в психологии перебежчиков и вообще… лиц вашего служебного интереса… Прошу, господин оберфюрер. Садитесь, штурмбанфюрер. Оберфюрер Вальдман, как понял в эти минуты Коробов, был наверняка важной персоной для генерала, а вот пожилой офицер в черном мундире, надо было полагать, вероятней всего из дивизионной контрразведки, на генерала он поглядывал с виноватой улыбочкой… — Садитесь, Коробов, — сказал оберфюрер. — Ну, вот, по вашему лицу видно, что вы удивлены — я запомнил вашу фамилию. А? Все русские считают господ фрицев круглыми идиотами… И вы — тоже. А, Коробов? Сказано это было весело, напористо, и сам оберфюрер СС посмеивался, резко подвинул кожаное кресло поближе к креслу, в котором уже сидел Коробов, распахнул плащ, но почему-то не снял. «Сейчас закинет ногу на ногу…» — подумал Коробов, но оберфюрер протянул длинные ноги в чуть пыльных высоких сапогах, и у Коробова — от того, что не угадал движения этого Вальдмана, заныло где-то в сердце… Он смотрел в лицо Вальдмана — совсем еще молодое, свежебритое, немного, пожалуй, полноватое, но и это «шло» ко всему облику оберфюрера… — Ну-с… Владеет немецким. Удар ножа по шее христианина — отнюдь не простая штука, но господин Коробов… И на немецкого генерала он смотрел с усмешкой, а?.. Сигарету не докурил… Вы сказали господину Коробову, что я хотел посмотреть на него, генерал? — Виноват, — устало улыбнулся генерал. — Вас переучили, Коробов, — сказал Вальдман. — Я всегда старался быть не последним, господин оберфюрер. — Не последним — где? — В средней школе имени Маяковского, город Ереван, господин оберфюрер. И в семьсот сорок третьем взводе Тбилисского артиллерийского училища — тоже… — Биографию вы, надеюсь, не откажетесь написать, и поподробнее, господин первый ученик. А сейчас мне нужны только короткие ответы. Только короткие. — Слушаюсь, господин оберфюрер. — Не сошлись характерами с Советской властью? — К власти никаких претензий. — Уголовно наказуемые деяния? — Представлен к ордену Красной Звезды девять дней назад. Вальдман засмеялся. — Поздравляю… Беру свои слова о том, что вас переучили, назад. Вас отлично выучили. Кто? — Короткого ответа, к сожалению, дать не могу, господин оберфюрер. — Ну, не скромничайте, Коробов. Итак? — Моя мать — внучка генерал-губернатора Одессы графа Толмачева. Вальдман чуть нахмурился… Закинул ногу на ногу… И тут Коробов не удержал улыбки… — У меня еще пять свободных минут, Коробов. Только пять. Вы понимаете? — Да, господин оберфюрер, — спокойно сказал Коробов. — Вы считаете себя… гм, да, очевидно… Граф Толмачев, а? — Так точно, господин оберфюрер. — Допускаю. Быть графом — это уже кое-что, а, Коробов? То, что вы смелый молодой человек, доказательств не требует. Но я вижу, что вы способны и поиграть со смертью, а, граф? — Осмелюсь сказать, господин оберфюрер, что к графскому титулу я не против присоединить и четыре поместья, которые принадлежат мне по праву. Несколько тысяч гектаров Одесской области. А получить их из рук Советской власти, само собой разумеется, я не мог… Я выбрал путь, совпадающий с путем германской империи… — Не надо громких слов. Я беру вас с собой. Мы побеседуем поподробнее. Благодарите генерала Бремера за гостеприимство, граф. Коробов посмотрел на генерала, тот улыбнулся. — Дайте мне глоток водки… Шнапса, господин генерал… Вальдман захохотал. — Вы отличный парень, Коробов, черт побери! Одно неясно — кто вас учил немецкому языку?.. — Маленькая берлинка Эми, господин оберфюрер.
ГЛАВА ПЯТАЯ
00.17. 19 апреля 1945
КОМАНДАРМ
…Забыл, как называется та улица… Когда же я чаевничал у Воронова? Девятого марта. Девятого марта тридцать седьмого года. Странно, день помню, а вот как называлась та мадридская улица — запамятовал… Николай Николаевич пил чай, сахарок грыз… был какой-то домашний, простецкий, да, да, посмеивался, когда эта славная переводчица… м-м-м… Тася? Да, Тася… Жаловалась, что, наверное, во всем Мадриде нет ни одного самовара, и она готовит чай в большом чугуне. Она тоже налила себе кружку, очки у нее запотели… — Вернемся, Сергей, в Белокаменную — будем чаи гонять до изумления, — сказал Воронов. — Это Алексей Толстой словечко любит — «до изумления». Ты Алексея Николаевича любишь? — Телегина я люблю. — Ну, это я понимаю. Ты же сам как Телегин, русак ядреный, настоящий… Вот и паникуешь ты, братец, сейчас точно как твой Телегин. — Не думаю, Николай Николаевич. — В самом истинно православном духе ты душеньку свою сейчас ремешком, ремешком постегиваешь… Ну, побили итальянцы твою любимую Пятидесятую бригаду, ну, потопал ты километров пятнадцать по Французскому шоссе, унося от итальянцев ноги… Все правильна, друг Сергей. И оборона наша ни к черту, и твоим орлам траншеи рыть в грязной земле — гордость испанская не позволяет. И то, что на фронте в пятьдесят километров оборону держат какие-то девять батальонов… Все верно. А вот выводы у нас с тобой разные, Сергей… — Я не знаю вашего вывода, Николай Николаевич. — Мой вывод прост. Сегодня республиканцев побили, крепко побили, а завтра их уже не побьют, завтра они научатся бить итальянских щеголей насмерть, научатся, это тебе старый, черт дери, солдат говорит! Воронов опять налил себе чаю, на меня поглядывал. — Остановили ведь итальянцев парни из Одиннадцатой интернациональной? Остановили. Даже при всей этой неразберихе, разболтанности, недисциплинированности, но остановили! Нет, Сергей, паниковать нам с тобой никак не гоже, ну никак… Выпей-ка еще чашечку, выпей… Телегин. Девятого марта тридцать седьмого года… Давно все это было, давно… Сегодня у меня не девять батальонов… Все будет хорошо, должно быть хорошо! Седьмая ударная будет на том берегу Одера, этого проклятого Одера… Нет, совсем не напрасно мы шли тогда, в дождливый мартовский день, по земле Испании, нет, не напрасно… Все будет хорошо.ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
Наградной лист оформить — для ротного гиблое дело… Борзов (портянки сушил у печки) глаз прижмурил… Венер — мужик боевой, отчаюга, да грамотешка слабовата… В блиндаже — дыхнуть нечем, жарища, а у Венера все пуговицы на воротнике гимнастерки застегнуты, преет над теми листами. Сперва над трофейной немецкой тетрадкой колдует: слово напишет — и чирк карандашом по нему, второе напишет — опять не соответствует… Без дружка, парторга Ивана Ивановича, труба Венеру… Бывало, Ванька сядет, папироску в зубы, карандаш по бумаге так и летает… Потому — дар человеку… Вот уж из госпиталя Ванька вернется, тогда Венеру с наградными листами управиться, в батальон представить — проще репы… Вроде накатал, мученик, а?.. — В душу Гитлера, — бормотал Горбатов. — Развели писанины — хуже конторы райпотребсоюза… — На Малыгина подаешь, Кузьмич? — сказал сочувственно Борзов. — На него… Пшенник еще, а ордена не дать — нельзя. — Парнишка хороший, Венер Кузьмич. Не грохни он по тому «тигру» гранатой — от первого-то взвода ошметки б полетели, точно. — Ну-к, послушай, Николаич, как тут чего… — Да я в документациях… — Ты в смысле, как точно я излагаюсь тут… Значит, так… Представление… В бою под нас. пунктом Егерсдорф в составе второй роты первого батальона, отражая контратаку семи танков и трех самоходок противника, гвардии рядовой Малыгин Федор Федорович, свято выполняя свой долг воина-освободителя, по личной инициативе выдвинулся на сто метров от первой траншеи, где мужественно встретил подходящий фашистский танк «тигр» ударом связки гранат и вывел его из строя… — Ловко, Кузьмич! — Ну… ловко. Кхм! Ведя огонь из автомата по вражеской пехоте, которая следовавши за танками, гвардии рядовой Малыгин заставил врага расстроить свой боевой порядок и поспешно отступить на исходный рубеж атаки… Ну, слопают в батальоне? — Ничего, только… роту потерял ты, Венер Кузьмич… — Чего? — Выходит — Федька один все дело спроворил, а мы только глядели на те танки. Завернут в обрат твою писульку в батальоне, точно. — В душу Гитлера… верно! Про роту… я того, упустил… Черт те дери, с этим писанием, будь оно проклято! — К двенадцати в батальон велено доставить. — Да помню, что к двенадцати. Ванюшку б Евсеева сюда… — Дождемся. — Бумаги жалеют на такое дело… — Горбатов взял трофейную синюю авторучку, стал перебелять на бланк представление. — Чего тут толком напишешь, развернуться-то негде… — Полчаса осталось, Венер Кузьмич. — Молчи. Горбатов авторучкой над бланком покрутит, чтоб бойчее буквы выходили, с завитушками, и катает, и катает… — Шабаш! Одевайся, служба малиновая! Борзов шинель надел, пряжкой трофейного ремня клацнул, автомат на плечо — и готов. Тут в блиндаж — Пашка Шароварин. — Товарищ гвардии старший лейтенант! Комсомольцы вверенной вам роты с концерта прибыли в полном порядке, происшествий не произошло! Гвардии младший сержант Шароварин! — Вольно, вольно… Чего там хорошего? Не зря ноги били? — Никак нет, товарищ гвардии старший лейтенант! А я там Манухина видел, ага… — Андрея?! — Ага! — Да ты садись… Ну, как там Григорьевич? Раздобрел, поди, в ансамбле? — Привет всем передавал. Тебе, Николаич, тоже. Хотел к вам заехать, да к танкистам надо успеть, опять концерт давать… А для нас концерт оторвали-и… эх! Артистов шестнадцать человек, ага! Из Москвы приехали! — Вот война пошла нам… — Андрей Григорьевич там от армейского ансамбля, ну, вроде коменданта, ответственный за все дело, ага… Две басни загнул — до умру смеялись, си-ила! — Давненько Григорьича я не видел, — сказал Борзов. — А дочка-то, товарищ гвардии старший лейтенант… ну-у… — Какая дочка? — Да Григорьича, какая ж еще? Анна Волгина! — Плетешь, Пашка… — Да он так объявил — Анна Волгина! Молодая исполнительница русских народных песен и романсов! — Погоди, она же в Москве учится, в этой, как ее, дьявол… — В консерватории, точно. Я с нею, с Инной-то, после концерта толковал минут пять, ага… Такая девушка, будь здоров. Высоконькая такая, русенькая, а брови — как углем, ага… — Гримом этим. — Да нет, я ж ее вот так видел, на шаг! Глаза такие — синие глаза… Как она вышла на сцену-то… Платье такое синее, бархатное, вот здесь такие плечики, белая кофточка, кружева тут… Вышла — мы рты и поразевали, ага! Как запоет, плечиком повела… Четыре песни! Мы ладони отколотили. — Ничего, значит, дочка? — сказал Борзов. — Сильно хорошая! — Ты, старый юбочник, пойдешь в батальон иль мне самому собираться? — сказал Горбатов. — У меня нога легкая, успею. Ты б, Кузьмич, выпросил в полку хоть какую рыжую или кривобокую, а? Без девицы в роте служба больно кисла, культурность опять же того, загинается книзу. А? — Шагом марш… культурность. Через два часа выступать будем. Жми! Не любил Борзов слово — «выступать». Сказано это горькое для солдата слово — и жизнь, как буханку финкой, надвое резанет. Было спокойно, мирно, ладно, хоть Борзов на снегу под сосной спал или в сараюшке на трухлявой соломе, бабенку раскидистую, теплую во сне видел, по родному дому в том сне ходил, — а как скажет Венер Кузьмич… Ох, злое слово «выступать». Давно приметил Борзов: ротному его выговорить — тоже не радость, да держать надо душу — командир. Кинула нам судьба такую карту — в серой шинели быть, все, мил человек, ты — человек государственный, можно сказать, не за свою голову в ответе — за всю Россию первый ответчик… Вылез из окопа в поле, шумнули ребята: «Коммунисты — вперед!» — жми спусковой крючок автомата, гвардии рядовой Борзов, потому — за тобой Россия… Из-за чужой спины на фрица глядеть старому солдату никак нельзя… Перед мальчишками — стыдобушка… Голова, считай, совсем седая, в отцы им гожусь. Никак нельзя седую голову беречь… лишку. Отнес Борзов бумаги в штаб батальона, с адъютантом старшим, шуйским парнем, гвардии лейтенантом Мишей Родионовым перекурил, вернулся в роту. Пошебуршился Борзов в блиндаже, как, может, раз сто ему доводилось в дорогу собираться. Чемодан ротного ремешком солдатским брючным перетянул, горловину своего вещмешка узелком связал (тощий мешочек-то), со стенки в изголовье нар трофейную плащ-палатку снял, портрет товарища Сталина в рамочке из фанеры на самый низ длинного ящика из-под немецких снарядов уложил (с Ладоги, с сорок третьего года берегся), поверх — журналы да мелочишку всякую. Готов… А тут ротный топает. Хмурый. Значит, скажет — «выступать будем»… Хорошо, если уж скажет — «сейчас», а то, бывает, еще час в запасе есть у роты, а уж лучше б не было — воевать так воевать. За Венером — парторг. — Николаич рвется в бой, — сказал Евсеев. — Здорово, старый кочколаз! Обнялись с Борзовым… — Оклемался, Ванек? Ну и слава богу… А то без тебя у нас такая скукота, беда… Нога в порядке? Топаешь? — Полная боевая готовность… Нормально… А ты все толстеешь, гляжу, на ординарцевых хлебах, а? — Есть чуток, — сказал Горбатов, садясь на пустые нары. — Так и рвется в бой. — Рвусь, — сказал Борзов. — Ну, завелся, — махнул рукой Горбатов. — Как услышит наш Коля — выступать роте, так и бледность его прошибает, глянь, Ваня. А орденов нахапал под шумок, шуйский жулик, — чуток только поменьше, чем у маршала Рокоссовского… — Ты шуйских не цапай, — сказал Борзов. — Шуйские мужики с самим Михал Василичем Фрунзе революцию раздували, понял?.. А твои южские — только и дела по болотам за брусникой да на шуйском базаре во вторник стакашками торговать, черти болотные… — Но, но, Коля, не загибай. Ежели хочешь знать, в смысле революции… Аккурат в девятнадцатом мой батька к самому Ленину ездил, делегатом, понял? В кабинете у Ильича был… Понял? — Сказки ты у нас, командир, ловок рассказывать… — Не сказки, а точно. — Будет вам, воины, — засмеялся Евсеев. — Нас впереди слава победителей ждет, а вы плетете тут старые байки. — А я говорю — батькой своим и по сё горжусь, понял? — сказал Горбатов. — Без старых баек и новую не сложишь. У нас сейчас, гляжу, малость забыли про революцию-то, все про Суворова да Кутузова разговоры разговаривают… — И без этого нельзя, — сказал Евсеев. — Традиции надо не бросать, как пустую гильзу, Веня. — А как в революцию-то дрались со всякой сволотой — это тебе что? Не традиция? А то послушаешь какого политика — ну, долдонит: «Генерал Брусилов! Фельдмаршал Кутузов! Фельдмаршал Румянцев!» А пес его знает, что это за Румянцев такой… Нет, братки, о старых русских вояках помнить надо, а Фрунзе забывать или там Чапая — загиб, точно… Я тут с кем хошь срежусь! — А я-то думал — без меня во второй гвардейской роте захирела вся идейная мысль! — засмеялся Евсеев. — Ай, теоретики! — Ладно, не подначивай, — ухмыльнулся Горбатов. — Скорей бы идти, что ль, — сказал Борзов. Связные от взводов явились — трое, бегунки-мальчишки, у входа на нары сели. Молчат — к ротному еще не привыкли, побаиваются. Пашка Шароварин пришел — связь смотал от штаба батальона. Катушку на пол поставил. — Линия снята, товарищ гвардии старший лейтенант. Сел к связным, тоже притих. Ну, тошно. Молчат все. Печка остывает, скоро в дорогу… Потом по траншеям лазить в темнотище, а как развидняет, так и… война начнется, сучья дочь… Борзов открыл дверцу печки, набросал сосновых чурок. Хоть час в тепле побыть — и то… — Вот что значит старый солдат, — сказал Евсеев. — Пока «шагом марш» не слыхать — он свое дело туго знает. Жаргань, Николаич, на страх врагам… — Боевые листки приказал выпустить? — спросил Евсеева ротный. — А как же? Я сразу, как в роту явился, свой хлеб начал отрабатывать, командир. Во всех взводах сейчас читают, ты, командир, за это дело не волнуйся. У нас это дело еще с Ладоги отполировано, как шпоры у довоенного старшины конного дивизиона… — Ладно, ладно… — сказал Горбатов. — Я вот в Саратове, в госпитале, ногу лечил, под Сталинградом меня ковырнуло миной… Вот там чекист со мной соседом был, через койку, Николай Нестерчук, черниговский хлопец… Он с тридцать девятого в погранвойсках служил, на Кавказе, а в эту войну начал с ноября сорок первого… Только ему лейтенанта присвоили, и надо же — в тот же день напоролся со своими связистами на минное поле… Троих разнесло, а Колька еще дешево отделался, ногу только повредило ему… Ему, значит, докторша Людмила Георгиевна директиву дала — лечебной гимнастикой заниматься. Ну, чтоб скорее нога поджила… Мы, бывало, все в домино долбаем, а Колька… Такой упрямый… Позавтракает — и жмет в кабинет, на эти процедуры. Заглянешь иной разок туда, а с Кольки уже шестнадцатый пот льет… Выписался раньше всех из нашей палаты. Хорош был парень. Два письма прислал мне, а потом что-то примолк… Печка у Борзова — гудом… — Будет, Николаич, — сказал Горбатов. — Между прочим, из тепла на холодину идти, бывает, ничего страшного, а даже слаще меду, — сказал Евсеев. — Тут, братья славяне, диалектика тоже силу имеет. Борзов у печки пригрелся, даже шапку снял, на Евсеева поглядывал — сейчас Ванька подзагнет, на душе, может, и полегчает… — Ты, Вань, расейское бы, а? — сказал Борзов. — Больно чужбина надоела, глаза б мои не глядели на эту Германию. Ни тебе леса путного, ни тебе простору, одни таблички эти эмальные на домах… Хреновая тут земля, не приведи господь родиться немцем, взвоешь… Евсеев засмеялся, снял шапку. — Про Россию хоть песни тебе могу, Коля. Россия — моя старая зазнобушка… Устное приложение к «боевому листку», Венер Кузьмич, разрешаешь? — Да ведь брешешь ты все, Ванька. С сорок третьего брехню твою лопаем, — сказал Горбатов. — Это Геббельс брешет, а я — святую правду вам… Ну, вот, скажем… ну, о дядьях своих сейчас вспомнил. Святая правда, мужики! — Святую послушать не грех, — сказал Борзов. — Него с дядьями-то, Ваня? — Про моих дядьев до самого Берлина можно рассказывать. Такие были плотнички, ярославские ухари… А особенно младший дядька — Василий. Орел, звон и гром, смерть девкам, радость вдовам — си-и-ила! В унтер-офицерах служил в первую мировую, шесть наград отхватил! В гражданскую у самого Щорса воевал… тоже давал прикурить, домой вернулся с такой девахой из Батурина — у его годков рты поразевались… Ну, а дело-то, хочу сказать, еще до той войны было, Васе годов восемнадцать только стукнуло. Да… На зиму пошли все четверо дядек шабашить по плотницкой части, в Рыбинск подались. До весны, до троицы, кой-чего подзашибли, навар неплохой для мужицкого бюджета, купчишки рыбинские перед войной амбары хлебные рубили. Ну, наутро, значит, дядья с подворья шагом марш домой… Вечерком чайку попили, пароходных чайников — с полведра посудина — полдюжины уложили, пирогов поумяли, ну, перекрестились, вроде — и спать пора. А Вася глядит — старшие-то братцы чего-то мнутся, потом один за другим вольным воздухом подышать захотели и смылись. Хорошо. А Вася еще раньше приметил — старший брат, Федор, чего-то с кухаркой разговоры тихие в обед разговаривал, бородой щеку ей гладил… Вася — во двор. К воротам — заперты, на постоялом дворе строго. Он по двору покружил, видит — по снежку к забору следы. Братья-то в сапогах были, в лаптях к подрядчику не суйся, за серого посчитает, кого облапошить при расчете сам бог велел. Пересигнул Васек через ту линию Маннергейма, значит, по следам, по следам — и, глядь, к монастырьку следы-то… женскому… — Ой, Ванька! — сказал ротный. — Ничего не Ванька. Следы, да… Братцы, значит, к монашкам души спасать на ночь глядя закатились. Ну, обиду Вася и заимел. За мужика, выходит, братья его еще не признают… Хорошо. Под утречко заявились, полтинник, видать, сторожу отвалили, тот калитку — пожалуйте… А Вася лежит себе на нарах, помалкивает. Евсеев бросил окурок к печке. — Это я вам первую часть выдал, братцы. Доказано — не всегда из тепла на холод идти не хочется… Теперь — вторую часть. Времечко-то есть, Венер Кузьмич? — Закругляйся полегоньку. — Очень хорошо. Идут, стало быть, домой. А уж троица, праздничек Христов, зашумела. В деревнях — боже ты мой, одна несознательность… На завалинках мужики уж пузыри пускают после похмелья… Дошли до одной деревни, а Вася и говорит: «Три рубля у меня отложено на гулянье… Да вот не знаю — уж до дому, что ль, погодить, там душу повеселить, иль здесь маленькую пропустить под огурчик?» У братьев носы — к Васе. Страсть им охота на его трешницу выпить, да как подъехать-то? А тут и заведенье — вот оно! Как раз возле заведенья-то Вася удочку и кинул братцам… — Тактика точная, — засмеялся Горбатов. — А как же! Стоит Вася, на крыльцо заведенья смотрит, потом говорит: «Нет, здесь не буду. Уж дома пряниками девок угощу…» И пошел. Братья потоптались, делать нечего — за Васей. В душе-то у них мерехлюндия — трешницу изводить девкам на пряники, это ж дурость! Вот выпить бы на эту бумажечку — здоровью польза! Опять к деревне, к Круглице, подходят, это уж, считай, до дому раз плюнуть осталось, Вася и говорит: «Кто из вас смелый-то? Бросить камнюгой в окошко? Тону трешницу дарю. Покуражиться желаю!» А сам смеется, дескать, шучу, братцы. А братцам на даровщинку выпить… да господи боже! «Не обманешь?» — спрашивают. «Да вот вам крест!» — Вася крест отмахнул. Глядь, братцы-то по дороге шарят — камешек какой найти, дорога-то уж талая, до земли солнышко пробило, теплынь стоит… Ну, камней на ярославских дорогах хватает, взяли братцы по булыжнику в карманы полушубков — и марш по деревне… К другой околице подходят, видят — в избе гулянье. Песни. Причастились самогоночкой православные… Дядя Федор, старший-то, ка-ак шарахнет булыжником по окну — так рама в избу и влетела… Понятно, сокращать линию фронта на немецкий манер надо. Братья и сыпанули… — Ох, врешь, — сказал Горбатов. — Ох, не вру… Да. Чешут братья, а Вася котомку — с плеч, идет к той избе. А уж на крыльцо — целая артель выкатилась. Пьяне-е-ехоньки мужички и бабы, десятую песню, поди, играли… И знакомые есть Васе. Увидали. «Вася! Не видал, кто это… тудыть-растудыть, в Христов праздник охальничает, зимогор?!» Вася говорит: «Как не видать, Ерофей Максимыч! Чай, не слепой! Вон дерут-то, трое-то!.. Я только подхожу сюда, вас проведать думал, а эти, гляжу, пятак подбросили. В орлянку, что ль, думаю, играют? А один, рыжий, тут и вякни: «Решка! Бей!» И это тут и…» Ну, мужики не дослушали — по деревне за братьями, только брызги по лужам… Ну, а братцы, надо понимать, ног не жалели… Ладно. Убежали. Сидят в леску и говорят: «Как же это мы Васютку-то потеряли? Где Васютка-то? Ну, как поймали его мужики?!» Им уж и не до выпивки теперь — ну, как младшего брата, парнишечку, сейчас кольями охаживают?.. А Васю мужики — в избу, знакомый ведь человек, посочувствовал беде хозяйской, тех охальников из души в душу крыл… Стакан ему поднесли, другой. Вася закусит, а нет-нет голову уронит и скажет: «Нехристи, право слово, нехристи… Честным людям в окошко, а? Ерофей Максимыч! Это как можно, а? Я как увидал — камнюгой он, рыжий-то… у меня в глазах тёмки!» Часа полтора Вася посидел с честной компанией, две песни подголоском вел, заливался. На дорогу ему Ерофей Кузьмич бутылочку в карман и сунь — за вежливость и сочувствие, хозяйка — полпирога отпахала… Идет Вася, глядь — братаны ему встречь, морды — как с похорон. «Не пымали?! Вась!..» — «Я, чай, Евсеев, а не какой зимогор!» И бутылочку братьям — в руки. «Пейте, говорит, за Евсеевых, братья! Спротив Евсеевых — силы нету!» — Шабаш, мужики, — сказал ротный. — Подымайсь. Выступаем. А тебе, Ванюшка, за беседу о русской находчивости, хоть и сбрехнул ты чуток лишнего, приказываю ехать на повозке. Ясно? — В тыл отчисляешь серого орла? — засмеялся Евсеев. — Ну, ладно, денек покантуюсь вне строя, раз заслужил… Нога-то у меня, если не врать, не шибко ходючая покуда… Спасибо, командир.17
Человек в Москве читал:«Гитлер отклонил предложение генштаба назначить командующим вновь созданной группы армий «Висла» фельдмаршала барона фон Вейхса, находящегося на Балканах. Гитлеру не понравилось то, что фон Вейхс религиозен. Командующим назначен Гиммлер. Начальником штаба группы армий Гиммлер взял бригаденфюрера СС Ламмердинга, командира танковой дивизии СС. Личность умеренных дарований, опыта крупной штабной работы не имеет. Гиммлер перевел свой штаб из Орденсбурга в Крессинзее. Без согласия генштаба отдал приказ об оставлении Торна, Кульма и Мариенвердера. Я пытался дозвониться по армейскому телефону до штаба Гиммлера, но связь с ним не работала вторые сутки. Коробов прислал служебную телеграмму. Его машина вышла из строя после столкновения с грузовиком, шофер ранен, положен в госпиталь. Коробов принимает меры, чтобы обеспечить себя транспортом. Телеграмма доставлена мне с опозданием на двое суток — факт, месяц назад немыслимый. Четвертый на допросах молчит. Привет!Циммерман».
18
В глазах Маркова уже начинали попрыгивать темные точки. Он сидел перед картой, расстеленной на том самом столе, на котором часов восемь назад обедал с Рокоссовским и Никишовым, старался запомнить названия деревень, мыз, фольварков, хуторов… Он потер пальцем вспотевший лоб (жаром несло от высокой кафельной печки), искоса глянул на Никишова. Командарм — в сером свитере с подвернутыми до локтей рукавами — постукивал карандашом по листу бумаги (Марков знал, что это — боевое распоряжение из штаба фронта, его привез какой-то майор час назад). Командарм приподнял голову. — Ну, сдвиги есть, перелом намечен, а?.. — Он улыбнулся, встал, заложил карандаш за правое ухо, проскрипел сапогами по паркету к столу. — Мучаешься?.. Сиди, сиди. Во-первых, я знаю, что ты довольно злой курильщик, а вот уже минут сорок не брал папиросы. Вывод: сидеть в одной комнате с этим Никишовым — дело скучное. — Да что вы, товарищ командующий! — Скучное, скучное, по тебе видно сразу. Во-вторых, сегодня у тебя лицо мученика за правое дело… Опровергать не стоит. И, в-третьих, по секрету тебе скажу, что Константину Константиновичу ты понравился. Днем ты из маршала просто слезу выжал своей гвардейской выправкой… В-четвертых, резюме: расстегни-ка ты воротничок, кури, и я буду рад, ежели ты скажешь мне словечко-другое, а?.. Давай-ка перекурим, Всеволод. Никишов достал из кармана брюк портсигар — обыкновенный, алюминиевый, что продавали в ларьках военторга, точно такой, со Спасской башней на верхней крышке, какой лежал в кармане брюк и у Маркова. — Прошу… Торопливо чиркнув спичкой, Марков встал, поднес огонек к папиросе командарма, взял папиросу из его портсигара. — Благодарю, товарищ командующий. Никишов погладил ладонью карту. — Спать, поди, хочешь? — Никак нет, товарищ командующий. — Садись… Я тебя специально сегодня поморю, уж терпи. Поскучаем за компанию часов до двух, глядишь, завтра ты и не будешь меня величать «товарищ командующий», когда одни тут несем службу-матушку… Никишов улыбнулся. — Сергей Васильевич… честное слово… я очень рад и… — Ничего, Всеволод. Все мы когда-то что-то делаем в первый раз. Ты видел, как сегодня Константин Константинович… когда полковник явился… Ведь волновался, а?.. Это же человек талантливейший, исключительный человек… Нет ему цены, Рокоссовскому, нет… Мастер, скромнейший человек… Нести на своих плечах ответственность за сотни тысяч солдат — штука трудная. А кому-то надо нести, надо, и долго еще Руси-матушке понадобятся Рокоссовские… ну, и мы, грешники, авось пригодимся. — Я понимаю, Сергей Васильевич… Надо стараться… — Надо — хорошее слово…-У тебя пепел, Сева, возьми вон пепельницу. Марков встал, подошел к письменному столу, положил папиросу в мраморную пепельницу. — Ну что ж, давай-ка над картой поколдуем, — сказал Никишов. — Разлюбезное это дело для служивого человека — карту зубрить… Марков сел на стул, смотрел на командарма. Папироса Никишова потухла, он пошел к печке, бросил туда папиросу, вернулся к столу («Господи, какой я дурак, ведь надо ж было принести пепельницу сюда…» — подумал Марков). — Найди-ка Егерсдорф, — сказал Никишов, снял с уха карандаш и протянул Маркову. — Чуть севернее… Так. А теперь я сижу с твоим земляком Суриным в нашем тарантасике, и катим мы прямо на северо-восток, к великому и славному городу Данцигу. Ну-с, попробую называть населенные пункты по маршруту… Марков вздохнул, взял карандаш и остро отточенным концом коснулся маленького кружочка с надписью «Егерсдорф». Когда количество названных Никишовым населенных пунктов подошло к третьему десятку, Марков глянул в загорелое лицо командарма. — Что, соврал? — спросил Никишов. — Сергей Васильевич, да ведь… — Значит, карту знать можно? — Да тут и за месяц я не… — Ну, хватил. Два-три часа. А метода, брат Всеволод, такая… — Никишов взял карандаш, тупым концом провел по карте черту с юга на север, потом левее — другую. — Представь — нарезаны полосы для дивизий, так? И, разумеется, для корпусов. Сразу учить карту, что называется, в мировом масштабе — не годится. Берешь полосу дивизии — и не жалей глаз. Улови основные пункты, дороги, массивы лесов, реки и прочую воду. Затем — соседнюю полосу. Здесь вся штука, что у тебя… как бы сказать?.. Совершенно определенный объект внимания. Не разбрасываешься. И результат будет наверняка… Карту тебе знать надо, Всеволод, будешь смелее чувствовать себя на местности. Для военного человека это важно, ты сам понимаешь, очень важно… — Понимаю, Сергей Васильевич. — Начни с правофланговой дивизии — и с богом, как говорится. — Никишов положил карандаш, пошел к своему столу, снял со спинки стула китель. — Сейчас приглашу начальника штаба Михаила Степановича. Старый служака, добрейший, но если увидит у тебя расстегнутый воротник… Еще унтер-офицерская школа лейб-гвардии Семеновского полка сказывается, уж что-что, а к соблюдению воинского вида там приучать умели. Никишов улыбнулся, одернул китель. — С начальником штаба тебе надо поладить, жить душа в душу, для пользы дела. Но если ты карту будешь знать, то благоволение Корзенева тебе гарантирую. Он взял трубку телефона (четыре аппарата стояли за его спиной на низеньком столике). — Резеду, пожалуйста… Корзенева… У себя нет? У оперативников? Начштаба у вас, майор? Попрошу ко мне. Никишов стал ходить вдоль книжной полки. Взял томик в зеленом переплете, полистал. — Марк Твен… Ты читал Твена? — «Приключения Тома Сойера»… «Жизнь на Миссисипи». — Для очень счастливых людей книги. По коридору — твердые, неторопливые шаги… Никишов положил книгу. В дверь постучали. — Прошу, Михаил Степанович, — сказал Никишов. Неторопливо вошел генерал в кителе стального цвета — на голову ниже Никишова. Марков, легко поднявшись, смотрел на благообразное лицо с квадратными стеклышками золотого пенсне на чуть вздернутом носу. — Здравия желаю, товарищ генерал, — отрывисто проговорил Марков. Генерал глянул на него, медленно склонил голову: — Здравствуйте, голубчик. И говорил генерал медленно, хрипловатым баритоном… — Мой офицер для поручений Всеволод Михайлович Марков, — сказал Никишов, улыбнувшись. — Вы уж, Михаил Степанович, возьмите его под свое попечение… — Почту за честь, товарищ командующий. Никишов указал рукой на кресло перед своим столом. — Прошу, Михаил Степанович. — Благодарю. Генерал не сел в кресло — опустился… Спокойно смотрел на командарма, — тот сел за стол. — Михаил Степанович, мне бы хотелось ознакомиться с вашими выводами по сводке потерь личного состава. Вас не затруднит? — К вашим услугам, товарищ командующий. — Вам сводочка не нужна, Михаил Степанович? — Командарм легонько постучал пальцами по желтоватому листку бумаги. — Благодарю, товарищ командующий, на цифры у меня память еще есть… Разрешите? — Прошу. Марков слушал этот немного церемонный разговор, склонившись над картой. Он еще не понял — понравился ли ему этот генерал, так непохожий на Никишова, или… — Считаю долгом подчеркнуть, товарищ командующий, — размеренно ронял слова Михаил Степанович, — главный вывод… э-э… касающийся вверенной вам армии в целом… Армия по учетным данным на вчерашнее число имеет весьма большой некомплект рядового, сержантского и офицерского состава. В цифрах это выглядит следующим образом… — Виноват, Михаил Степанович, — сказал Никишов. — Общие цифры помню. Мне хотелось бы получить анализ по соединениям, где потери особенно велики. — Слушаюсь… В среднем дивизии насчитывают сейчас по три-четыре тысячи человек… Совершенно разделяю вашу озабоченность, товарищ командующий, что отдельные дивизии понесли потери, значительно превысившие уровень потерь в соседних соединениях. Генерал кашлянул, снял пенсне, потер стекла большими пальцами. — Причины, Михаил Степанович? — Э-э… причины, товарищ командующий, разумеется, не будут абсолютно точными, я не могу сбросить со счетов, так сказать, поправочный коэффициент… э-э… на воинское счастье, если позволите так выразиться… — Михаил Степанович… А если без дипломатии? — Совсем худо, товарищ командующий. — Слушаю. — Потери, которые понесли отдельные дивизии, боюсь, не полностью оплачены успехами. Их трудно оправдать. — Наконец-то вы сказали то, что хотели сказать, Михаил Степанович… Не обижайтесь, но позволю себе высказать догадку. Ошибусь — прошу извинить. Вы не называете фамилий комдивов. Почему? — Назову, товарищ командующий. Утром был в двух офицерских госпиталях… Свежие раненые из дивизии Волынского… — Волынского? — Так точно. — Говорили с офицерами? — Настроение не совсем хорошее, товарищ командующий. Не слишком грамотная операция третьего февраля. Дивизия шла огульно, маневра — никакого… Правофланговый полк… э-э… подполковника Афанасьева имел успех, взял две траншеи, но командование дивизии, боюсь, не сумелововремя оценить благоприятную ситуацию, продолжало бить немца в лоб, Афанасьеву не помогло резервами… Результаты операции — весьма скромные, товарищ командующий… Но подчеркну, что три недели дивизия Волынского действовала успешно, шла впереди корпуса. Никишов постукивал пальцами по листу бумаги. — Успех — штука коварная. Вот после успехов и лезет напролом стратег Волынский, мой друг… Дивизия шла на выгодном направлении, не забывайте… — Направление и сейчас перспективное, товарищ командующий. Лучший путь к Балтике. — Надо признать свою вину. Мой грех. Я и расхлебывать должен… Закружилась у комдива голова от успехов, дело понятное, но я-то должен был предусмотреть… — Собственно, товарищ командующий, положение не столь уж… э-э… требующее каких-то особых мер, — осторожно сказал Михаил Степанович. — Не надо бояться правды, товарищ Корзенев. Ведь знаю, что кое-кто из комкоров и комдивов считал — рано еще дивизию доверять Волынскому… Я перед маршалом настоял… Ну, хорошо. Завтра выеду в дивизию, посмотрю на месте. Благодарю, Михаил Степанович. Как себя чувствуют оперативники? — Все сделано, товарищ командующий. Документы направлены в корпуса тридцать минут назад. — Что с авиатором? Дозвонились? — Согласовано. Поддержат. Часть сил дают даже с Третьего Прибалтийского… — Значит, за воздух можно быть спокойным. ВПУ[5] готовят? — Капитана Семенова я направил час назад. К четырем ноль-ноль должен доложить. — Михаил Степанович, как думаете? Не подчистить ли нам лишних людей в тылах? Есть ведь там хоть крошечные резервы? — Целесообразно, товарищ командующий. В ротах и батареях каждый лишний солдат пригодится. Насколько я мог судить по разговору с начальником штаба фронта, Ставка попридерживает резервы для берлинской операции… Еще под Сталинградом, помню, резервами Ставка не баловала, ждала своего часа… — Подготовьте распоряжение. Утром вручите начальникам служб армии. — Слушаюсь. — Роту охраны штаба направьте в дивизию по вашему усмотрению. — Товарищ командующий… Осмелюсь… — Ничего, Михаил Степанович, обойдемся. — По нашим тылам всякие личности еще передвигаются, товарищ командующий… Опасно остаться без охраны. — Когда в дивизиях узнают, что я роту охраны дал, поймут, что сейчас каждого солдата еще больше беречь надо. Да и в своих тыловых подразделениях лишних подчистят…. Благодарю, Михаил Степанович. Спокойной ночи. — Спокойной ночи, товарищ командующий. Михаил Степанович прошел мимо вставшего Маркова. — Спокойной ночи, голубчик. Когда начальник штаба вышел, Никишов проговорил негромко: — Худо, брат Всеволод, совсем худо… Мало солдат, дьявольски мало, а тут еще… Нехорошо с Волынским… Во всей армии нет мне ближе человека, вот какая штука, брат Всеволод… — Я знаю, Сергей Васильевич, солдаты любят товарища полковника… Он очень справедливый, у нас в дивизии все так говорили. Никишов расстегнул две верхние пуговицы кителя, остановился у книжной полки. — Том… Никакого ответа… Том… Никакого ответа… — проговорил вдруг Никишов. — А завтра мне нужен ответ, очень нужен, Всеволод. Дивизию-то Волынского маршал хочет взять на время в другую армию. И если там мой друг опростоволосится, то… Понял, Всеволод? — Я думаю, все хорошо будет, Сергей Васильевич. — Оптимист… Что ж, неплохо быть оптимистом, брат Всеволод. Только человек уж так устроен — сделал сегодня добро, а завтра ему хочется сделать еще больше. Да, машинка мудреная — человек… Если б в сорок первом дивизия Волынского так действовала, как до этого чертова Егерсдорфа, — через три месяца он бы генерал-лейтенантом был наверняка. А теперь мы недовольны… Крепко мы выросли за войну, отличная армия сейчас у России… Ты после войны куда собираешься, Сева? Марков смущенно почесал висок. — Наверное… Наверное, служить буду, Сергей Васильевич… Никишов засмеялся. — В генералы целишь, друг мой, а?.. Ну и правильно. Чем плохо быть генералом лучшей в мире армии? Совсем не обидная участь, брат Всеволод. А?.. — Не выйдет из меня генерала… — Ну, поднажмешь малость — глядишь и… — Знаете, Сергей Васильевич… Как-то у меня получается… Вот, например, Миша Бегма, солдат у меня был. Ну, поливает он из котелка, умываюсь, а как-то мне… ну, как-то совестно… Что я за барин, чтобы мне… А вот старший на батарее у нас — тот совсем по-другому… Ну, нехорошо, мне кажется, заставлять солдата подшивать воротничок на кителе… И вообще… Никишов искоса глянул на Маркова. — По секрету скажу — пусть будет совестно заставлять солдата делать что-нибудь для тебя даже тогда, когда будешь маршалом, да, да, Сева, не шучу… Это тебе страшную тайну всех генералов выдаю. Ну, если уж душой не кривить… не всех товарищей с широкими погонами, но в принципе — эти товарищи стали генералами по ошибке. Во всяком случае — в этом убежден, брат Всеволод… Когда делаешь доброе дело для одного человека — это приятно. Но когда делаешь добро для тысяч, для десятков тысяч — это, брат Всеволод, называется счастьем… Ну, вижу, спишь совсем… Иди-ка вздремни, иди… — Да я совсем… — Рекомендую подчиниться. А то, брат, у меня испортить тебе настроение уставом столько прав предусмотрено, что мне самому страшно… Никишов засмеялся, взял карандаш из руки Маркова. — Шагом марш. — Слушаюсь, товарищ командующий, — улыбнулся Марков, быстро поднялся. — Знаете, Сергей Васильевич… вот напишу маме… А она не поверит, что мне так хорошо. Правда! — Мама поверит… Мамы всегда верят, что их сыновья достойны хорошего… Ну, спокойной ночи, Сева. — Спокойной ночи, товарищ командующий.19
В утренней полумгле Марков с крыльца увидел квадратное пятно на шоссе — это был «виллис» командарма. Правее машины посверкивали две яркие точки, Марков подумал, что точка повыше — это огонек папиросы Никишова. Вторая точка то пропадала, то снова показывалась — это, наверное, курил Егор Павлович… Марков сбежал с крыльца, подошел к командарму, поздоровался немного смущенно, командарм протянул ему руку. — Поднял меня Максимыч поздно, товарищ командующий, извините. — Как я приказал, так и выполнил Максимыч, — улыбнулся Никишов. Шагах в пяти Егор Павлович сказал: «Здравия желаю, Илья Ильич!» Из-за машины вышел невысокий человек в бекеше, в генеральской папахе из светлого каракуля. — Сергей Васильевич, вспомнил вот, вернулся, — сказал веселым тенорком человек в бекеше и засмеялся. — Девичья память стала… Майор Волынская просила тебе передать пожелание всяких благ, в первую очередь — здоровья. — Видел? — Славная армяночка. — Когда же ты успел? Ты же из мехкорпуса вернулся? — Да тут по пути, маленький крюк сделал… С замполитом Волынского потолковал, потом в полк Афанасьева завернул, ну, и Сильва Грантовна сказала, что очень хочет тебя повидать. Ты как-нибудь спланируй время, командарм, нельзя старых ладожцев забывать. — Вот еду старым ладожцам настроение портить… — А не густо будет, Сергей Васильевич? Я ведь замполиту кое-что неприятное уже сказал… — За Егерсдорф — не будет густо, Илья Ильич… Добавлю немного трезвости в голову полководца Волынского. — Трезвость никому не лишняя, это ты прав. — Илья Ильич, прошу любить и жаловать. Мой порученец… — Гвардии лейтенант Марков! — Глухо стукнули каблуки яловых сапог. — Марков? Вы из дивизии Волынского? Член Военного совета Тарасов… Рад, товарищ Марков. А ведь это о вас писали в нашей армейской, что вы спасли своего солдата… гм, гм… фамилию вот запамятовал, украинская фамилия… — Бегма, товарищ генерал, — сказал смущенно Марков. — Рядовой Бегма… Там, товарищ генерал, написали… не совсем… — Ну, суть, надеюсь, не пострадала, не Бегма вас из Вислы вытащил, а вы его… — По голосу было понятно, что Тарасов улыбается. — Да, Илья Ильич, тут к слову о нашей газете, — сказал Никишов. — Вызови-ка нашего писателя и остуди его голову… Что это он за глупость вчера тиснул на первой странице? Читал? — Читал. — Аршинными буквами тиснул: «Убей немца!» Он что, обстановки не понимает? Неладно, Илья Ильич. Ты четыре дня по корпусам ездил, вот редактор и ошалел от радости, что сам себе хозяин… Такой вопль сейчас о немце неуместен. Кричать — «убей немца»… не то, не то, Илья Ильич… Поправь редактора. Тарасов полез в карман бекеши, вытащил светлый квадратик, протянул командарму. — Вчерашняя «Красная звезда»… У авиаторов был, свежую взял. Статья есть — именно об этом, Сергей Васильевич… Ты у нас провидец, а? Они засмеялись. — Ты уж не отыгрывайся за своего сочинителя. — Не отыгрываюсь. А статья разъясняет проблему с абсолютной точностью. Поворотная точка в войне, Сергей Васильевич, в нашей духовной стратегии. Я там подчеркнул абзац, увидишь. Примерно так сказано: наш боец на территории Германии — это представитель нового мира, это сын Советского государства… У него — высокое чувство собственного достоинства. Месть наша — не слепа, гнев — не безрассуден… Так что, Сергей Васильевич, придется нам круто ворочать руль, лозунг «убей немца» ушел в историю. — Слава богу, как говорится… А редактору все-таки надо будет указать… Опытный политработник, черт бы его драл, ну, чувствовать должен и без статей в «Красной звезде», что обстановка изменилась, мы не под Ладогой грязь месим, а по Германии шагаем. — Я уже дал команду — провести партийные собрания, комсомольцев собрать, все политотделы на это нацелил, Сергей Васильевич. Ничего, в армии служат умные люди, поймут… Пожалуй, вот что санкционируй, Сергей Васильевич, — разреши разослать по корпусам, чтобы с народом поговорили, армейских начальников. На передовой сейчас тихо, думаю — можно и начарта, и начсвязи, тыловика, инженер давно в бумагах увяз, пусть потолкуют с народом… — Дело. Прикажешь, я задержусь на день у Волынского, постараюсь побывать где-нибудь на собрании. Поворот крутой… — Осилим. — А редактору ты все же… Тарасов засмеялся. — Не любишь ты прессу, командарм. — Умную — люблю. — Никишов посмотрел на Маркова. — Всеволод, будь любезен, прогуляйся до бронетранспортера. Что-то наша лейб-гвардия сегодня не торопится. Там старший сержант Гаврилов командует, поторопи. — Слушаюсь! Во дворе штаба за решетчатыми воротами (створки их как раз распахнул солдат в полушубке) рокотнул мотор, заглох, снова зарокотал, почихивая… Яркий свет фар ослепил Маркова. — Порядок, Михалыч! — сказал из тьмы Егор Павлович. — Зажигание барахлило чуток. Едем!20
Их знала вся Седьмая армия. Старенький «ЗИС-5» сворачивал на обочину полтавского шляха, в дурманно пахнущие сладостью июльские хлеба. Его видели у прокаленных солнцем белых дорог верхней Донщины. Стоял он в облаках пыли у истоптанного сотнями тысяч солдатских сапог, разбитого гусеницами танков заволжского проселка. Он останавливался у сожженных деревень, пахнущих толовой гарью развалин городских улиц. Его видели под стенами замков Львовщины, на узких шоссе у Сандомира. Катил он по брусчатой мостовой германских деревень… Два старых солдата вылезали из кабины «зиска». Иногда они курили, сидя на подножке, прячась от студеного ветра или жаждая тени в летний полдень. Иногда им было жаль коротких минут, которые они отводили на перекур, и старики отбрасывали задний борт машины, брали по лопате, кто-нибудь из них тащил на плече лом… Лопаты выбрасывали из неглубоких ямок чернозем или каменную россыпь гальки, суглинок или комья мертвой ледяной земли… Потом старики шли к машине, снимали с высокого штабеля фанерных щитов лежащий сверху… И у дороги, что бежала по украинской земле, или петляла меж курганов на берегу Дона, или стремительно уводила глаза вдаль, к дымящимся крышам немецкого города, один из солдат доставал из кармана гимнастерки или полушубка, телогрейки или шинели мятый блокнот, и под огрызком карандаша трудно рождались на бумаге даты: «19 августа 1941», «6 ноября 1942», «9 августа 1943», «27 апреля 1944», «9 февраля 1945»… Потом выводила усталая стариковская рука: «Щитов двуопорных установлено 27». А на фанерных щитах, что оставались у дорог, слова сочились кровью, сполошно звенели набатом беды, от этих слов плакал без слез командир разгромленного полка, опускал голову парнишка с кровяными мозолями на ногах в опревших портянках, не перемотанных от самой границы, не мигая смотрел на эти слова солдат, сидевший на броне последнего в бригаде танка, что гудел мотором из последних моторесурсов, уходя на восток, на восток, на восток… На красном фоне — белые буквы, на черном — желтые, на голубом — синие… Родина-мать зовет! Враг будет разбит! Победа будет за нами! Убей немца! Стойкому бойцу враг не страшен! Гвардеец! Не посрами славы отцов и дедов твоих! Советский народ не будет стоять на коленях! И снова два старых русских солдата бьют ломом в мерзлую землю и дышащую житным духом черноземную теплынь, споро разворачивают лопатами… А слова на щитах… На красном фоне — белые буквы, на черном — желтые, на голубом — синие… Слава героям Сталинграда! Вперед, на запад! Молодой боец, настойчиво учись опыту старой гвардии! Даешь Вислу! Вот оно — логово фашистского зверя! Освободим народы Европы от гитлеровской чумы! Возмездие пришло, Германия! До Данцига — 140 километров!21
— Перекурим, Авдей? — Да ну к богу, в кабинке уж… Метет-то… — Фрицевска погодка… У нас в феврале пуржит, так снегу навалит к урожаю, в пользу, а здесь не поймешь чего… То снег, то дожжик, гнилая сторона… — Герма-а-ания… Два солдата, стоявшие возле фанерного щита в десяти метрах от шоссе, взяли по лопате, а тот, что был повыше, подхватил с утоптанного валенками грязного снега лом. — Закосили малость левый-то угол, а? — сказал тот, что повыше, и поднял воротник полушубка. — Сойдет! Все одно через неделю сымать. Данциг энтот, говорят, с ходу брать будем… — Это дело… Может — с ходу, а может — и покорячишься еще с Данцигом-то… Солдаты по давней привычке еще раз, напоследок, глянули на щит (на желтом квадрате — черные буквы: «Убей немца!»), пошли к облепленному мокрым снегом «зиску», оставляя земляные следы от подошв валенок… — Ноги-то оббейте, работнички, — сказал шофер, открывая дверцу. — Заводи давай, сонное царствие, — сказал шоферу тот солдат, что был повыше, пошел вдоль борта, забросил лопату в кузов. Прищурившись, смотрел на быстро приближавшийся «виллис»… — Сергуни машина-то, — сказал за его спиной напарник, поколачивая носком валенка по скату машины. — Его, его… «Виллис» проскочил мимо грузовика и вдруг остановился. Солдаты сняли брезентовые рукавицы, сунули в карманы полушубков, стали рядом. В высоком человеке, шагавшем чуть согнувшись от ветра, узнали командарма. — Ты докладай, Авдей. — Воротник-то откинь… Бекешу на командарме снегом облепило… — Здрав желам, товарищ генерал! — в одно дыхание сказали солдаты и дернули ладони к шапкам. — Здравствуйте, товарищи. Из-за плеча командарма выглянул высокий парнишка в шинели с лейтенантскими погонами, улыбнулся. — Убей немца, точно… товарищ командующий, — сказал парнишка. — Сколько вы этих «убей немца» поставили, отцы? — спросил Никишов. Солдаты переглянулись. — Пятый плакат… виноват, шесть штук было за два дни, товарищ генерал! — сказал тот, что был повыше. — Придется снять, товарищи. Трудов ваших жаль, а снять придется. — Слушаюсь! — Высокий солдат глянул на напарника. — Сымем, товарищ командующий. Грунт размякши, — сказал низенький. Никишов смотрел на лица стариков, старательно выскобленные бритвой никак не позже сегодняшнего рассвета. — Передайте своему начальству — снять все плакаты «убей немца» сегодня же. — Так точно, — сказал высокий. — Сполним, товарищ командующий, — сказал низенький. — Штука-то простая, товарищи, — сказал Никишов, улыбнувшись. — Под Ростовом или на Днепре — дело ясное, там немец только в мундире перед нами был. А здесь немец… здесь же перед нами немецкий народ, миллионов восемьдесят, и не только солдаты, вот в чем штука-то, товарищи. — Это так точно, товарищ командующий, — сказал низенький. — Теперьче, выходит, сортировочку немцу надо делать? Марков за спиной командарма засмеялся. — Слышишь, Всеволод, диалектику? — сказал Никишов. — Именно, отец, сортировочку. Именно. Значит, все ясно. До свидания, товарищи.22
На широкой просеке (не понять было в метельной непрогляди — коротка ли, длинна ли) стояли у правой стены сосен танки. На темно-зеленые корпуса намело уже сугробики снега: видно, танки стояли здесь давно. «Виллис» Никишова медленно ехал по изрытой гусеницами танков дороге. — Двадцать три, — сказал Марков и кашлянул смущенно: считать танки было явно ненужным сейчас делом. Никишов глянул в маленькое, затуманенное зеркальце над передним стеклом. — Математик, одно слово, — сказал Егор Павлович. — Артиллерист, у них без счету — что мне без бензину. Маркову с заднего сиденья было видно в зеркальце: улыбнулся командарм… — Сергей Васильич, а ведь вы мне дорогу не ту дали, — сказал Сурин. — Так на передок аккурат выкатим, немцу под нос… — Газуй-ка лучше. — Нагазуем к фрицам. Штаб-то дивизии — налево надо было, Сергей Васильевич. Броневик связистов налево свернул, точно. — У тебя, Егор, нюх на штабы… А нам сейчас не к начальству надо. Газуй. — Вам виднее, товарищ командующий. — И по голосу Егора Павловича было понятно, что не нравится шоферу ехать неизвестно куда. Шагах в тридцати от просеки, справа, в просвете между двумя танками, Никишов увидел длинную палатку. Зеленая брезентовая стенка ее словно дышала под напором ветра… Несколько санитарок в телогрейках натягивали веревки, что-то покрикивали… — Стой, Егор, — сказал Никишов, повернул голову к Маркову. — Прогуляйся, Всеволод, узнай — где вторая рота. Это из полка Афанасьева, должны знать. — Слушаюсь. Марков не удержал улыбки, когда задняя дверца после его небрежного взмаха руки захлопнулась со звоном. Так, улыбаясь, он подошел к девушкам, что возились с веревками. — Здравия желаю, товарищи медики! Девушки смотрели на Маркова чуточку настороженно: видели санитарки, что этот красивый молоденький лейтенант подъехал на «виллисе», машине для большого начальства. — Адъютант командарма гвардии лейтенант Марков! — Здравия желаем, товарищ лейтенант! — нестройным хором ответили санитарки и засмеялись. — Мне надо вторую роту вашего полка. Где тут проехать лучше? Санитарка, что стояла у угла палатки, сказала торопливо: — Та туточки близенько ж, товарищ лейтенант! Ось зараз проехать вам, мабудь, двести шагов, тоди и побачите. Такесенький сарайчик по праву руку, товарищ лейтенант. Близенько. — Ясно. Спасибо за целеуказание. Козырнув, Марков медленнее, чем следовало бы, пошел меж сосен к машине. Никишов открыл дверцу. — Двести шагов вперед, Сергей Васильевич, там сарайчик. — Ага. Оставим Егора, прогуляемся. — Да чего это, Сергей Васильевич? — сказал Егор Павлович. — Бензину вам жалко? Никишов засмеялся, вылез из машины, поднял лицо к небу. — Очаровательная погодка. Он махнул рукой Сурину. — Подгони к девчатам, отдыхай, может, землячку найдешь. Пошли, Всеволод. Ступая по следам командарма, Марков никак не мог согнать улыбку с озябшего на ветру лица. Он вспоминал санитарок и думал, что долго их не забудет, — ведь так вышло, что первый раз он представился как адъютант командарма этим девчонкам… И еще думалось Маркову, что не мешало бы сейчас встретить кого-нибудь из знакомых офицеров полка Афанасьева, ну, хотя бы Венера Горбатова… «Адъютант командарма гвардии лейтенант Марков…» И улыбнулся еще веселее, сообразив, что ведь шагает он за командармом как раз во вторую роту, к Венеру Кузьмичу. Но меж сосен почти не было видно людей, Марков шагал мимо палаток, походных кухонь, курящихся дымками, грузовиков под тентами; слева пошумливала мотором самоходка, и возле нее о чем-то кричали друг другу два солдата в черных полушубках, за самоходкой грязный след автомобильных колес перебежал солдат в гимнастерке, с пустым зеленым ведром в руке… Никишов остановился, повернулся спиной к ветру, закурил, глянул на Маркова. — Замерз? — Что вы, товарищ командующий! Я старый пушкарь. — А я такую погоду плохо переношу… Сорок третий год отыгрывается… В траншею я тогда влетел, в апреле, под Ладогой, чуть богу душу не отдал. Никишов поглубже натянул папаху, опять зашагал, дымок его папиросы долетал до Маркова. — Всеволод, иди-ка поближе… Марков поравнялся с командармом. — Вот идем с тобой по тылам, — сказал вдруг Никишов. — А чем эта роща отличается от рощи сорок первого года? Марков улыбнулся. — Высотой, товарищ командующий. И годовыми кольцами. — Высотой? — Так точно. Выросла за три года. — Да ты у нас остряк, Всеволод… А я вот что хотел сказать. В сорок первом мы по хламу бы шагали. Черт знает, что за порядки были! Какой только дряни после любой роты на привалах не оставляли… А уж если недельку где тылы постоят — тут сам черт ногу сломит. Набросают, нахламят, намусорят — ужас… Некультурно, брат Всеволод, воевали. Приказов грозных сочиняли — пудами, а толку было — на грош. Да, времечко… А вот сейчас, обрати внимание, идем мы по полковому тылу, а порядок — как в главном саду хорошего города. По всем обычаям сорок первого года здесь валяться ящикам, пустым бочкам, ломаным телегам… чего только не накидывало наше тыловое воинство… Ты думаешь — о пустяках говорю? — Я понимаю, Сергей Васильевич, нет, все понимаю. Сейчас в армии порядок просто… Да вот когда еще ехал к вам, Егор Павлович хотел в танковую колонну заскочить, а регулировщица и слушать не хочет, правда! Не положено, говорит. А у нас в штабе? Я вчера зашел в комендантскую роту, там новый караул заступать готовился. У нас в училище меньше придирались, честное слово, Сергей Васильевич! Старшина… вот забыл… армянин… — Мкртычан. — Да, да! Так он половине караула приказал перешить подворотнички. Марков, забывшись, сдвинул шапку на затылок и, вздохнув, смутился… Он заставил себя вытерпеть эту недисциплинированность шагов восемь и, поправив шапку, снова вздохнул. Стоявший у входа в блиндаж невысокий солдат в новой телогрейке оглянулся. На плечах — старшинские погоны. — Ванька… злодей ты мой… — сказал Никишов. — Сергей Васильич!.. Марков смотрел на бледное, в веснушках лицо старшины, — оно было видно наполовину из-за плеча командарма, — смотрел, как руки старшины припали к припорошенной снегом спине командарма. — Васильич, родной! Марков вспомнил: это же старшина Евсеев, парторг…23
Опершись плечом о трухлявое бревно стенки сарая, Марков курил, поглядывал на солдат и сержантов, что грудились возле командарма… Странное чувство было сейчас на душе у Маркова. Полчаса назад командарм так неожиданно для Маркова стал на какие-то минуты незнакомым человеком. Он поцеловал веснушчатого старшину, потом заплакал, да, Сергей Васильевич заплакал… «Ладожский ты кочколаз… Ваня…» — сказал Сергей Васильевич, и старшина отступил на шаг от него, вытер лицо ладонями. Нет, никогда Сергей Васильевич не будет смотреть на Маркова, как смотрел на этого старшину. И потом, когда они спустились в блиндаж, просторный немецкий блиндаж с обшитыми тесом стенками, и старшина сказал, что мигом слетает за Венером (Марков вспомнил: Венер — это же ротный Горбатов), Никишов смотрел на старшину так, как никогда не будет смотреть на Маркова… И вот сейчас, стоя у сарая, с крыши которого белыми дымными языками веял снежок, Марков думал: какие-то непонятные отношения, разгадать которые ему не удавалось, связывали Сергея Васильевича со старшиной Иваном Ивановичем, командиром роты Горбатовым, с его ординарцем, низеньким солдатом Борзовым, которого все звали «Николаич»… Тогда, в блиндаже, Марков помалкивал, примостясь на нарах у самой двери. Он был здесь посторонним, чужим для всех, кто сидел или стоял рядом с Сергеем Васильевичем. Он видел, что Сергею Васильевичу сейчас хорошо, очень хорошо, и он, наверное, забыл, что он командарм, он называл старшину Ванькой, Ваней, Ванюшкой, ротного — Кузьмичом, а этого ординарца с седой щетинкой на коротко стриженной голове — Николаичем… В немного суматошном разговоре Маркову ничего не говорили слова о Ладоге, каких-то Кислых Водах, о какой-то огневой точке номер четырнадцать, об Антонове, про которого Горбатов сказал — «маршал Антонеску зануда был первого сорта», и непонятно было выражение глаз Сергея Васильевича, когда старшина помянул о какой-то рыжей Альке, о Вечке Березницком… Ротный Горбатов, когда начали говорить об Альке, предложил помянуть ладожцев, которые остались в тех проклятых Кислых Водах, и все замолчали. Николаич с закаменевшим лицом подошел к длинному дощатому ящику, достал фляжку, немецкую фляжку, обшитую серым сукном, и старшина Иван Иванович… — Всеволод! Марков, вздрогнув, оттолкнулся плечом от сарая, выпрямился, бросил папиросу. К нему подходил командарм, и солдаты расступались. — Ты что это пригорюнился? — Никишов улыбнулся. — Я… никак нет. — На собрание пойдешь? Или к Егору?. — Разрешите с вами. — Ну что ж, оставайся. Старшина Иван Иванович вышел из ворот сарая, остановился в пяти шагах от командарма, с ухваткой служаки довоенной выучки поднес ладонь к виску. — Товарищ командующий! Партийная организация второй стрелковой роты просит вас присутствовать на партийно-комсомольском собрании! Парторг роты гвардии старшина Евсеев! — Благодарю, товарищ гвардии старшина. Евсеев отступил на шаг, улыбнулся. — Товарищи! Прошу… в зал заседаний! Марков вошел в распахнутые ворота следом за Никишовым. В полумраке горели три фонаря «летучая мышь», расставленные на краю походного стола с железными ножками. Солдаты сидели на соломе, курили… — Товарищ командующий, прошу вас сюда, пожалуйста, — сказал старшина Евсеев, что стоял сбоку стола, и подвинул складной стул. Все засмеялись, когда Никишов, садясь на солому рядом с Борзовым, сказал: — Не избран еще, парторг. Евсеев, улыбнувшись, подвинул фонарь. — Товарищи коммунисты и комсомольцы… Есть предложение начать работу нашего собрания. — Начать! — закричало несколько голосов. — Так. Настроение гвардейское. Есть предложение избрать в состав президиума трех человек. Другие пред… — Голосуй! — Из трех! — Правильно! Евсеев успел сказать только — «Прошу называть…» — и Борзов крикнул, хотя сидел у стола: — Товарища Никишова-а! И, сконфузясь, надвинул шапку до бровей. — Товарища командующего! — Евсеева! Евсеева! — Шароварина! — Горбатова-а! — Малыгина! — Никишова запиши! Избрали Никишова, Евсеева и Шароварина. — Товарищи! — сказал Евсеев, пошептавшись с командармом. — Товарищи! Повестка дня нашего собрания предлагается следующая… — Знаем — задачи коммунистов в бою, — сказал кто-то из сидевших сзади, и солдаты негромко засмеялись, кто-то баском крикнул: «А ну, тихо, комсомол!» — Нет, товарищ Малыгин, — сказал Евсеев, прищуриваясь. — Не угадал. Повестка дня — отношение Красной Армии к немецкому народу и задачи коммунистов. Будут другие предложения? В сарае стало тихо. — Немецкий народ… сволочи они все!.. — проговорил кто-то сзади Маркова. — Закройся, темнота рязанская… — Тихо, братцы… Евсеев опять подвинул фонарь на столе. — Нет других предложений?.. Слово предоставляется командующему Седьмой ударной армией генерал-полковнику Никишову Сергею Васильевичу… Евсеев внушительно кашлянул, сел. Солдаты пошуршали соломой, устраиваясь поудобнее. Никишов вышел на шаг перед столом, медленно расстегнул пуговицы бекеши, снял папаху. — Ваш уважаемый парторг… мой друг Иван Иванович оказал мне честь, пригласив принять участие в работе вашего собрания… Доклада делать не буду, а вот поговорить с вами, товарищи, мне очень нужно… Могу сказать, что сегодня весь высший командный состав армии выехал в части, к коммунистам и комсомольцам, на такие же собрания, как наше… И вот почему. Мы — на немецкой земле. Понятно, что это обстоятельство не только радостное, гордое для каждого из нас, для всего нашего народа. Оно, это обстоятельство, совершенно по-новому ставит перед нами вопрос: как воевать? И здесь подразумеваю не воинское мастерство — в нем мы сильны сегодня, а завтра будем еще сильнее. Жизнь ставит перед нами иную, более глубокую проблему — мы и немцы. Не те немцы, что носят шинели, а их отцы и матери, дети и внуки… Думаю, ясно, что первыми ответ на эту проблему исторического значения должны дать коммунисты. Ответим правильно, — значит, нам легче будет бить немца в шинели. Ошибемся — вдвойне, втройне укрепим силы немца в шинели, вынудим его сражаться до последнего вздоха… а немец — солдат злой, это вы не хуже меня знаете. Никишов помолчал. — Мы с вами вершим сегодня историю… А ее суть сегодня такова, что мы, советские люда, защищаем будущее немецкого народа, а те, кто дерется против нас, губят это будущее. Мы пришли из страны, где человек человеку — друг. И самый верный, самый надежный друг — коммунист… А что такое коммунист? Каждый в душе по-своему отвечает на этот вопрос… Все мы, конечно, помним формулировку в Уставе партии большевиков, но не об этом сейчас говорю. Вот, извините уж, скажу о себе… В сорок третьем году разжаловали полковника Никишова до рядового… Пошуршали солдаты соломой, и все стихло. — Вот Николай Николаевич Борзов сидит. Мы с ним под Ладогой как в раю жили, помнишь, Николаич?.. — Так точно, товарищ командующий, — тихо сказал Борзов. — Ну что ж. Лежу на нарах в блиндаже… Думаю… Народ, партия воюют, а я, коммунист Никишов, на обочине? Отсыпаюсь на нарах? Виноват или не виноват ты, коммунист Никишов? Решил — нет, не виноват. Буду выполнять свой долг, как умею, как учила партия, как учил отец, большевик, знавший Владимира Ильича. Ну, а полковничьи погоны… что ж, полковников в армии и без меня хватит… Главное я сберег — чистую совесть. Без чистой совести жить не хочу. Вот и отвечаю на вопрос, о котором говорил: коммунист — это человек, который может жить только тогда, когда у него чистая совесть и слова «Родина», «Россия», «партия» он имеет право говорить полным голосом… Нет сейчас звания почетнее, чем коммунист — русский, советский коммунист. Мы вот сидим в немецком сарайчике, а ведь от нас зависит вся будущая история человечества, товарищи… Сотни поколений будут жить после нас на земле, а наше поколение главным поколением так и останется навечно. Убьем фашизм — будет человечество жить, не убьем — погибнет. И может ли сегодня, завтра русский солдат, советский воин, видеть врага в немецкой старухе, в немецком мальчишке?.. Может ли коммунист поднять руку на беззащитного, поверженного наземь человека, хотя в нем и немецкая кровь?.. Кто посмеет совершить это, кто забудет о великой чести России, страны Ленина, тот наш злейший враг, того будем уничтожать беспощадно! Мы помним кровь и муки Отечества, но крови детей и стариков Германии нам… Никишов помолчал… Потом повернулся к Евсееву, сказал негромко: — Худо мне… извини… Ваня… сердце, черт… Евсеев вскочил. — Сергей Васильич!.. Непонимающе смотрел Марков на командарма… Кто-то вскрикнул, и спины вскочивших солдат закрыли командарма… Марков протолкался к столу. Высокая женщина в зеленой шинели (не приметил ее раньше Марков) расстегивала верхние пуговицы кителя командарма — сидел он на стуле, чуть сгорбившись, виновато улыбался взмокшим лицом… — Сергей Васильевич! Вызывать машину? Сергей Васильевич! — торопливо проговорил Марков и глянул на женщину. Теперь он увидел на ее шинели узкие погоны старшего лейтенанта медицинской службы. — Пустое, Марков. — Командарм глянул на старшину Евсеева. — Сорвал тебе дело, Иван… Давно такого безобразия со мной не было… Ладога привет прислала… — Полегчало, Сергей Васильевич? — сказал Евсеев. — Может, в санбат? — Товарищ командующий, надо постельный режим, — сказала женщина. — Сердце переутомлено. — В Берлине на неделю завалюсь отсыпаться… Ничего, доктор, обойдется. Мне уже… Все нормально. Спасибо вам. Дайте водицы, ребята, и кончим… — Товарищи, у кого фляжка с собой? — крикнул Евсеев. — Товарищ командующий, это может кончиться… нехорошо, — сказала женщина. — Пустое, — сказал Никишов, взял из рук какого-то сержанта фляжку с отвернутым колпачком, глотнул и закашлялся. — А закуски у хозяина нет?.. Все засмеялись. Марков вздохнул. — Садитесь, товарищи! — крикнул Евсеев. — Садитесь, продолжим работу собрания! Марков пристроился на соломе в первом ряду. Садились солдаты, затихал говор…24
В глубоком, с крашеным желтым полом блиндаже (видимо, занимал его сутки назад немецкий офицер в чинах), куда вошли Никишов и гвардии полковник Волынский, было сумеречно — в нескольких шагах от узкого оконца темнели стволы сосен… — Здравия желаю, товарищ командующий! — вытянул сухое долговязое тело пожилой ординарец Волынского. — Здравствуйте, Еленкин, — сказал Никишов, снимая папаху и стряхивая с нее капельки талого снега. — Иди, Григорьич, позову, если понадобишься, — сказал гвардии полковник, расстегивая полушубок. Солдат подхватил с пола медный чайник и вышел из блиндажа. Гвардии полковник встретил Никишова десять минут назад (позвонил о командарме командир второй роты Горбатов, где шло партийное собрание) и почему-то чувствовал себя неуверенно: никогда еще с ним не бывало, что не мог угадать настроения Никишова, и сейчас ничего нельзя было понять по такому знакомому лицу Сергея Васильевича… Пожалуй, оно бледнее, чем обычно… Горбатов сказал по телефону, что сердце у командарма приболело, отпустили его с собрания. — Венер мне звонил, что… Береги себя, Сергей Васильевич, — сказал гвардии полковник. — Берегу, берегу, не волнуйся. Садись, ругать буду. — Никишов отодвинул железный стул от стола под суконной синей скатертью. — Слушаюсь, товарищ командующий. — Волынский сел, снял папаху, небрежно бросил на стол. — Разрешите курить, товарищ командующий? Никишов побарабанил пальцами по сукну скатерти. — Не рисуйся службистом, не идет тебе… Товарищем командующим и без твоего величания останусь… А вот ты… благодари судьбу, что у Рокоссовского служишь. — И у Никишова, если уж рассуждать по такой логике, — усмехнулся Волынский. — И у меня. Не отрицаю. Растолкуй мне замысел операции под Егерсдорфом, — сказал Никишов, и у Волынского дрогнула левая щека со шрамом. Усмехнувшись, Волынский стал расстегивать полушубок — под полой свисал на тонком ремешке пухлый планшет коричневой, залоснившейся кожи, — еще по Ладоге был знаком планшет Никишову… — Карты не надо, местность помню, — сказал Никишов. — Два часа ходил по полю, где ты славы дивизии не прибавил… — О славе думаешь? — За доброй славой — малая кровь, за дурной — сотни похоронок почтальоны по Руси понесут. — Ну, что же… Замысел нехитрый. Боюсь, в учебники тактики как образцовый не гож… На правом фланге шел полк Афанасьева. Батальон резерва ему придал. Обошли опорный пункт немцев в роще «Треугольник», здесь помогли поляки, двенадцать танков атаковали вместе с Афанасьевым… Затем, когда взяли вторую траншею, я приказал… — Прости, Евгений, но врешь ты сейчас, друг мой. Волынский медленно встал, запахнул полушубок, пальцы его нащупывали крючки… — Сядь, полковник. Теперь будь любезен, выслушай меня… Никакой ясной мысли в эту операцию ты не вложил. Понадеялся, что немец уже бит твоей дивизией, отходит, хорошо был до этого Егерсдорфа бит немец, не отрицаю… Сам видел на поле сотен пять мертвых немцев, когда выезжал глянуть на место твоего конфуза. Но затем — нахрап, дурацкий нахрап в стиле бездарных комдивов образца зимы сорок второго года… Не тех, что под Сталинградом немцу кровь пустили… Бестолковщина. В бою не было стержневой идеи. А немец-то драпать отнюдь не торопился… Ты способный, грамотный командир. Экий конфуз на всю армию… Вслух-то не говорят твои коллеги, комдивы, но… Потери — из ряда вон. Треть офицеров выбита из строя в полку Муравьева, Ты не блеснул в этом бою, а уж твой хваленый Муравьев… Получил орден Александра Невского и думает, что награда гарантирует ему легкие победы. Ты хоть понял, что Муравьев подвел тебя?.. Ты на него понадеялся, а он и блеснул, сукин сын. У Афанасьева ордена Невского нет, зато голова есть толковая, чувство командирской ответственности, а ты его недооцениваешь, помнишь развеселого парня, ротного командира на Ладоге, а вот подполковника Афанасьева, отличного командира полка, друг мой, не заметил. — Сергей Васильевич, это совершенно не так… — Помолчи. Я распорядился — вернется твой хваленый Муравьев из госпиталя, кадровики отправят его в резерв, да, да, пусть сидит в резерве, пока не поумнеет! За такие ратные подвиги… Это тебе только говорю, Евгений Николаевич… Добряком хочешь прослыть? Жалко Муравьева? Почему не представил мне обстоятельного рапорта на этого сукина сына? Почему? Побоялся, что командарм подумает — Волынский свой грех на чужие плечи норовит переложить, а?.. Ну — спасибо, если так думал… А я надеялся — кто-кто, а Евгений Волынский меня еще не зачислил в круглые идиоты. — Сергей Васильевич! — Нехорошо, Евгений. Нам с тобой тысячи мужиков жизни свои доверили, а ты копеечными соображеньицами руководствуешься… Учти — только тебе говорю. В штабе армии, не скрою, так никто пока не думает. Старик Корзенев — тот считает, что под Егерсдорфом ничего особого не произошло. А я говорю — произошло, потому что знаю — полковник Волынский воинским талантом не обделен, голова у него ясная, воля — есть, характер — есть… А то, что с полковником Волынским происходит, — результат поганенькой болезни шапкозакидательства. В Восточной Пруссии прошлой осенью кое-какие горячие головы думали, что добегут с песнями до Балтики, а немец и сегодня дерется остервенело за каждый сарай, за каждую мызу, Кенигсберг выкидывать белый флаг не спешит… А сорок второй год не забыл? Кое-кто из наших генералов разве не думал, что уже в этом году немца можно разбить, что под Москвой немец уже начал свое отступление до самого Берлина?.. А что было потом? Немец ударил на юге… на весь мир транслировал радиопередачи — водичкой из Волги булькал перед микрофоном, сволочь… Нет, Евгений, на легкие победы рассчитывать не годится. Перед нами — Данциг, орешек ничуть не слабее Кенигсберга, ничуть… А взять его должны с ходу, одним ударом… Рокоссовский знает, что говорит, когда ставит перед фронтом такую задачу. Застрянем под Данцигом, значит, целый фронт не успеет на Одер, а один Жуков там будет возиться не неделю и не две… Опыт войны учит — только отлично организованные стратегические удары, взаимодействие фронтов — верный путь к успеху… Ну, хорошо, Евгений. Все эти вещи ты и сам понимаешь, а вот действовала твоя дивизия не блестяще, нет… Мне твоих покаянных словес не надо, Евгений. Думаю — понял меня, оправдываться не собираешься… Так? Волынский усмехнулся. Рубец на щеке стал багровым. — Оправдываться, Сергей Васильевич, не трудно… — Точнее? — Не хочу оправдываться. Нет нужды. — Вот как? — Сергей Васильевич… не уважал бы тебя, не сказал бы. — Ну, об уважении и прочем, думаю, не стоит поминать. — Я как раз о «прочем» хочу сказать… Армия знает — не будь Никишов командармом, не получил бы дивизии и Волынский. — Экая блажь… — Сергей Васильевич! Как ты был… как бы это сказать… идеалистом, так и… — Так и помру им. Дальше? Волынский потер раненую щеку ладонью. — Скажи откровенно, Сергей Васильевич, почему ты сделал карьеру? Извини, но это слово — точное… Трофейная зажигалка Никишова никак не загоралась. Потом вспыхнул огонек. Никишов прикурил, поставил зажигалку перед собой, покручивал на сукне. — Точное слово? Ну что же, ответ будет, пожалуй, тоже точным… Я служил у Малиновского… А Родион, видишь ли, из тех людей, которые спят спокойно, если в их подчинении не дураки. — А ты… спокойно спишь? — Представь. — Так, вывод ясен… Маленькую толику в причине спокойного почивания могу, следовательно, и я принять на себя? — Можешь. — Благодарю. Но тогда уж позволь слово сказать, Сергей Васильевич. — Оправдываться все-таки будешь? — Нет. Обвинять. — Кого же? — Тебя, Сергей Васильевич… если разрешишь, разумеется… Они помолчали. Никишов положил потухшую папиросу на зажигалку. — Слушаю, Евгений Николаевич. — Спасибо… Для начала позволь вопрос… Сколько раз был у тебя за последнее время маршал? Никишов поморгал, улыбнулся. — Маршал? Гм… Трижды. Да, три раза приезжал Константин Константинович… — А сколько визитов командарма-семь я могу насчитать в дивизию? Никишов взял недокуренную папиросу, чиркнул зажигалкой, но огня не было. — Чертова техника… Волынский полез в карман полушубка, достал коробок спичек. — Возьми расейскую старинушку, надежней… Они закурили. Молча смотрели друг на друга. За узким — щелью в полметра — оконцем блиндажа прошагали чьи-то сапоги. Человек спросил у часового при входе: «Гвардии полковник здесь?» — «С командармом они толкують, товарищ гвардии подполковник, приказано никого не пускать», — ответил часовой. «У меня срочное дело!» — «Не могу знать. Командарм шибко злой, товарищ гвардии подполковник». — Афанасьев? — сказал Никишов. — Успеет, — сказал Волынский. — Злой командарм… шибко злой… А это я должен быть шибко злым на тебя, Сергей Васильевич, я… Без малого месяц не был у меня командарм. Месяц! А почему? Возможности не было? Исключено. Во всех дивизиях не раз был, вся семерка знает, что ты не охотник отсиживаться в штабе, а вот в нашу дивизию… как заколдовали… Почему? А потому, что опасался генерал-полковник Никишов, как бы не подумала чья мудрая голова: опять командарм к Волынскому направился, днюет и ночует у своего, так сказать, дружка закадычного, за старые дела добром платит, за Ладогу… Плоха ли жизнь у комдива, если за негосам командарм думает, за ручку того счастливца водит. А счастливчик… счастливчик спать спокойно не может, да, не имеет он такого роскошного сна, как командарм, потому что трудно ему в считанные дни взять дивизию в свои руки, это ведь не полком командовать в обороне под Ладогой… Ошибаюсь — виноват, а не ошибаюсь… Только чувствую — нет здесь ошибки, Сергей Васильевич, нет. Волынский медленно застегивал крючки полушубка. — Женя… помню, как ты тогда… в сорок третьем… сам настучал на машинке приказ, две лычки на погон мне подарил… Помню, верь… Мне те лычки дороже, чем теперь лишняя звезда на погон. — Невелик подвиг — на машинке настучать приказ, — сказал Волынский, никак не нащупывая на полушубке петли, чтобы зацепить крючком. — Перестань. — Позволь папиросу? Кончились мои трофейные… — Волынский бросил в пепельницу скомканную пачку сигарет. Никишов достал портсигар. — Ладожский еще? — Волынский улыбнулся. — А я думал, что ты уж золотой себе завел… — С брильянтами… — Никишов нахмурился. — Виноват, выходит, перед тобой крепко, брат Евгений. Виноват… Чертова штука — жизнь. Где-нибудь да споткнешься… Забыл я, как самому туго приходилось, когда армию доверили, забыл. Волынский покашлял. — Слишком крепкие куришь, Сергей Васильевич. А я вот на эрзацы перешел… Дрянь — да не страшно, по две пачки в день тяну… — Ну что ж, начнем, как говорится, новую страничку в житии святого Сергия, который оказался сукиным сыном. — Да брось, Сергей! Черт меня за язык дернул… — Не утешай. Ладно. Наговорили предостаточно. Надо дело делать. Будем считать, что я кой-чего усвоил. — Сергей Васильевич, право… — Вот что, отец-командир. Дивизию еще на сутки попридержу во втором эшелоне. Доложишь комкору. Отдохнет народ — готовься со всем корпусом на главное направление, пойдешь на самом горячем месте, учти… Данциг будем брать — постараюсь быть поближе к дивизии. Не возражаешь? Волынский засмеялся. — Никак нет, товарищ командующий. — Очень хорошо. К комкору претензии есть? Сработался? — Старик башковитый, только вот слишком изящным стилем, бывает, по рации с нашим братом, комдивами, изъясняется… Но мы на старого драгуна зуб не точим, мужик славный, с таким воевать можно, Сергей Васильевич. — Приятно слышать. — Афанасьев там ждет. — Волынский оглянулся на дверь. Он не успел встать — поднялся Никишов, подошел к двери, открыл. Смуглое, обветренное лицо гвардии подполковника Афанасьева было таким странным, что Никишов вздрогнул. — В чем дело, Семен Андреевич? Заходите. Низенький гвардии подполковник закрыл дверь. — Товарищ командующий… разрешите… — Да вы что… больны? Нехорошо? — Никишов, нахмурившись, глянул на вставшего Волынского. Афанасьев протянул командарму правую руку, в которой была свернутая трубочкой синяя бумага. — Мне?.. — Никишов взял бумажку, развернул. Карандашом на листке какого-то медицинского бланка — неровные строчки.«Дорогой Сергей Васильевич! Извините, что беспокою. Не повезло мне немножко. Была на батарее, перевязывала раненого солдата, попала на обратном пути под артналет. Рана легкая, в левое плечо, но могут эвакуировать в тыл, боюсь. Если вы попросите начальника медсанбата, могли бы оставить здесь. Очень прошу, дорогой Сергей Васильевич!Никишов перевернул бумажку, подергал ее за концы, глянул на Волынского. — Вот… ты не волнуйся… Сильва пишет… Волынский прочел записку, медленно перегнул ее пополам, провел пальцами по сгибу. — Сергей Васильевич… Она ведь… Она ушла от меня… Три месяца уже… Вот у Афанасьева в полку… — Ушла?! Никишов подошел к столу, взял папаху. — С ума вы сошли с Сильвой. Нет, это… — Это просто означает, что Сильва послала меня к черту. Я думал, знаешь… о моем семейном счастье… Никишов посмотрел на Афанасьева. — Где она? — Отвез Сильву Грантовну в медсанбат дивизии, товарищ командующий. Она очень… очень просила она, товарищ командующий… Вас хотела повидать. — Едем. — Никишов глянул на Волынского. — Извини, Сергей Васильевич, я не могу… Не могу. Никишов отвернулся, надел папаху. — Такое она не простит, Евгений… Афанасьев раскрыл дверь.С уважением — Сильва».
25
У молоденькой медсестры не хватало верхнего зуба. Никишов смотрел на дрожавшие губы девушки, потом отвернулся. Услышал — она прикрыла дверь, и по коридору глухо зашлепали войлочные подошвы — медсестра побежала за начальником медсанбата. В светлой, в четыре окна, комнате совсем недавно, видимо, был кабинет директора гимназии. На правой стене висела большая картина в лакированной раме. Белый длинношеий конь поднял ногу, на ярко-зеленой траве лежала под копытом шапка суворовского фанагорийца. Черный мундир всадника был распахнут, узкое лицо смотрело из-под черной треуголки… Никишов расстегнул бекешу, снял папаху, бросил на коричневое кожаное кресло перед широким письменным столом, накрытым накрахмаленной простыней. — Товарищ командующий… Медико-санитарный батальон занимается по распорядку дня… — Тихий женский голос заставил Никишова повернуться к двери. — Помешал я вам, Эсфирь Матвеевна… — Никишов виновато улыбнулся низенькой полной женщине в белом халате, в белой шапочке на рыжеватых, с кудряшками волосах. Рукопожатье Эсфири Матвеевны было крепким, она не отпустила ладони командарма, а легонько прикрыла своей ладонью его запястье. — Сергей Васильевич… Нехорошо… Пришлось ампутировать руку… Делали переливание крови, но… — Она же писала, что… — Это я, Сергей Васильевич… Она просила, и я… Сергей Васильевич, я вас не пущу, на вас лица нет… Нельзя вам, ради бога, у вас же больное сердце! Эсфирь Матвеевна отпустила руку Никишова. — Где она? Эсфирь Матвеевна молча смотрела на командарма… Медленно подошла к шкафу со стеклянной дверцей, достала оттуда халат. Никишов снял бекешу, набросил на кресло, где лежала папаха. — Позвольте, Сергей Васильевич… — Эсфирь Матвеевна хотела помочь Никишову надеть халат, но командарм справился сам, застегнул все четыре белые пуговицы. Никишов пошел за Эсфирью Матвеевной по длинному коридору. На коричневой двери — стеклянная табличка «VII класс», готические буквы посверкивали совсем свежим золотом… Эсфирь Матвеевна вошла в дверь, оглянулась. — Одну секундочку, Сергей Васильевич. Поверх белой шапочки Эсфири Матвеевны Никишов увидел ряд спинок кроватей голубого цвета, белые табуретки перед ними. Неслышно ступая войлочными туфлями, Эсфирь Матвеевна свернула к пятой от двери кровати. — Сергей Васильевич… Никишов шагнул в дверь. Карие глаза улыбнулись ему так знакомо. — Сильва… — Никишов нагнулся, поцеловал ее лоб. — Она у нас молодец, — сказала Эсфирь Матвеевна. — Я не буду мешать. Вот табуреточка, Сергей Васильевич… — Да, да, — торопливо сказал Никишов. За его спиной мягко прикрылась дверь. — Сережа… на эту сторону… здесь… рука, — сказала Сильва спокойно, но Никишов почувствовал, что не может подняться с табуретки: боль в сердце ударила резко. Он несколько секунд сидел, не различая лица на подушке… Потом оно снова выплыло из тьмы. — Пересядь… Сережа… Никишов встал, перенес табуретку. Голубоватое суконное одеяло прикрывало маленькое тело Сильвы до подбородка, оно слабо шевельнулось справа, у коленей Никишова. — Возьми руку… Сережа… Никишов сел, осторожно погладил концами пальцев то место на одеяле, которое шевельнулось снова. — Хотела тебя обнять… всегда хотела… Сережа… не обниму теперь… всегда хотела… — Сильва… — Тогда… в блиндаже, на Ладоге, помнишь?.. Нес меня на руках, и я… я думала, Сережа… А ты сказал — спокойной ночи… ты сказал… Умру, я знаю… Так хотела, чтобы обнял меня тогда… очень крепко обнял… Так хорошо вижу тебя… Помнишь, когда ты на Ладоге… И я сказала, что поеду с тобой в Ереван… Помнишь?.. Ты садился на лошадь, ну, тогда… у штаба, ехать во вторую роту… И я увидела тебя… Я умру… Я хочу, чтобы ты жил долго… долго живи, Сереженька, долго… — Сильва, маленькая… — Никогда… никогда не обнимала Евгения, никогда… Слышишь? Никогда не обнимала, слышишь?.. — Ты поправишься. Ты поправишься и… Сильва. — Я умру. Сережа… Не хочу об этом. Я хочу о тебе… господи, как хорошо, что я могу тебе… все могу сказать… Ты уехал с проклятого болота… мне было очень плохо… Нельзя обмануть душу, нельзя… А я обманывала… Я никогда не буду тебя обнимать, но я тебя люблю… Ты слышишь, Сергей? Ты прости, что сказала… Евгений знает, что я тебя… Знает… Я во сне говорила — «Сережа»… Нехорошо это, плохо это, когда рядом человек, а ты не любишь его… Но я ничего не могла изменить, Сережа… Поцелуй меня… и уходи… Я не могу… Пожалуйста…26
Санитарка заплакала. Никишов смотрел на нее. В коридор вышла Эсфирь Матвеевна, сняла белую шапочку. — Двенадцатая палата, за вторым-то идите! — крикнул кто-то в конце коридора. — Попрощайтесь… Сергей Васильевич, — сказала Эсфирь Матвеевна.27
Желтый свет ручного фонарика едва угадывался на тропе, утоптанной по снегу. Никишов шел за оперативным дежурным по штабу дивизии Волынского, майором в длинной шинели. — Обрежьте балахон, — сказал Никишов. — Слушаюсь, товарищ командующий, — сказал майор и подумал: «Выпил командарм, точно, я сразу догадался, когда он в землянку вошел… А говорят — ни капли не принимает». — Двадцать сантиметров — прочь, — сказал Никишов. — Слушаюсь! Не успел подогнать по уставному положению, виноват, товарищ командующий. — Бросьте болтать, Энгельгард, — сказал Никишов, и майор улыбнулся, благо было темно: память-то у командарма… Ведь он узнал фамилию майора только пять минут назад, когда слушал рапорт. — Здесь, товарищ командующий, — тихо сказал майор, и свет фонаря упал на маленькую, в четыре ступеньки, лесенку, прислоненную к задней стенке фургона на «ЗИС-5». — Свободны, Энгельгард. — Слушаюсь! Желтое пятно от фонарика майора скрылось за темными стволами сосен… Никишов вздохнул, поднялся на две ступеньки, постучал кулаком по фанерной дверце, и неожиданно гулкий звук вспугнул тишину. — Какого дьявола там? — Голос Волынского был резок. — Входите! Толкнув дверь, Никишов перешагнул высокий, в полметра, порог фургона. При ярком свете лампочки под голубым потолком увидел: женщина… совсем девчонка… гимнастерку в руках стиснула… Евгения гимнастерка, с орденами… а, подворотничок подшивала эта… Волынский — в сером свитере — поднялся с топчана. — Садись… гостем будешь, — сказал глухо. Никишов подшагнул к маленькому столику, тяжело уперся о него руками… — Послушай, Сергей, — сказал Волынский. — Сядь, Сергей… — Любовь… Мерзко это… Убирайтесь… У него… жена у него умерла… а вы здесь… Уходите… Никишов снял папаху, уронил к сапогам. — Ему плохо! — вскрикнула девушка. Волынский усадил Никишова на топчан, поднял папаху, встряхнул зачем-то… — Женя… умерла она… Волынский зажмурился. — Сильва умерла, — сказал Никишов. — Молчи… молчи, Сергей. — Ему надо лечь, — сказала девушка. — Сильва умерла…Никишов уснул. Он шагал по улице. Он знал, что эта улица в Новороссийске. Рядом шел отец и вел за руку маленькую черноглазую девочку. «Папа, как ее звать?» — спросил Никишов. Отец засмеялся. «Ты же генерал, Сережка, зови-ка меня батей…» — сказал он. «Папа, ты выдумываешь, у нас давно уже нет генералов, папа!» — засмеялся Никишов. Было очень жарко на улице, длинной и узкой, и какие-то странные дома с красными и зелеными черепичными крышами стояли на этой улице, и над балконами, над парадными подъездами свисали белые флаги. «Папа, ведь в революцию были красные флаги, а почему здесь белые, папа?» — сказал Никишов, вытирая кулаком глаза, которые ело от пота, было очень жарко на этой узкой улице с белыми флагами. «Папа, как зовут эту девочку? Почему ты мне не говоришь, папа?» Девочка засмеялась, вырвала ладонь из руки отца. «Я не знаю, чудак… Откуда же мне знать?» — сказал отец. «Меня зовут Инесса», — сказала девочка и, попятившись, спряталась за ствол дерева, которое стояло почему-то посредине брусчатой мостовой. Отец, смеясь, уперся ладонями в дерево, ствол качнулся и стал медленно, очень медленно падать. «Папа! Не надо, папа!» — закричал Никишов и вдруг увидел девочку. «Идем, ну идем же», — сказала девочка. Дерево все еще падало, а отца не увидел Никишов. «Папа!» — закричал он. «Ты будешь один, я тоже уйду», — сказала девочка. Никишов смотрел, как падало дерево, подминая ветви. «Не надо!» — закричал Никишов, но девочка вошла под ветви. Он прыгнул, вытягивая вперед руки, но дерево все клонилось, все клонилось ветвями к брусчатке, Никишов видел сквозь ветви белое лицо девочки, очень белое лицо в капельках пота. «Иди ко мне!» — закричал Никишов, и девочка сказала: «Ты будешь один». Никишов заплакал, но уже ничего не было видно в ветвях. Они упирались в брусчатку, и дерево перестало падать. «Инесса! Я пойду с тобой! Инесса!» — закричал Никишов, ломая руками ветви. И сквозь них увидел — стояла на крыльце, широком каменном крыльце, черноглазая девочка, нет, девушка в серой шинели, в шапке, смотрела на Никишова. «Галя, Галя Чернова…» — подумал Никишов. — Галя… — пробормотал во сне командарм. — Надо врача, — сказала Галина. — Нет, нельзя, — сказал Волынский. — Ты не знаешь Сергея, а я знаю. — Он хороший. — Ты посиди, Галя. Я вернусь через час. Посиди. — Я с тобой. — А ты знаешь… куда я? — У Волынского дрогнули губы. — Я хочу попрощаться с нею. — Не плачь. — Я с тобой.
28
Оперативный дежурный майор Энгельгард уже третий раз вышел из блиндажа, где по приказанию гвардии полковника Волынского собрались командиры полков и начальники служб штаба дивизии, но «хозяин» (как по привычке говорил майор о комдиве) все еще не приезжал. Краснощекое, пухлогубое, совсем еще мальчишеское лицо гвардии майора было сейчас в меру озабоченным (вчера гвардии майору впервые доверили высокие обязанности оперативного дежурного по штабу дивизии), в меру строгим (майорские погоны только вторую неделю носил Энгельгард), но, пожалуй, явственнее всего виделось на его лице чувство уязвленного самолюбия… Этот левофланговый недомерочек, эта коротышка, командир полка гвардии подполковник Афанасьев, мнивший себя остряком, этот трепач (с обидой думал гвардии майор, стоя возле блиндажа и покусывая папиросу) сразу заметил, что еще вчера щегольски, по-кавалерийски длинная новенькая шинель Энгельгарда утром вдруг стала короче, и, черт побери, много короче… Энгельгард в который раз вспомнил ухмылку на скуластом, словно обожженном за зиму ветрами, лице гвардии подполковника Афанасьева, швырнул папиросу на дымившуюся под утренним солнцем, грязную, истоптанную сапогами землю и неторопливо стал спускаться по деревянным ступенькам к двери блиндажа. Тянулась из блиндажа струя папиросного дыма… — Ну как, товарищ оперативный? — сказал гвардии подполковник Афанасьев (сидел возле оконца, закинув ногу на ногу, и курил немецкую сигарету), и все офицеры почему-то стали смотреть на Энгельгарда. — Папаня не едет, а? — Соскучились? — сказал Энгельгард и пожалел, что не промолчал: понял — коротышка опять готов потрепаться. — Нехорошо, Павлик, — сказал Афанасьев, покачивая сверкающим носком сапога. — Я тебя по-человечески спросил, а ты сразу свой надменный питерский характер… Нехорошо… — Не будем о характерах, товарищ подполковник, — сказал Энгельгард, чувствуя, что щекам становится жарко. — Э, Павел Дмитрич, нехорошо обижаться. Мы тут все свои парни, ладожские кочколазы, а ты… Играет в тебе баронская кровь, а?.. Что-то я читал о твоем, наверное, дедушке… Барон Энгельгард… Точно. За дочкой Николая Первого ухлестывал барон, за Марией Николаевной, точно, точно. В чьих это я воспоминаниях читал? Вот запамятовал… — Мой дед, к вашему сведению, был паровозным машинистом, — сказал Энгельгард сухо. — И вообще, я попросил бы… — Все. Готов, — сказал Афанасьев, и офицеры засмеялись. — Готов, завелся наш Павлик. С пол-оборота. — Товарищ гвардии… — Чудак, я же просто хотел, чтобы ты поделился опытом, как это ловко так шинель отчикал на полметра, ровней ровного. Тут ведь тоже своя технология нужна. Поделись, Дмитрич, а? Энгельгард промолчал. Лысый, бритый до синевы, пожилой командующий артиллерией дивизии гвардии полковник Вечтомов сказал негромко: — Сейчас молодым офицерам не служба, а удовольствие… Вот меня, бравого прапорщика, в четырнадцатом году господа офицеры лейб-гвардии Преображенского полка цукали, так уж цукали. Был такой гусь, штабс-капитан князь Енгалычев… Немецким снарядом в рай его отправило, так наш брат, прапорщики, на радостях недельный запас водки у своих фельдфебелей вылакали. Вечтомов неторопливо закурил толстую папиросу. — История… А кажется, вчера было дело… Идем мы как-то под вечер из корчмы, штабс-капитан Енгалычев свои именины отмечал, старшие офицеры от чести разделить его застолье уклонились, ну-с, а прапорам — не отвертишься… Тридцатого августа было. День памяти перенесения мощей великого князя Александра Невского… Нашего-то князька Александром звали. Ну, идем в батальон, под хорошим хмельком, разумеется… А у заборчика стоит вольнопер, ну, вольноопределяющийся. Доброволец. Енгалычев увидел, остановился. Говорит: «Юноша, извольте приблизиться». Ну-с, вольнопер — руку под козырек, каблуками щелкнул. «Ваше благородие, вольноопределяющийся Пятого Каргопольского драгунского полка Рокоссовский честь имеет явиться!» — Рокоссовский?! — даже привстал Афанасьев. — Константин Константинович самолично стоял перед нашим именинником. Смотрим мы на него — красавец парень, выправочка — хоть на пост у кабинета царя. Ну, Енгалычев предложил ему в наш батальон перевод устроить, имел слабость князек, чтобы в первом взводе на строевом смотру вот такие орлы стояли, как этот вольнопер в драгунском мундире… — Прямо не верится, — сказал командир артиллерийского полка гвардии подполковник Якушев. — А мне все думалось, что нашему маршалу лет сорок от силы… Ох, хорош человек… — Чем же кончилось, товарищ полковник? — сказал Энгельгард. — Рокоссовский видит же, что князек-то — в дугу, ну, поблагодарил за честь, но сказал, что не хотел бы расставаться со своим взводом… Енгалычев его под руку, ведет к себе, на ординарцев цыкнул — те стол накрывают. Выпили еще, князек наш силен был по водочной части… Потом приказал подать коня, укатил к какой-то польке отсыпаться… А я еще Рокоссовского провожал до его эскадрона. Умница. Говорил тихо, коротко, точно… Тогда ведь манера была в обычае — по пустякам сотню слов молвить… — Аркадий Андреевич, а ты с Рокоссовским сейчас разве не встречался? — сказал Афанасьев. — Видишь ли, Сеня… Я немного представляю круг обязанностей командующего фронтом, — улыбнулся Вечтомов. — Мало ли кто знает Рокоссовского. Хотел было написать ему, да… — Товарищ полковник! Не правы! — сказал, краснея, Энгельгард. — Вы просто обязаны написать ему, честное слово! — Ну, ну, ты это напрасно, Павел, — сказал Вечтомов, вздохнув. — Да ведь маршалу будет так приятно увидеть вас, вот честное слово, Аркадий Андреевич! Все засмеялись. — Да он меня и не помнит, — сказала Вечтомов. — Воды утекло с четырнадцатого… — Помнит! — сказал Энгельгард. Он увидел, что офицеры вдруг поднялись, бросая окурки в обрезок гильзы от орудийного снаряда на краю стола… — Товарищи офицеры! — внушительно, строго сказал гвардии полковник Вечтомов, глядя мимо Энгельгарда на дверь блиндажа. Энгельгард торопливо крутнулся на каблуках — и встретил взгляд командира дивизии… — Садитесь, товарищи, — тихо проговорил командир дивизии, почему-то не отходя от двери. И когда офицеры сели, сказал все тем же непривычно тихим голосом: — Прошу извинить, задержался. Провожал командарма. Волынский снял папаху, положил на стол. Все почему-то смотрели не на него — на папаху… — Сергей Васильевич Никишов предложил мне подумать — могу ли я выполнять обязанности командира дивизии. Вот… Пришел к вам… Говорите… Майор Энгельгард смотрел на серую смушку папахи и чувствовал, как у него дрожат губы, он сжимал рот все плотнее, но губы дрожали. — Сядьте… Евгений Николаевич, — сказал гвардии полковник Вечтомов. Он был старейшим офицером здесь, и все ждали, что он скажет. — Если мое присутствие… излишне… я выйду… — Зачем же обижаете нас, товарищ гвардии полковник? — сказал Афанасьев. — Вместе под Егерсдорфом… были, вместе и… — сказал командир артиллерийского полка гвардии подполковник Якушев. — А потом как мы солдатам в глаза глянем? — сказал командир стрелкового полка гвардии майор Нискубин. И опять все смотрели на папаху комдива, потому что нельзя было сейчас смотреть на гвардии полковника. Рука Волынского взяла папаху… Шаги его по деревянным ступенькам выхода из блиндажа были медленны. — Товарищи офицеры… Считаю своим долгом старшего напомнить… — Гвардии полковник Вечтомов поднялся, и все поднялись, смотрели на него. — Дело нашей офицерской чести… Ни одного слова об этом разговоре не должно быть произнесено… Честь командира дивизии — наша честь, товарищи. А там, на поверхности земли, — слышно было офицерам в блиндаже, — веселый, по-служебному традиционный скороговорливый голос: — Товарищ гварр полковн!.. За время моего дежурства в штабе ввер вам дивиз никак происшенепроизошло! Дежур пис штаба гварр старр сержант Макаров! И негромкий голос комдива: — Вольно.29
Человек в Москве читал:«Проверен факт посещения генерала Гудериана новым связным чиновником от министерства иностранных дел доктором Паулем Барандоном. Военная верхушка ищет возможности для заключения сепаратного мира с западными державами. После визита Барандона состоялась встреча Гудериана с Риббентропом в кабинете министра на Вильгельмштрассе. Подчеркну — это первый контакт Гудериана с Риббентропом после вступления первого в должность начальника генштаба (в июле 1944 года). Четвертого февраля Гудериан встретился с Геббельсом. Беседа продолжалась около сорока минут. Вечером Геббельс сказал мне (я привез лекарство для одной из дочерей, достав его в шведском посольстве): «Никому нельзя верить. Вы знаете, наш бравый танкист (т. е. Гудериан) пытался уговорить меня, чтобы я доложил фюреру о желательности дипломатических переговоров с этими проклятыми английскими быками! Гудериан пугал меня, что русские танки через четыре недели будут на Александерплац! Струсил наш бравый Гейнц! Мы будем драться так же, как дрались ленинградцы, да, да!» Считаю крайне важными эти факты, свидетельствующие, что военная верхушка рейха хочет попытаться установить контакт с нашими союзниками. Гиммлер занят этой же проблемой, попытаюсь установить точнее. Привет!Циммерман».
ГЛАВА ШЕСТАЯ
00.22. 19 апреля 1945
КОМАНДАРМ
Не надо думать о звонке маршала. Что напишет мне Инна? Напишет ли?.. Если не напишет… Инна… Она постояла со мной всего несколько минут в коридоре данцигского сената… Мне было хорошо с нею… Странная, неожиданная была встреча в данцигском сенате. Но я сразу почувствовал, что мне хорошо, когда Инна смотрит на меня. Порохом пахло там, гарью. Польские солдаты шумели, высовывали в окна флаги. Инна стояла — такая неожиданная среди солдат… И Андрей Манухин волновался, когда знакомил меня с дочерью… Нет, не надо об этом. Не надо. Двадцать две минуты первого…ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
От того блиндажа, где ротный Горбатов «выступаем» сказал, — сорок верст отшагал Борзов. А на сорок первой версте… На сорок первой черные шинели перед ротой встали. — Фрицевские морячки, — сказал Венер Кузьмич, под кустиком припав к земле. — В сорок первом в Либаве давил гадов… Против наших балтийцев — мусор… — Товарищ гвардии старший лейтенант, — сказал Борзов, лежавший рядом с ротным, — за хлястик держать вас не буду. Надоело хлястик рвать… Ротный голову повернул, сказал с усмешкой: — Хватит, Коля, пошумели — и будет. Это в сорок первом наганишкой впереди роты размахивали, немца на испуг брали. Мы сейчас культурненько морячкам этим кровью морды умоем… Проскочи, Коляша, к пулеметчикам, прикажи: ежели без моей команды хоть очередь дадут, я им… Давай! — Слушаюсь! Покрутился Борзов меж кустиков, добежал до пулеметного взвода. — Товарищ гвардии младший лейтенант! Командир роты приказал огня не открывать до его команды! — Злой Кузьмич-то? — спросил взводный. — А чего? Сейчас чин чинарем этим морским фрицам секир-башка будет, первый раз, что ль? Опять рядком с ротным Борзов приткнулся… — В сорок первом-те году, товарищ гвардии старший лейтенант, я с трехлинейкой на фрица бегал… Ну — не приведи господь. Мы «ура» шумнем, а фриц нас минометами, минометами, сучий сын… Пойдем в атаку — нас сотня, в обрат вернемся к окопам — половина оставалась, а то и меньше… Такое было лето — слезы… Не времечко, Венер Кузьмич, ударить? — Погодим. — Вроде аккурат бы… — Не зуди душу, старый хрен!.. На сорок первой версте… Поле снежное черным стало… Только ругал потом себя гвардии рядовой Борзов: не углядел, а ротный — вот он, чертушка конопатый, длинными ногами на поле вымахал… — Ребята-а! Гвардейцы!.. Морскую душонку Гитлерюге — вон!.. За мно-о-о-о-ой!.. А когда шагали сорок третью версту, бормотал Борзов за спиной ротного: — Ура, ура… Убьют тебя на немецкой земле, черта, эка радость. По уставу, положено тебе это… бой организовывать, а не впереди бегать… Пойду к Афанасьеву, вот тогда он тебе… Моду взял — впереди бегать… Устав для него не писан. Убьют, а какая польза-то… — Не пророчь, старый хрен, — Горбатов посмеивался. — Пробегись-ка до третьего взвода, опять колонну растянули. «Бесполезное это дело — русского мужика перед боем остуживать, — размышлял Борзов, рысцой пробегая в тыл роты. — Словно нечистая сила какая ему душу зажигает, дьявол подзуживает и никаких!»30
У раскрытой дверцы «виллиса» стоял Егор Павлович Сурин, курил, сдвинув на затылок новенькую танкистскую фуражку с черным бархатным околышем. Кожаная куртка с двумя рядами начищенных пуговиц была распахнута, на плечах зеленели погоны младшего сержанта с кантом из трофейного красного кабеля. — Ого! Вот это машиночка! — сказал Марков, сбегая с крыльца. — А, Михалыч… — Сурин щелчком отбросил окурок. Марков провел ладонью по капоту, блестевшему свежей темно-зеленой краской. — А здорово сделали, Егор Павлович! Сурин подмигнул. — Еще б не здорово! Мастеровых я заве-ел… беда! Понимаешь, приехал, с ходу — к майору Громову. Ага. Так, мол, и так, дельце есть — машинешечку командарма надо подновить. А майор на меня глаза — во: «Да ведь десять дней назад ты, Егор, у нас тут безобразничал, всю мастерскую замучил! Мы же машину отделали, ну, не знаю, как еще надо…» Крутит майор, ага. А я — контрнаступление во фланг. Как это, говорю, безобразничал, товарищ майор? У вас, говорю, патриотизм есть? Или вам, говорю, не совестно, когда этот летун, командующий воздушной армией, подкатывает к штабу фронта на своей машине как король, а я везу Сергея Васильевича — у меня душа вон, стыдобушка? Марков засмеялся. — Да нет, тут смеху мало, Михалыч! Я серьезно. Сергею Васильевичу больно наплевать, на чем ездит, знаю я его. А мне?.. А? Чтоб мой командарм этому летуну уступил?.. Завел я майора на полные обороты, гляжу — Семена Прохорыча зовет, главного своего доку. «Егор, говорит, к нам претензии имеет…» Ну, и Прохорыч завелся… А я по мастерской топаю — ребятам патриотизм разжигаю! — Нет, правда, красиво сделали, — сказал Марков. — Будь здоров парни повкалывали, от души. Мотор-то ведь новенький поставили, теперь до нашей красули этому летуну куда-а! Два подфарничка — так, аккумулятор — зверь… А сигнальчик-то? С «оппель-адмирала» ребята переставили — симфо-о-ония, Михалыч! Сурин просунул в машину руку, и чистое трезвучие прокатилось по двору… — Все, Михалыч, можешь докладывать командарму — транспорт в порядочке! — Сурин лихо захлопнул дверцу. Кто-то окликнул Сурина от ворот: — Егор Павлыч! Тут немец вот, с бумагой какой-то! Часовой у ворот, высокий солдат в затянутой новым ремнем шинели, с автоматом на левом плече, стоял рядом с пожилым немцем в черном длинном пальто. Немец снял шляпу. — Впусти, Ефремов, — сказал Сурин. — Товарищ лейтенант глянет, чего там. Солдат приоткрыл створку ворот из мелко плетеной стальной сетки, и немец, не надевая шляпы, бочком вошел во двор. — Покрой кумпол-то, дядя, — сказал Сурин и пошлепал ладонью по верху своей фуражки. Пухлое лицо старика улыбнулось. Он надел шляпу. — Драстуте, господа официрен. — Привет, дядя, — сказал Сурин и глянул на Маркова. — Вот, дядя, товарищ лейтенант. Чего у тебя? Немец достал из внутреннего кармана пальто целлофановый пакетик, раскрыл и протянул Маркову лист бумаги, сложенный квадратом. — Пожалюста… читать, да, господин лейтнант. Прошу очен, да. Марков развернул лист. На толстой бумаге — неровные синие строчки. Посередине листа — одними заглавными буквами:«справка». — Мне-то можно слушать? — сказал Сурин, кашлянув. — Почему ж нельзя? Слушай… Справка… — Ага. — «Выдана настоящая справка действительно немцу Ханнике Теодору в том… — По форме написано, — сказал Сурин. — …в том, что он во время нашей работы у него по хозяйству его ресторана «Шютценхауз», взятых из лагеря, никаких мер по нашему наказанию не оказывал. Жилье предоставил хорошее с печным отоплением (торфобрикетом), жалоб на питание особых не имеем. Также должны честно отметить, когда обнаружил нас, как мы слушали Москву по его приемнику, боясь, что он донесет по индстанции…» — По инстанции, чай? — Да я читаю, как тут написано, — усмехнулся Марков. — «…по индстанции не донес, в виду чего мы слушали товарища Левитана беспрепятственно. Политически настроен сознательно, предъявлял нам в праздник 7 ноября 1944 года партбилет социал-демократической германской партии с 1921 года». — Гляди ты, — сказал Сурин. — Выдана настоящая для предъявления командованию Красной Армии на предмет справедливого отношения к Ханнике Теодору 1891 года рождения. К сему: Моняков Федор Федорович… — Ага, славянин… — …бывший красноармеец 141-й тяжелой пушечной Новгородской бригады. Чхеидзе Павел Христофорович, бывший красноармеец-орденоносец 201-й стрелковой Гатчинской дивизии. 30 января 1945 года. Примечание. Печать к оной справке ставим у бывшего бургомистра с зачеркиванием фашистского знака собственноручно». — Ну-у, сила! — Сурин засмеялся. — Порядок, дядя. Норма будет, не бойся. Русские за добро добром, понял? Марков свернул бумагу. — Вы что хотели… Ханнике? Немец снял шляпу. Длинные темные волосы его влажно блестели. — О, господин лейтнант! Не прогоняль мой дом! Господин лейтнант! — Ваш дом? — Да, да, господин лейтнант! Девушка… зольдат, да! Приходиль, говориль: «Фриц выгоняйт!» Да, так она сказаль! О, нет, нет наци, нет! Нет фашизм, нет! Майн брудер биль… Брат биль на Моабит[6], да! О, нет наци! — Ладно, ладно, дядя, вот ты какой горячий! — сказал Егор Павлович. — Разберемся. Не кипятись. Марков вздохнул. — Где ваш дом? — Два дом, мой тут, да! — Немец махнул рукой. — Третий дом? Ресторан? — сказал Егор Павлович. — Да, третий ест, да! Марков посмотрел на Егора Павловича. — Может, к коменданту его? — Да чего нам мудрить, Михалыч? Пойдем поглядим, приедет комендант — скажем… Дядя, видать, ничего, раз такую бумагу ему отвалили славяне… — Ну… хорошо. — Веди в гости, дядя! — засмеялся Сурин и стал застегивать пуговицы своей куртки.31
Паркетный пол — в черно-желтую крупную клетку — блестел, навощенный, наверное, сегодня утром, как подумал Егор Павлович. — Гляди, Михалыч, — сказал, ухмыльнувшись, Егор Павлович. — Германия пузыри пускает, а тут паркет надраили, а? Ханнике улыбнулся, на ходу сбросил пальто. — Пожалюста, пожалюста, господа! — Он отодвинул два тяжелых стула возле маленького стола, рысцой убежал в дверь за дубовой стойкой, вернулся без пальто, с белой накрахмаленной скатертью… Егор Павлович повесил фуражку на олений рог, торчавший над дубовой, в полстены, панелью, набросил куртку на спинку стула, порылся в кармане гимнастерки и бросил на скатерть две сотенные рейхсмарки. — О! Нет, нет, господа, — сказал Ханнике. — Уйду, — сказал Егор Павлович. Ханнике, улыбаясь с дружеским неодобрением, взял марки и торопливой, не хозяйской поступью направился к двери за стойкой. — Миха-а-алыч, да ты как красна девица, — сказал Егор Павлович, сел на стул и достал пачку трофейных сигарет. Марков повесил шапку на рог рядом с фуражкой Сурина, но шинели не снял. — Боишься ты, что ль? — засмеялся Егор Павлович, закуривая. — Пропустим по рюмашечке — и концы. Садись, воин-освободитель… По грехам-то фрицев мы б сейчас керосинчиком должны да спичечкой… А мы с тобой за свои денежки гулять будем… Садись. Киршликер, две бутылки которого принес Ханнике. Егору Павловичу не понравился. — Дрянь у немцев винишко. Расейская беленькая — вот уж питье, а это… Европа. Егор Павлович потыкал вилкой в тонкий ломтик сыру на голубой тарелочке, вздохнул… — Не умеете вы, немцы, жизнь любить… Слышь, хозяин? Ханнике улыбался робко. — Помнишь, Севка, как гуляют по-нижегородски, а?.. Твоя-то мамка — мастерица холодец варить, от тарелки, бывало не оторвешься… Да еще с хренком, с горчичкой это дело… м-м-м! Да ты что сегодня киснешь, а?.. Нет, не в батьку ты, Севка. Ну, еще разок причастимся. — Да, пожалуй, хватит, — сказал Марков. — Этой Европы — ведро можно, брось ты, Михалыч… Третья или четвертая уже?.. Марков выпил, поставил рюмку, полез в карман за папиросами. Он почти не слушал, как Ханнике жаловался на каких-то «матрозен». какого-то лейтенанта фон Бока, понял только, что эти «матрозен» похозяйничали у него, выпили все запасы. — Пойдем, Егор Павлович? — сказал Марков. — Ничего не пойдем, до обеда еще часа два. Успеем, наслужимся. — Егор Павлович спрятал под стол пустую бутылку, Ханнике засмеялся, разлил ликер по рюмкам. — Здорофф Егор Павлиш, камраден! — Вот спасибо, за себя никогда не грех выпить, — засмеялся Егор Павлович. Отодвигая пустую рюмку, посмотрел на Маркова. — Нет, Севка, не в батьку ты… Михайло был мужик хлесткий, а ты… чего переживаешь тут, а? Ну, выпили перед обедом, ну и кому какое собачье дело? Не все одно — наркомовскую порцию б тяпнули? Брось, Михалыч… Мы с твоим батькой знаешь как жили? Душа в душу жили, понял? Думаешь, кто меня из бригадиров в завгары предложил? Твой батька, вот кто… Голова была у Михаила — такую голову поискать… Душа был мужик… Какого тупаря избрали бы в цеху секретарем, а? У нас же в цеху двести семнадцать членов партии было, как сейчас помню… А кого выбрали? Михаила Дмитрича Мар-ко-ва, понял? Молодой ты еще, не понимаешь… Когда письмо получил из дому, что батальонный комиссар Марков без вести пропал, эх… Севка, чего тебе сказать… не могу сказать. Режь меня — слезы не увидишь, а тут, брат, плакал Егор Сурин… За Михаила Дмитрича выпью, душа с моих врагов вон… — Немношько… никс гут… плехо, да, Егор Павлиш? — спросил Ханнике, улыбаясь сочувственно. — Кому плохо? Мне плохо? Молчи, хозяин, в тебе немецкая душа. Ты русскому горю не помощник. — Пойдем, Егор Павлович, а? — Марков опять закурил. Ханнике посмотрел на худое мальчишеское лицо Маркова. — Герр лейтнант… хильфен… подмо… помогать! О, помогать, да! — Чего агитируешь? — сказал Егор Павлович. — Агитатор. Мы и так всей Европе помогаем вашего Гитлера с шеи прочь к чертовой матери. — О, нет Гитлер! — привстал Ханнике. — Нет, нет, Егор Павлиш! Айн момент, камраден! Айн момент! Немношько ждать, да. Цвей минутен, корошо?.. — Нам не к спеху, — сказал Егор Павлович. — Мы сейчас еще разочек, а, Михалыч? Да ты у меня молодец. Правильно. Держи марку. По фамилии! Выпьешь? — Не хочу. — Ну, гляди. Ханнике заторопился к двери. — Цвай минутен, камраден! — Давай, давай, дядя… — Егор Павлович выпил полрюмки, пожевал сыру, вздохнул. — Сидим в Германии, а? Сидим — и больше никаких, а? Нет, Михалыч, справедливость — она есть, точно… Все как по-писанному идет, а? Сказано было в сорок первом — победа будет за нами, так и есть, а? Горького хлебнули полным горлом, зато теперь наш черед сладкое пить… Марков, щурясь от дыма папиросы, увидел в проеме двери беловолосую девушку в синем свитере… Улыбаясь, Ханнике легонько подтолкнул ее, и девушка шагнула через порог. Егор Павлович обернулся. — Эва… Кралечку ведет… ах, сучий сын… Севка, дать ему по морде, а? Ханнике взял девушку под локоть, подвел к столу. — Камраден, герр лейтнант… Дас изт… Фелицитас фон Оберхоф… — А ничего девчонка-то, а? — засмеялся Егор Павлович. — Грудочки какие… прямо тебе Жигули, глянь, Севка! Глазастая какая. Глянь — с норовом девка, точно… Ишь, смотрит… Не бойся, фрау, мы не обидим, никс! Синие глаза девушки улыбнулись Маркову. — Я не боюсь, — сказала она по-русски, и Егор Павлович засмеялся. — Ну — влип! — Вы… садитесь, пожалуйста, — тихо сказал Марков и отодвинул свою рюмку. — Спасибо, господин лейтенант. Девушка села. Ханнике протопал к буфету за стойкой, принес рюмку и вилку. Марков тушил папиросу о мраморную пепельницу. — Ну… немецкий народ, выпьем, чтоб больше не воевать, а? — Сурин разлил ликер по рюмкам. — Спасибо, я не пьючи, — девушка улыбнулась. — По-нашему говоришь, — значит, можно. Михалыч, подымай, подымай, с такой хорошей выпить греха нет… Рюмка Маркова коснулась рюмки девушки. — Грех нет, да? — Девушка улыбалась, но смотрела на Маркова чуточку настороженно. Она пила ликер маленькими глотками. — Где это ты, хорошая, по-русски научилась, а? — посмеиваясь, сказал Егор Павлович. — В Москве. — Во-о-она… Это каким манером, хорошая? Девушка покосилась на тарелку с сыром, взяла вилку… — Мой папа был… как?.. помощничать? У военного атташе, да. С тридцать восьмого года. — Ага… Генерал? — Оберст. Польковник, да. — Ага… Жив папаша-то? — Это не знаю… Днепр, река Днепр… Потом не писал, да. Мой брат Герард в плене биль, два года в плене… — Ну, ты духом не падай. У нас полковников этих в лагерях — счету нет, табунами ходят. Вот Гитлера прикроем и, может, папаша вернется… Ну, а уж брат — точно, не бойся. А ты здешняя? Здесь живешь? — Нет, из Кенигсберга уходить. Там дом, да. Большой дом, земля, все биль… Как по-русски? Я гутсбезитцерин… О, помещении, да? Понимаете, да? — Чего ж не понять… — Егор Павлович полез за сигаретой. — Да… Интересно… Михалыч, чего молчишь? Марков смущенно улыбнулся. — А ты что молчишь, дядя? — Егор Павлович глянул на Ханнике. — Выпить хочешь? А? — Благодару. — Дело твое… — Егор Павлович подвинул тарелку с сыром к девушке. — Кушай, кушай… помещица. Девушка положила вилку. — Как тебя звать-то, хорошая? — Фелицитас. Егор Павлович поморгал. — Имечко… кхм. Фели… как? — Фели — так можно, да. — Значит — Фели. По-русски это выходит… Фелицата. Была у меня в гараже такая воструха… Фелицитас посмотрела на Маркова. — Господин лейтенант… Я хочу просить… Я и моя мама ехаль, здесь нашу машину отобраль матрозен, да… Мама больна, да… И нет кушать… Я хочу… обмен, да? Наобменить на хлеб, господин лейтенант. Часы, да, кольцо, господин лейтенант, пожалюста… Марков достал платок, вытер лоб. — Это дело разговоров не стоит, — засмеялся Егор Павлович. — Нам твоих цацек не надо, красивая. Мы советские солдаты, ясно? Ты, Михалыч, не касайся, твое дело офицерское, а я сорганизую для хорошей парочку буханок от Лидки. — Смотри сам, — сказал Марков. — Вы добри, господин лейтенант. Я буду ждать. — Фелицитас встала. — Извините, я хочу маме сказать. Фелицитас возле двери оглянулась. — Спасибо. Она прикрыла за собой дверь неслышно, потом застучали по лестнице легкие шаги… — Капитально познакомились, — засмеялся Егор Павлович. — С материальной базой. Хорошая девчоночка. Помещица, а? Номеро-ок… Ну, на дорогу посошок обмочим — и тормозим. Точка. А хлебца надо ей дать. Все одно сейчас всех освобожденных немцев кормим.32
Человек в Москве читал:«По моим подсчетам, на Восточном фронте сейчас у немцев около 100—103 дивизий (пехотных) и 32 — танковые и механизированные. Группа армий «Висла» — двадцать пять пехотных и восемь танковых дивизий. Группа армий «Центр» — около двадцати пехотных и восемь танковых дивизий. Группа армий «Юг» — девятнадцать пехотных и девять танковых дивизий. На ваш запрос о перспективах отвода немецких войск с Балкан, из Италии, Норвегии и Курляндии могу с достаточной долей уверенности сообщить, что Гитлер категорически отказался эвакуировать эти войска. Подтверждаю запрос о курляндской группировке. В ближайшее время эвакуация не планируется. В группе «Курляндия» — двадцать пехотных и две танковые дивизии. Эвакуироваться будут лишь четыре пехотные дивизии и одна танковая, вероятно — в район Данцига, Гдыни, уточнение сообщим. Привет!Циммерман».
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
00.30. 19 апреля 1945
КОМАНДАРМ
Э-э, полководец Никишов, тебе пачки до утра не хватит. Надо перестать дымить, горло как наждаком натерли… Полководец, полководец… А ведь это Климент Ефремович первый нас назвал полководцами, да, да, он… Накурился я тогда, как сейчас, даже виски ломило, мы все накурились, все парни нашей группы, до головокружения, в палатке сизо от дыма было… Дождь еще барабанил по брезенту, зябко было, кое-кто набросилна плечи шинели… Что мы тогда отрабатывали?.. Документацию начальника оперативного отдела штаба корпуса… Комдив Леонтьев дал нам такую заковыристую обстановку, что пришлось капитально попотеть над картами… Карандаши еще были такие дрянные, терпения не хватало каждую минуту чинить… Мне-то еще повезло, у Давыдова были трофейные, японские, с Халхин-Гола, я ими пользовался. Мы растерялись, пожалуй, когда Давыдов вдруг скомандовал не своим, натужным голосом: «Встать! Смирно!» Мы вскочили за столиками, у кого-то повалился складной железный стул. Кого-кого, а маршала Ворошилова мы уж никак не ждали в этот дождливый августовский денек… «Здравствуйте… полководцы, — улыбнулся он, хорошо так улыбнулся, и у нас отлегло от души. — Эко вы поднакурили, братья академики». Мы тоже хорошо ему ответили: «Здраст, товарищ маршал!» Ворошилов сказал: «Тихо, академики, я от вашего начальника потихоньку убежал, а вы кричите… Он меня четыре часа по лагерю водит, загонял совсем…» — Товарищ маршал, пожалуйста… — Давыдов подставил стул. Маршал расстегнул серый плащ, снял простую полевую фуражку, потер указательным пальцем маленькую звездочку — наверное, это была привычка… А потом?.. Потом… да, сказал: «Нуте-с, полководцы, как стратегия поддается? Или не очень? Баба капризная — стратегия, по себе знаю». Мы засмеялись, и Ворошилов смеялся. — Какие мы полководцы, товарищ маршал, так, кандидаты, ростом не вышли, — сказал Давыдов. — Это что ж вы, товарищ Давыдов, намек мне, а? — прищурился Ворошилов. Мы рассмеялись. — Я вас помню еще по киевским маневрам… Были ведь? — Был, Климент Ефремович! — Не в росте, нет, дело-то, товарищ Давыдов… У немцев кто был самый талантливый полководец?.. — Шлиффен, товарищ маршал, — сказал Санадзе. — Фон Мольтке. Фон Мольтке-старший, товарищи. Немцы называют его гениальным полководцем, но допустим, что он был просто талантливым. Так вот, товарищи полководцы, первого октября тысяча восемьсот двадцать третьего года принц Вильгельм Прусский на смотре замечает в самом конце шеренги офицеров этакого заморыша, худющего, бледненького лейтенантика… Это и был лейтенант лейб-полка его величества короля Пруссии фон Мольтке. Только месяц тогда прошел, как лейтенант перебрался с датской службы на прусские хлеба, и отвалило ему начальство денежное содержание в пятьдесят марок двадцать пять пфеннигов, да-с. Вильгельм изрек: «Господа, кажется, этот офицер не очень хорошее приобретение…» Но принц оказался паршивеньким пророком. Генерал фон Мольтке положил, как говорится, к ногам своего короля Вену, а через Мец и Седан привел немцев в Париж, вдрызг расколошматив Наполеона Третьего… Так-то, товарищ Давыдов, обстоит дело с вашей немарксистской теорией о росте полководца… Мы смеялись, а Ворошилов сказал: — Нет, товарищ Давыдов, не того ваша теорийка. Мадам Жозефине Богарне все ее подруги не советовали отдавать руку и сердце этому невидненькому мужчине Бонапарту… Ну, а если я напомню об Александре Васильевиче, графе Рымникском, князе Италийском… Сдаетесь, Давыдов? — Сдаюсь, Климент Ефремович! — Со знаменами? — Нехай пропадають и знамена! — Вот видите, полководцы, я ростом не больно вымахал, а разгромил вашего приятеля, — усмехнулся Ворошилов. — Между прочим, тот же Мольтке неплохо сказал: «Гениальность — это работа». И еще, дай бог памяти… он же сказал примерно так: «Стратегия представляет собой умение находить выход из положения». Недурная мысль, совсем недурная… Вот, скажете, Ворошилов нам о немецких стратегах толкует… Врага надо, товарищи, знать, надо, надо… Порохом-то из Европы крепко несет, чуете?.. Нам сейчас главное — хоть год, хоть два бы выгадать, не сцепиться сейчас с немцем. Вы люди умные, понимаете… К сорок второму году мы армию преобразим, размахнулись широко, не узнать будет армии… Мы переглядывались… А потом? Ворошилов стал смотреть на карту все того же Давыдова, взял листочки тонкой папиросной бумаги с текстом разработки. — Заело, товарищ Давыдов? — Заело, товарищ маршал… — Собственно, ваш корпус дерется уже в полуокружении, так? — Да, синие жмут… Мы смотрели на лицо Ворошилова. Оно было усталым, и в то же время какое-то ощущение… силы, воли, душевной прочности было очевидно всем нам… — Мда… Ну что ж, товарищ Давыдов, на любую беду средство есть, это еще древние знали… Чем может быть осуществлено противодействие попыткам окружить ваше соединение? Подумаем. Первое средство — помощь соседа. Ведь рядом с вами еще корпус, так? Затем — контрудар по окружающему, по одному крылу его или по обоим, если вы смелый военачальник. Затем… собственным обеспечением флангов и даже… почему бы не попытаться устроить «мешок» для окружающих вас сил противника? Ну и последнее: на худой конец вы можете провести отход корпуса в тыл, сохранить силы для контрудара… Только не дай бог, если я получу от вас такой доклад об отступлении… И опять мы рассмеялись вместе с маршалом. — Между прочим, есть в кампании четырнадцатого года так называемая Саракамышская операция. Припоминаете? Русская кавказская армия действовала далеко не бездарно, нет, и Энвер-пашу православные тогда крепенько поколотили. Вообще, надо сказать, нам пора усвоить, что даже в условиях царизма русская армия умела проводить такие эффектные операции, на которых нам не грех и поучиться… Вот, скажем, действия девятнадцатого корпуса в августе четырнадцатого, в самом начале войны, корпуса генерала Горбовского. Австрийцы окружили его втрое превосходящими силами, но наши не только ушли от угрозы пленения, но целых шесть дней отлично маневрировали, даже взяли приличные трофеи… Толковый был командир этот генерал Горбовский, да, да… Или — действия пятьдесят четвертой дивизии на Нареве в двадцатом году… Тридцать первого июля… Да, в этот день, верно. Там еще четыреста восемьдесят шестой полк отличился, просто великолепно действовал! Так что, как видите, Давыдов, если пораскинуть, как говорится, мозгами… Да, пораскинуть мозгами советовал Ворошилов… Что ж, я верю — мы форсируем Одер, мы способны сделать это, мы должны и можем выйти на тот берег…ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
— Рота в штурмовой отряд назначена. В Данциге жарко будет. Ясно? — сказал гвардии старший лейтенант Горбатов, и у Николая Борзова (рядом с ротным в траншее стоял) где-то под сердцем ударило… Штурмовой отряд — со смертью в обнимку шагать. Удачи не будет — половина роты после боя к кухне явится, а то и меньше… Ну, ладно. За Россию помереть — стыда нету… Походил Борзов за ротным по траншее, в блиндаж вернулся (из уважения к ротному, без приказа, мальчишки-связные за два часа сварганили, ни разу не курили). А в блиндаже на нарах рядом с Иваном Евсеевым — девчуха сидит… Новая девка в роте — что престольный праздник в урожайный год. Встала с нар, сапожками щелкнула, козырнула бойко, весело. «Складная», — сразу Борзов углядел. До чего приглядистая… Глаза — чернущие, на татарочку смахивает девка… — Товарищ гвардии старший лейтенант! Представляюсь по случаю назначения санитарным инструктором во вверенную вам роту. Гвардии старшина Чернова! Вот это рапорт выдала (Борзов жмурился у печки). У Венера лицо-то… будто пряник ротному в ленинградскую блокадную голодуху выдали… Руку девке протянул. — Милости просим, товарищ Чернова. Рады, очень. Второй месяц без медицинского обслуживания страдают бойцы, особенно потертостей нижних конечностей много. Ну Венер, беда, до чего парень ухажористый… Страдают! Морды у всех кирпича просят. Посмеивался Борзов, в печурку дровец подкидывал, а нет-нет глянет на черноглазую… Ну, а ротный уж не по уставу разговорчик завел. Так, так, проняло Венера Кузьмича… — У нас в роте, товарищ Чернова, запросто, мы народ больше все ленинградский, от Ладоги кочуем по Европам… Как по батюшке прикажете величать, товарищ Чернова? Ну, Венька, ну, молодец!.. Уж и в ленинградцы себя определил, а сам из дыры — из Южи. — Галина Петровна, товарищ гвардии старший лейтенант. — Очень приятно. А меня — Венер Кузьмич… Вы, Галина Петровна, за вторую роту начальству еще спасибо скажете, точно. Народ у нас хороший, Галина Петровна. Гвардия! В смысле там какой обиды, Галина Петровна, категорически, вам скажу, исключаю, точно… Ванька Евсеев терпел-терпел (рта никому Венер не дает открыть, ишь заладил — «Галина Петровна»), вставил словечко: — Галя, я вам по партийной части вопрос… Разрешите? Ах, курицын сын. Галя!.. А Галя улыбнулась хорошо… Совсем ведь молоденькая, лет двадцать ежели есть — и то едва. — Пожалуйста… товарищ парторг. Не ошиблась? — В точку. Именно я имею честь возглавлять славную партийную организацию второй роты. Галя — в смех. И все засмеялись. — Вы, Галя, член партии? — Кандидат, товарищ парторг. — А со стажем как? — Через неделю заявление подам… — Заслужите, Галя, — поддержим. — Постараюсь, товарищ парторг. — Постарайтесь, Галя, постарайтесь. И опять все засмеялись. Ах, господи, до чего мужикам девчоночий голосочек слышать надобно! Борзов чайку в котелке успел вскипятить, в кружку налил, Гале протянул… — Ой, спасибо! Замерзла вся, пока до вас добралась. Повернулась, вещмешок свой с нар подхватила (Евсеев помог). — Конфеты у меня есть, девочки в госпитале на дорогу дали. Угощайтесь, товарищи, пожалуйста! Венер Кузьмич, не побрезгуйте… До чего славная!.. И сказать нельзя. Борзов чай прихлебывал, карамельку покусывал (три карамельки досталось), на Галю поглядывал. Глаза какие у нее черные… Глаза вон какие большие, а личико махонькое, одна… эта… приятность. А женихи-то! Умрешь со смеху, вот ведь закипели. Эва! Еще гости… Так, все взводные явились. Уж на что командир пульвзвода ленив, и то прибежал… А этот? Артиллерист? Он. Ориентиры уточнить надо?.. Загибай, ориентиры еще вчера с Венером уточнял. — А ну, посторонние товарищи, попрошу, — сказал Горбатов. — По местам. Через… через тридцать семь минут выступаем. Попрошу… А через тридцать семь минут — ракета полыхнула зеленым хвостом, потом семидесятишестимиллиметровки ударили. Поднялась, побежала вторая рота… Четыре танка из серого дыма выкатились, роту обогнали и опять в дыму растаяли. За ними еще гусеницы лязгают. Рвануло впереди. Еще рвануло. И в серой мгле — черные два столба… На минном поле танки те подорвались… Увидел Борзов: вскочил кто-то впереди него с земли, автоматом взмахнул. Галинка Чернова, она!.. Санинструктор! Кой леший девку вперед понес, господи?! Убьют! — Галь, ложись! — Борзов успел крикнуть, тут снаряд рвануло. Продышался Борзов, голову поднял, увидел: стоит Галька возле какого-то прутика. Кричит Галька: — Коммунисты-ы!.. Обозначай проходы! Коммунисты! Проходы танкам обозначай!.. Это кому Галька кричит? Это же… это же мне Галька кричит! Коммунисту! — К прохода-а-ам!.. А может, я не слышал? Может, я и не… На колени поднялся Борзов. Увидел: неровной цепочкой справа солдаты стоят… И слева поднялись… Вот он, прутик. Веха то на краю прохода в минном поле, а не прутик… Стоял у вехи Борзов… От дыма — глазами не глянешь… Да надо глядеть! Танк вылетел на высотку, где Борзов у прутика стоял, мимо него в трех шагах прогрохотал. Только и успел заметить Борзов номер на башне — «142»… Из дыму ротный выскочил. За ним — Евсеев… Человек тридцать бегут… — Ура-а-а-а-а-а! И Борзов за ротным побежал, может — кричал, может — и нет, только когда в первой траншее немца увидел — сидел немец без каски, руки подняв, — хотел Борзов крикнуть что-то, и не вышло крику, прохрипел: — Вылазь… бра… брандахлыст! Километра три прошагала вторая рота по полю, к леску горящему приближалась, но там тихо было, стояли танки, десятка два, к сгоревшей опушке приткнувшись. Те самые — по номеру «142» на башне крайнего танка Борзов признал… Шагал от того танка офицер в черном комбинезоне. К ротному подошел, поцеловал Венера Кузьмича. — Все б тут запылали, — сказал глухо танкист. — Спасибо вам, ребята… Должок в Данциге отдадим, за нами не пропадет… — Ладно, ладно, — сказал Венер Кузьмич. — Свои, сочтемся. — Нам спиртику ведерочко от танкистов — и квиты! — Иван Евсеев засмеялся, танкисту подмигнул. Хотел было Борзов про Галинку Чернову тут слово сказать, да поопасся: не понравится девке, просмеет еще, ну ее, уж больно задиристая. Только ночью, на привале, в каком-то сарае каменном, Борзов достал из вещмешка трофейную свечку-плошку, складной листок солдатского письма (в военторге купил, удобная штука), часа полтора что-то карандашом на том листе выводил… А кончил письмо так:«Прошу в газете моей подписи не проставлять по причине характера товарища гвардии старшины Черновой Галины. К сему — хвардии рядовой Борзов Николай с уважением!»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
00.36. 19 апреля 1945
КОМАНДАРМ
Снять трубку… Товарищ маршал, я передумал… Нет, подипломатичнее сказать: «Товарищ маршал, еще раз проанализировав обстановку, я…» Только снять трубку… Может, Рокоссовский этого звонка ждет?..ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
Трофейный фонарик в руке Борзова дрожал. Шел Борзов на шаг сзади ротного, фонариком на лица убитых посвечивал. Рядком парни лежали… Кузнецов Иван. Листопад Петя. Смирнов Степан. Заторин Федор. Шоронов Никодим. Икрамов Мустафа. Котомин Митя. Базанов Николай. Дюдин Николай. Богатенков Максим. Мамедов Мирзафар. Нонешвили Генрих. Сорокин Тимоша. Трепетов Илья. Абдусалимов Ибрагим. Антонов Боря. — Шестнадцать, всех принесли, — сказал Борзов. — Товарища младшего лейтенанта пулеметчики у себя положили. — Лейтенанта ему присвоили… Сейчас звонили из штаба… — сказал Горбатов. — Коля, пусть пулеметчики погоны ему сменят… — Слушаюсь. — Борзов потоптался на снегу, фонарик потушил. — Ты, Веня, поспал бы чуток… Третьи сутки на ногах колготишься. — Чего ты ко мне привязался? Чего ты… хочешь? Приказано тебе к пулеметчикам идти? Отошел Борзов от ротного, оглянулся… В полумгле разглядел: стоял Венер без шапки перед убитыми… Шестнадцать парней до Берлина не дойдут.33
Человек в Москве читал:«Сокрушительные удары фронта маршала Рокоссовского повергли Гиммлера в состояние прострации. Он отказался от поста командующего группой армий «Висла» под предлогом, что у него и без того велик круг обязанностей — рейхсфюрера СС, начальника германской полиции, имперского министра внутренних дел, командующего армией резерва. На его место назначен командующий 1-й танковой армией генерал-полковник Хейнрици. Привет!Циммерман».
34
Никишов опустил глаза… Он считал своей дурной манерой эту привычку — несколько секунд смотреть в упор на лицо собеседника, — и когда замечал это, злился. Такой пристальный взгляд не очень приятен человеку… Но лысого, с животиком, в чуть коротковатом кителе полковника из Москвы взгляд Никишова не смутил, полковник улыбнулся. — Извините, товарищ командующий, поздненько вас беспокою, — сказал он хрипловато, сел в кресло перед столом Никишова. — Мне из штаба фронта звонили два часа назад. Слушаю, полковник. По словечку «поздненько», так неуместно звучащему в официальном разговоре, Никишов понял, что гость из Москвы — служака старый, привыкший иметь дело с начальством и повыше командующего армией… — Дело у меня к вам, товарищ командующий, несколько скользкого плана… — Вот как? — Вас Константин Константинович информировал, по какому ведомству я служу? — Проинформировал. Полковник улыбнулся. — Просьба нашего ведомства, товарищ командующий, такова. Гм… На одном из участков, желательно поближе к Данцигу, какое-то ваше подразделение должно оставить хутор, мызу, деревушку какую-нибудь, роли не играет… — Оставить? — Да, отойти, скажем, на километр, ну, два… — Допустим. — Ну, а мы в этот хуторок доставим одну даму на автомашине, стоит «оппель» у вашего штаба, я на нем и приехал… — Все? — Детали, товарищ командующий, с вашего разрешения, отработаю с начальником штаба, мы с Михаилом Степановичем друзья старинные, еще с гражданской… — Ну что же… Придется оказать эту маленькую услугу вашему ведомству… — Вижу, что не очень нашего брата разведчика любите… — Почему это вдруг такой вывод? — Ну, хотя бы потому, что не поинтересовались, как звать-величать вашего покорного слугу… Они молчали. — Не обижайтесь, товарищ Егоров, честное слово, это как-то… Никишов вышел из-за стола, протянул полковнику руку. — Сергей Васильевич. — Андрей Васильевич. — Ну вот, даже тезки, — засмеялся Никишов. — Виноват, виноват, Андрей Васильевич… Ви-но-ват. — Разрешите задать вам вопрос, Сергей Васильевич? — Слушаю, Андрей Васильевич. — В тридцать девятом, летом… возле Центрального почтамта в Москве-матушке… вы ни с кем не разговаривали? А если точнее — не записывали адресок одной студентки-медички? Никишов засмеялся. — Андрей Васильевич, вы уж меня не пугайте, а?.. Честное слово, я… — Эта студентка очень хочет вас видеть, Сергей Васильевич. Никишов закусил губу. Смотрел в чуть улыбавшееся полное лицо полковника. — Это… ее… туда? — Ее, Сергей Васильевич. — Ч-черт возьми, это же… — Все под богом ходим, как говорится, Сергей Васильевич… — Ее зовут… постойте… Зина… Зинаида Двуреченская! — Ее зовут фрау Лило фон Ильмер, Сергей Васильевич… — Я хочу ее видеть, — сказал Никишов, вставая. — Она у члена Военного совета, позвоните, Сергей Васильевич.35
Пенсне лежало на карте (немного южнее Данцига — об этом подумал Андрей Васильевич, погладил лысую голову, посмотрел на какое-то обмякшее, простоватое без пенсне лицо начальника штаба армии). Генерал Корзенев указательным пальцем покручивал на карте свое пенсне — то в одну сторону покрутит, вздохнет — покручивает в другую… В узкой, продолговатой комнатке, где Михаил Степанович урывал часок-второй вздремнуть на брезентовой раскладушке (возил с собой эту раскладушку от Ладоги), чувствовались те запахи, что присущи месту ночлега военного человека… Парила у кафельной печки сыроватая шинель Михаила Степановича, от поцарапанного желтого футляра бинокля шел сладковатый запах кожи, а от вымытых недавно в луже сапог хозяина плыл по комнатке запах болотца… — Пропала Зиночка, — сказал Андрей Васильевич. — Банкет на сто персон, что ли, решил отмахать? Михаил Степанович улыбнулся, крутнул пенсне. — Нехорошо говоришь с генералом, Андрей Васильевич, распущенность столичная в тебе чувствуется. — Виноват, товарищ генерал, исправлюсь. Только выпить мне с тобой шибко хочется. Мечта с сорок первого… — В сорок первом ты обо мне не вспоминал, поди. — Вспоминал, Миша, вспоминал… Когда твоя дивизия под Смоленском была — не раз тебя вспоминал… Я же обеспечивал тогда по своему ведомству Смоленское направление. — Мда… Помирать доведется, а Смоленском гордиться буду. Вот прямо тебе говорю, старый шпион, буду тешить свое самолюбие под старость лет. Да. Под Смоленском Михаил Степанович Корзенев немца целый месяц мурыжил. И к Москве немец приплелся об одну ногу, да-с. — Ну, ну, не один Корзенев под Смоленском был… — Не один, это, разумеется, ты тонко изволил заметить, однако на главном-то направлении… кто был? — Да ты, ты… — Сейчас Зинаида нам что-нибудь слатенькое принесет… Помнишь, в Уральске-то, в девятнадцатом?.. Начальник связи-то? — Гусаров? — Он, он… Прибежал тогда в штаб, ко мне подскочил: «Миша! Слатенькое дают! Василий Иванович Чапаев распорядился слатенькое выдать по две пайки, кто в окружении бедовал!» — Помню Гусарова… Сына его еще, первенца, обмывали в Уфе, Митя Фурманов стихи читал… Ты тогда в госпитале был… Ну, слатенькое несет Зинаида. Андрей Васильевич легко поднялся с раскладушки, подошел к белой двери, открыл. — Заждались, товарищ полковник? — Зина поставила поднос на стол (Корзенев свернул карту). — Тяжеленный, уж сразу все принесла, чтоб больше не мешать. — Ну, спасибо, — засмеялся Андрей Васильевич. — Вот только б еще какой стул, нам, а? — Принесу. Зина принесла стул с сиденьем зеленой кожи. — Королевская вещь, — сказал Андрей Васильевич. — Не слезу, покуда под стол не повалюсь, учти, хозяин… Зина засмеялась, вышла. — Не повалишься, — сказал Михаил Степанович, доставая из-за черной бумажной портьеры на окне бутылку. — Родная? — прищурился Андрей Васильевич. — Ну, спасибо, Миша. — Ты как — полстакана примешь? — Приму. Можно. Пока твои штабники операцию мне организуют, ящик можно выпить. — Седьмая ударная кое-что посерьезнее делывала, товарищ полковник. — Ну, ну, я ведь без злого умысла, Миша… Командарм понравился мне. Звякнули стаканы… А когда хозяин и гость поставили их — оказалось, что оба не выпили до дна. — Служба, — сказал гость. — После победы наверстаем. И недопитое, и все прочее — полными горстями брать будем. Ты чувствуешь, какая жизнь на Руси зашумит, а? Кто-то прошагал по коридору, стукнула дверь. — А поздненько уже, ноль тридцать, — сказал Андрей Васильевич, посмотрев на ручные часы. — Трофейные? — Подарок. Хлопец один уважил. Четыре раза за линию фронта перебрасывали. — Служба у тебя, Андрей… Не приведи господь. — Кому-то надо… — Не скромничай уж. Послушай, а что… эта твоя спутница… — Майор… — В данном случае мне важно, что она дама… — Слушай, Степаныч, какое нам дело, если встретились люди, которые до войны… может, любовь была? — Ты не понял меня, Андрей… Я совершенно… — Понял, понял. — Да нет, ты не кипятись. Я же не классный надзиратель, а Сергей Васильевич не гимназист. Я просто удивился, что он, ну… да что говорить — сердце-то у Сергуни дрогнуло, когда он твою даму увидел… Ведь Сергей — чистейший человек, это-то я знаю. Никаких баб. Нашлись, нашлись бы юбки в армии, ежели бы Сергей… Да вот тут историйка, сказать. Понимаешь, у Сергея приятель у нас есть, старшина в ансамбле армейском, Манухин Андрей… Они в сорок третьем, когда Сергея разжаловали, под Ладогой в одном отделении были, Сергей тогда отделением командовал, ну, ты знаешь его историю-то… — Слыхал, как не слыхать. — Да. Манухин-то был до войны актером, вообще, мужик не без божьей искры. Да… И понимаешь, тут к нам в армию приехали из Москвы артисты, целая бригада. И дочка Манухина приехала, Инночка… В консерватории учится, поет, славно поет, я слышал на концерте. Ну-с, Манухин, понятно, хочет перед Сергеем дочкой похвастаться, девушка, надо сказать, отменная, красивая девушка… А Сергей… смешно сказать — боится, что ли… Словом, Манухин даже обиделся на своего друга — никак не уговорит командарма, чтобы он в гости зашел… Я вот думаю… Он же очень одинок, командарм… А? Сумасшедшая ответственность — армия, ты понимаешь? — Надеюсь. — А старые мы с тобой стали, Миша… Людмилу твою помню, отчаянная была… Так и не женился ты больше… — Сыновья выросли, а мне за юбками бегать? — Где твои-то парни? — Под Будапештом… Анатолий — командир дивизиона, Ленька — вторым огневым взводом командует… Ничего мальчики, слава богу. Михаил Степанович снял пенсне, вытер платком. — Скоро мир, — сказал Андрей Васильевич. Они сидели молча и курили.36
Черное небо раскололось. Огненные полосы отшвырнули тьму над окопом второй роты, где-то сзади, совсем рядом, ударил грохот, и багрово засветились крыши хутора за снежным полем… Припав спиной к стенке окопа, гвардии старший лейтенант Горбатов поднес к глазам левую руку. Зеленые стрелки часов показывали ровно четыре часа. Стонущий, рвущий душу рев реактивных снарядов внезапно прекратился, несколько секунд стояла покалывающая уши тишина, потом на краю поля, у хутора, встала серая — в желтых, красных, синих всплесках огня — стена разрывов… — Спекли фрица! — крикнул Николай Борзов, стоявший на патронном ящике в трех шагах от ротного. В черном небе шуршали снаряды. Земля под ногами дрогнула… Горбатов достал из кармана телогрейки мятую пачку трофейных сигарет, закурил. Глаза его стали угадывать линию, где черная передняя стенка окопа отделялась от набиравшего свет неба. Он снова увидел поле и хутор — горели там два дома, шапки дыма над красными крышами то пропадали в огненных взблесках разрывов, то снова их видел Горбатов. Беззвучно сыпались под сапоги Горбатова струйки земли… Он глянул на ординарца — Борзов сидел на патронном ящике и курил. — Скоро ли воевать-то? — крикнул Борзов, завозился, стал перевертывать портянку. А подтянул кирзовое голенище, чтобы нога осела в сапоге поудобнее, увидел — высокая фигура ротного медленно уходила. Знал Борзов обычай ротного — всегда перед атакой обходил Венер Кузьмич роту, если немец давал такую возможность, вел себя смирно. Борзов поднялся с ящика, вскинул на правое плечо ремень автомата и торопливой побежкой догнал ротного. Они шли друг за другом — высокий ротный и низенький ординарец. Люди стояли, прижавшись к земляной стенке грудью, или сидели, и по каким-то неосознаваемым в эти минуты движениям рук, повороту головы безошибочно узнавали Горбатов и Борзов солдат и сержантов своей роты. …Венер? Он… И Николаич за ротным шлендает… Значит, полчаса до атаки наберется… До тех кустиков добегу, потом… Холодно… Портянки б сейчас теплые, байковые, нестираные б портяночки… …из Ленинграда вернулась! Васька это сказал… Из Ленинграда… Ванда… Вот ведь как вышло, а? Почему я не мог спокойно-то на эту полячку глядеть? Учительница… Сунулся б я к полякам-то… Вот ведь как бывает — загнали их, царь еще загнал, лет, поди, сто, как, загнал к нам на Обь… да, лет сто наберется… Ванда тогда на крыльцо школы вышла, сторожиха тетка Антонина ее позвала. А мы с Мишкой стоим. Я пилу еще уронил, пила упала, я нагнулся, поднял. А Ванда смотрит… Пальто у нее серое на плечи наброшено было… Ванда… Она сказала, что тридцать кубометров распилить надо, поколоть. Березовые двухметровки, дрова хорошие… Нет, а что я сказал Ванде? Ничего я тогда не сказал. Мишка сказал, что сделаем, Ванда Сигизмундовна… А если меня убьют? И я Ванду никогда… …сломать придется. Сарайчик гнилой, сломать придется. Дед ставил еще, гнилья ему подсунули, после покрова поехал, пьяный. А помер-то он хорошо, дед… Синяя рубаха на нем… Нам тетка Глаша шила, троим шила — деду, бате и мне. Из Сызрани батя привез сатин, синий сатин… Батя… Под Ельней тогда наши фрицу дали крепко… В письме он писал. Бьем врага хорошо, писал… Служба идет хорошо, начальник хороший… Убили тебя, батя, в сорок первом, а сейчас уж сорок пятый… Нет, сарайчик я новый поставлю… …Вот просто взять и написать: «Ниночка, я вас очень…» Война кончится, останусь в кадрах… Через годик — еще звездочку получу… Гвардии лейтенант, а? Ненавижу штатское разгильдяйство, ну, просто терпеть не могу этой паршивой разболтанности! — У вас все в порядке, младший лейтенант? — спросил Горбатов. — Так точно, товарищ гвардии старший лейтенант! — Через двадцать минут тронемся. — Взвод готов, товарищ гвардии старший лейтенант! Горбатов, усмехнувшись (всем хорош мальчишка, младший лейтенант Никонов), пошел дальше. …Аннушка, скажу, это — тебе… Валерке б чего из Германии в подарочек, а? Чего пятилетнему надо?.. Гильзу пустую, поди, попросит парнишка мой… …и зажал бритву Гришка. Я же первый того дохлого фрица перевернул, а Гришка… Дай гляну! Вот и глянул. Таких гадов убивать надо! Сует, сует в свой мешок всякую дрянь, жадина проклятая. А я еще думал — хороший парень… Хуже фрица, сволочь! Русский, а жадности — на троих фрицевских барахольщиков. Один во всей роте такой живоглот попался. Я же того фрица перевернул, чтобы узнать — может, ранен, живой, может, а Гришка — по карманам сразу, эх, человек… Да чего я на него гляжу? Надо сказать Евсееву… Товарищ парторг, разрешите вопрос один? Может советский солдат фрицевское барахлишко в свой мешок пихать, а? Да Евсеев из этого Гришки блин сделает! …коса-то у меня была… настоящая литовка, ажник звенела… Английская коса, дед говорил. Лет сорок у нас. Дед ее после японской войны в Батайске купил… А я от батьки не отстал тогда. Малость самую обошел он меня, сажени на две обошел. Возле куста поширкал косой, поглядел, говорит: «Степанка, ты ажник меня мало по пяткам не секешь…» И засмеялся… В Берлин бы нам угодить, вот бы… А то так по этим болотам немецким и будешь ползать, а там ребята Гитлера-суку за шкирку схватят… …не дошло, рано еще письму дойти. Дня через четыре получит. Минька в школе-то… Папа четвертый орден получил! Ах, сынок… В мать Минька-то, в мать — вылитый… А это кто бежит? Пашка Шароварин? К ротному, видать. — Товарищ гвардии старший лейтенант! К телефону! Горбатов оглянулся. По голосу узнал командира отделения связи. — Кто брякает-то? — Командир полка! Горбатов торопливо шагал следом за Шаровариным. Солдат, сидевший в неглубокой выемке в передней стенке траншеи, протянул ротному телефонную трубку. — Восемнадцатый слушает, — сказал Горбатов, присаживаясь на корточки. Голос командира полка гвардии подполковника Афанасьева едва слышен (погромыхивали снаряды у хутора): — Венер! Хозяйство вперед не двигать, понял?.. Вперед не ходи, понял?.. — Понял, так точно! — сказал Горбатов непривычно неуверенным тоном. — Сейчас через тебя пройдут коробки, шесть коробок, понял? И машина пойдет, машина, легковушка, понял? А ты сиди, понял? Вперед не ходить! — Так точно, товарищ девятый, — сказал Горбатов. — Сижу на месте, вас понял! Он передал трубку телефонисту, выпрямился. — Николаич! — Здесь! — сказал Борзов. — Передай взводным — в атаку не пойдем. Ясно? — Так точно, — сказал повеселевшим голосом Борзов. — Так точно, товарищ гвардии старший лейтенант. — Сейчас танки пойдут, шесть танков и машина. — А машина чего? — Да черт их знает, — сказал Горбатов. — Разрешите идти? — Валяй, Николаич. Борзов вернулся быстро. Хотел доложить ротному, что приказание выполнено, да говорить было нельзя: шагах в сорока от правого конца траншеи ползли танки… За предпоследним танком покачивалась маленькая легковая машина… Когда танки скрылись в низинке перед хутором, Борзов сказал: — Чего-то тут мудрят, а? Машинешку-то зачем с танками? — Гитлеру в подарок, — сказал Горбатов.37
Егор Павлович Сурин натянул фуражку до бровей. Поглядывая на розовое от раскаленной плиты лицо поварихи Лидии, он то застегивал начищенную нижнюю пуговицу кожаной куртки, то расстегивал, то, хмыкнув неопределенно, почесывал подбородок. — Маешься, Егорушка? — сказала Лидия. — Отвяжись… Тяжесть в левом внутреннем кармане куртки была приятна Егору Павловичу — стояла там бутылка настоящей генеральской (как ее называл Егор Павлович) водки — в обед привез шофер генерала Корзенева из фронтового военторга. — К фрицу своему, что ль, ладишь, Егорушка? — Лидия засмеялась, подхватила полной рукой (до локтей подвернуты рукава белой куртки) постреливающую салом сковородку с блинами. — Припекла из-за тебя вот! — Тюхтя… — Да уж куда мне до фрау-то. — Чего мелешь? — Фигура у этой фрау… Барыня, всю жизнь только и делов за фигурой следить! Дочке семнадцать лет, а мать как картиночка. Севка сохнул по дочке, а ты, Егорушка, значит, на мамашу целил? Уехали, забыть не можешь? — Ну, ну, толкуй… — неопределенно проговорил Егор Павлович, нерешивший — отбрить настырную девку или шуткой отыграться. — Иди уж, иди, чудо-юдо… Егор Павлович между тем застегнул уже три пуговицы куртки. Посидеть часок перед ужином с Теодором Ханнике, прямо сказать, никакой не грех (размышлял Егор Павлович) — мужичок он политически не вредный, обходительный, портрет товарища Сталина в золотую рамку вставил, на видном месте в своем ресторане вывесил. Егор Павлович тот портрет в политотделе достал по знакомству, не хватает портретов, нарасхват идут по полкам… Пару рюмашечек пропустить с Теодором немецкого винишка, а уж потом Егору Павловичу и свою барыню — как слеза водочка-то! — на стол можно вежливо: извольте нашей отведать, православной, Теодор Конрадыч, после нее сучьего сына Гитлера ругать одно удовольствие… Застегнув четвертую пуговицу (отчего левая пола куртки взбугрилась), Егор Павлович шагнул было к двери во двор, но тут в кухню вбежала Зина (не берет ее муж, старший лейтенант Гриднев, боится, как бы не остаться без молодой жены, в танковом батальоне помереть — чего проще, — почему-то подумалось Егору Павловичу). — Егор Павлович! Бегом к командующему! Ждут тебя! — зачастила она, улыбаясь как-то странно, на ухо Лидии что-то зашептала. — Да господи-и-и… — Румяное лицо Лидии дрогнуло, она стала смотреть на Егора Павловича, словно первый раз увидела. — Беги, Егорушка, чего ж ты? — сказала Зина. — Ждут! — Подождут, — сказал Егор Павлович мрачно. — Не сорок первый год — бегать… Зина смеялась, но лицо у нее (глянул Егор Павлович) было каким-то непривычным. Егор Павлович расстегнул верхнюю пуговицу, достал бутылку: — Куда тут… приставьте, девчонки. И, застегнувшись на все пуговицы, пошел из кухни. По скрипучей лестнице поднялся на второй этаж, у белой двери поправил фуражку, постучал костяшками пальцев левой руки по гулкому дереву… — Да, прошу, — сказал голос Никишова. Егор Павлович в раскрытых дверях щелкнул каблуками, медленно подносил правый кулак к виску, здесь резко распрямил пальцы. — Товарищ генерал! Гвардии младший сержант Сурин по вашему приказанию прибыл! Никишов стоял у длинного стола, за которым сидели член Военного совета и давно знакомый Егору Павловичу полковник из трибунала… — Прошу, товарищ Сурин, — сказал Никишов, и у Егора Павловича что-то сжалось в груди: давно он не слышал, чтобы командарм так его величал. Улыбнувшись, Никишов посмотрел на полковника. — Прошу, полковник… Егор Павлович поплотнее стиснул зубы… Он смотрел в полное лицо полковника ничего не выражавшим (как думал Егор Павлович) взглядом — «уставным». Полковник поднялся легко, раскрыл синюю папку, взял лист желтоватой бумаги. — Товарищ командующий, — сказал он, кашлянув. — Разрешите доложить вам и члену Военного совета результаты проведенного по вашему приказанию расследования по пересмотру дела бывшего воентехника, командира отдельной армейской автомобильной роты Сурина Егора Павловича… — Да пожалейте, полковник, старого солдата, — сказал, поморгав, член Военного совета и улыбнулся Егору Павловичу. — Слушаюсь, — быстро сказал полковник и глянул на командарма. Никишов засмеялся. — Хотели по всей строгости ритуала… Будет томить-то, полковник! — Никишов подошел к Егору Павловичу. — Все, друг мой Егор. Отвозил меня. Не положено мне по штату, брат, чтобы старший лейтенант возил… Ну, да ты что… Егор?! Стоял Егор Павлович, закаменев. — Ну… ну, будет тебе, Егор… Вот чудак, ему офицерские погоны на плечи, а он… на начальство и смотреть не желает, а? Член Военного совета вышел из-за стола, протянул Егору Павловичу руку. — От души вас, товарищ гвардии старший лейтенант… Очень приятно было читать мне приказ о присвоении вам нового воинского звания… Очень рад, Егор Павлович. — Так точно, — деревянным голосом сказал Егор Павлович, — Благодарю, товарищ генеральный комисс… Егор Павлович вздрогнул, испуганно глянул на генерала. — Ну уж, Егор… — сказал Никишов. — Это ты, брат, подзарапортовался. Ну… поцеловать тебя надо… Егор… Никишов поцеловал Егора Павловича в губы — закаменевшие, горячие, — отвернулся… — Разрешите… идти? — сказал, глядя перед собой и никого не видя, Егор Павлович. — Пожалуйста, товарищ гвардии старший лейтенант, — услышал он голос Никишова. Егор Павлович медленно спускался по лестнице, ноги что-то не слушались. Вошел в кухню, увидел Лиду и Зину. Егор Павлович ткнулся лбом в дверную притолоку и заплакал.38
В телефонограмме из штаба фронта, полученной Никишовым за час до полуночи, сообщалось, что маршал прибудет на совещание старших командиров Седьмой ударной армии к восьми ноль-ноль. Но Никишов уже второй раз поглядывал на часы, отгибая рукав бекеши: Рокоссовский, против обыкновения, сегодня запаздывал… — Товарищ командующий, разрешите послать офицера навстречу? — осторожно сказал генерал Корзенев и снял пенсне. Никишов покосился на начальника штаба. — Через десять минут не приедет — высылайте, Михаил Степанович… Корзенев сдержанно кивнул. — Разрешите курить, товарищ командующий? — Курите на здоровье, Михаил Степанович… Только нехорошие мысли на душе не стоит держать. — Конец войны, товарищ командующий… — Корзенев улыбнулся чуть виновато. — Как вспомню судьбу Черняховского, так и… Такой человек погиб… Да… Вчера был у танкистов на строевом смотре. На солдатских лицах — все написано. Не хочет солдат умирать в сорок пятом… — В сорок первом, конечно, умереть было предпочтительнее, — усмехнулся Никишов. — Только те, кто умирал двадцать второго июня, наши мысли не разделяли. Я, грешный, хочу дожить до две тысячи семнадцатого года… Столетие Октября отпраздновать — тогда уж, так и быть, берите меня, черти или ангелы, судите последним судом, я не в претензии. — Вы молоды, Сергей Васильевич… будет по-вашему, — дрогнувшим голосом сказал Корзенев. Никишов заложил руки за спину, стал похаживать по чистому, под утро выпавшему снегу… В двух десятках шагов от него и Корзенева, у входа в большой блиндаж, на земляной насыпи которого стояли маленькие елочки в шапках снега, курили несколько генералов — в кителях, кое-кто из них вышел из блиндажа подышать свежим воздухом, не надев папах. Негромкий их говор вдруг смолк… — Едут! — сказал кто-то из генералов. Из резко притормозившего «виллиса» вылез Рокоссовский, глянул на подходившего к нему командарма. — Товарищ маршал! Старший командный состав Седьмой ударной армии к проведению совещания готов! Командующий армией генерал-полковник Никишов!— Ну что же, разреши, хозяин, начать? Я постараюсь долго не задержать вас, товарищи… Худые пальцы Рокоссовского коснулись серого сукна перед массивной зеленой пепельницей, он встал, отодвинул стул (единственный здесь мягкий стул, который поставил час назад Марков, решивший сделать это по своей инициативе). Голос его был негромок. — Что же, товарищи… Выдам сейчас тайну вашего командарма. Уж не гневись, Сергей Васильевич… Генералы пошевелились. Никишов качнул головой. — Денно и нощно командарм-семь последнее время житья не дает руководству фронта. Уж на что начальник штаба человек кроткий, мухи не обидит, и тот не выдержал. Кто-то из генералов засмеялся: крутой характер начальника штаба фронта был известен каждому из присутствующих на совещании. — Кровно обижен командарм, почему левый фланг нашего фронта идет к Балтике, а Седьмая ударная все еще ловит беглых немецких кашеваров по лесам… Так вот, Сергей Васильевич, радую: Седьмой ударной выпала честь — принять участие в штурме вольного города Данцига… — Ну, спасибо! — Никишов даже привстал, и генералы засмеялись. — Иного ответа не ждал от Седьмой ударной. Мне могут задать вопрос: почему вдруг такой смелый стратегический размах появился у Второго Белорусского? — Константин Константинович, это уж вы, прощенья прошу, скромничаете… — баском сказал седоголовый сухонький генерал, сидевший слева от Никишова. — Объясняю. Наши боевые побратимы, Первый Белорусский, не забыли старой дружбы. Могу сообщить: маршал Жуков обратился в Ставку с просьбой разрешить его правофланговым армиям принять участие в разгроме восточно-померанской группировки немцев… — Георгий Константинович — мужик памятливый, Белоруссию не забыл, — сказал Никишов. — Мы его там не подводили… — За добро добром — это по-русски… Так вот, уточненный план операции вкратце следующий, товарищи. Наносим плечом к плечу с Жуковым два рассекающих удара по немцу, наше главное направление — на Кеслин, к Балтике. На фронте в семнадцать километров мы превосходим немца по пехоте — без малого втрое, по танкам и самоходкам — вдвое, в четыре с половиной раза — по минометам, ну, и наша артиллерия в три раза превосходит силы немецкой. Авиаторы будут трудиться соответственно… — Подходяще, — сказал кто-то. — Но не лишне напомнить, что силы у противника еще есть, есть, товарищи… Кое-какими цифрами разведчики меня снабдили, вот извольте: во Второй немецкой армии, по последним данным, восемнадцать пехотных дивизий, две танковые, моторизованная, две бригады. А это значит — около двухсот тридцати тысяч человек, восемьсот танков и штурмовых орудий, двадцать бронепоездов, триста бронетранспортеров, четыре тысячи орудий и минометов… Рокоссовский взял со стола еще один лист бумаги. — Это не все. В Одиннадцатой армии немцев, что против Жукова, сейчас одиннадцать пехотных дивизий, одна танковая, две моторизованные и немало отдельных частей и подразделений. Всего в этой армии около двухсот тысяч офицеров и солдат, две с половиной тысячи орудий и минометов, есть еще зенитная и береговая артиллерия. Авиация насчитывает примерно триста самолетов… Мы не настолько наивны, чтобы думать — немец не будет драться на родной земле гораздо злее и упорнее, чем, скажем, где-нибудь под Ладожским озером… хотя, не кривя душой, знаем, что и там немец отнюдь не спешил поднять руки вверх. Сергей Васильевич, подтверждаешь? — Подтверждаю, Константин Константинович, — улыбнулся Никишов. — Вот видите. — Рокоссовский чуть прищурился. — Сергей Васильевич, ты уж не сердись, что я про Ладогу помянул… Мы знаем, что ты был отличным командиром отделения, вот только начальство не любил приветствовать, был такой грех у тебя… Генералы засмеялись. — Мы тут свои люди, Сергей Васильевич, уж не сердись. — Боже упаси, — сказал Никишов, усмехнувшись. — Так вот, товарищи, могу васинформировать — часть плана операции уже выполняется, и, надо сказать, не так уж плохо, а по совести сказать — я рад за успехи ваших соседей на левом фланге фронта. Рад. — На левом фланге крепко шумят, у нас слышно, — засмеялся генерал с погонами артиллериста. — Идут там наши хорошо, зло идут. Взят город Прейс-Фридланд. Третий гвардейский танковый корпус за день прошел сорок километров. Кавалерийский корпус дерется уже за Ной-Штеттин. Прорыв по фронту — до семидесяти километров. — Уже семьдесят?! — Крепко стукнули… — Одно удовольствие такие новости слышать… Рокоссовский чуть отодвинул от себя пепельницу. — С часу на час жду вестей — должны взять Кеслин. Возьмем — значит выйдем к морю и отрежем Вторую армию немцев от других армий. — Спасибо вам за добрые вести, товарищ маршал, — сказал Никишов. — Наша задача, кажется, ясна: не портить обедни?.. — Вот именно, командарм. Задача: решительно двинуть Седьмую ударную на Данциг, наладить настоящее взаимодействие с соседями, не дать немцу позволить втянуть нас в затяжные бои, действовать так стремительно, как мы еще никогда не действовали. Вот так, товарищи генералы. Это единственный способ свести потери личного состава до минимума, сберечь солдату жизнь… И еще порадую: товарищ Сталин приказал Жукову временно передать нашему фронту Первую гвардейскую танковую армию, в нее же включается и танковая бригада Первой армии Войска Польского. Поляки дерутся выше всяких похвал, вы и сами видите, здесь их родная земля… Силы у нас немалые. Дело за одним… Пусть каждый воин Седьмой ударной армии днем и ночью думает об одном — увидеть Балтику… Как можно быстрее прорваться к Данцигу, взять его с ходу! Данциг, Данциг и Данциг — ничего важнее для вашей армии сейчас нет… Командарм встал. — Товарищ маршал, разрешите заверить командование фронта — Седьмая ударная считает участие в операции по взятию Данцига большой честью для всего личного состава… и… спасибо, Константин Константинович! Генералы поднялись…
39
Повариха штаба армии Лида, торопившаяся с ведровым медным чайником в правой руке к блиндажу, где совещались генералы, увидела невысокого полковника в белом полушубке. Улыбнулась — была старой знакомой гвардии полковника Волынского. И удивилась: знала, что его дивизия уже две недели воевала в составе соседней армии… — А-а, Лидия Акимовна! — улыбнулся полковник, потопал сапогами, измазанными в глине. — Хозяин здесь? — Так точно, товарищ гвардии полковник. — Лида пропустила Волынского мимо себя в дверь блиндажа. Поставила чайник на ступеньку, вздохнула, глянула на часового. — Второй раз грею, оказия… Все заседают… Оба часовых молчали. А полковник Волынский, прикрывая за собой дверь, подумал о поварихе — он давно знал Лиду, и она никогда не отвечала ему так, как требовал армейский устав… И только увидев сидевшего за столом маршала Рокоссовсского, полковник понял причину непривычной служебной официальности поварихи, но тут же забыл о Лиде, потому что увидел, как поднялись брови на худом лице маршала. — Здравия желаю, товарищ маршал! — Каблуки сапог Волынского ударили резко. — Разрешите обратиться к командарму? — Каким… каким это ветром вас, полковник? — сказал Рокоссовский и посмотрел на Никишова… — Дивизия совершила стокилометровый марш и прибыла в родную армию, товарищ маршал! — Ого, как торжественно… — Рокоссовский усмехнулся. — Ну, а если поконкретнее, полковник Волынский?.. Я что-то не припомню, чтобы подписал приказ о вашем возвращении к генералу Никишову. Или старость меня добивает, память теряю?.. Волынский глянул в лицо Никишова. — Так. Ясно, — сказал Рокоссовский. — Родная армия, говорите? Все это понимаю. Но на воинском языке это называется самовольными действиями, гвардии полковник Волынский. Не знать этого вы не можете, не курсант кандидатской роты. — Товарищ маршал… разрешите? Дивизия выполнила задачу, крепость взята… Генерал Федюнинский лично объявил мне благодарность… Люди на марше… весь марш с песнями дивизия шла, товарищ маршал! Они же в Седьмой душу оставили! Прошу… прошу наказать лично меня, но дивизию оставить в Седьмой армии, товарищ маршал… — За доброе слово об армии — спасибо, Евгений Николаевич, — негромко сказал Никишов. — Но на месте маршала я сейчас бы не хотел быть… понимаешь? — Все он понимает, Сергей Васильевич, — сказал Рокоссовский. — Понимает, что совершил тяжкое воинское преступление. Да, полковник, преступление! Рокоссовский встал, и сейчас же поднялись генералы: — Где ваша дивизия? — Головной полк гвардии подполковника Афанасьева сейчас должен подходить к перекрестку шоссе, шесть километров отсюда, товарищ маршал! — Посмотрю… Посмотрю, как… в родную армию возвращаются ваши кочколазы ладожские…40
— Передать по колонне — Рокоссовский!.. — Ребята, Рокоссовский сам! — Ножку, братцы, ножку дай! — Второй взвод, подравняйсь! — Маршал тута, мужики! — Подтяни-и-ись! Прошелестел говорок по длинной колонне, смолк… Только над грязной, в лужах, лентой шоссе, над изрытыми гусеницами танков и самоходок снежными полями в пролысинах талой земли словно утроился и стал четким шум от сотен подошв солдатских сапог, бьющих по бетону. — По-о-о-олк! Сми-и-ирно!.. Равнение-е… на… пррраво! Низенький офицер в зеленой английской шинели, повернув смуглое лицо к стоявшему в пяти шагах от шоссе маршалу, смотрел на него, не мигая. — Подполковник Афанасьев, команда «смирно» на марше не подается! — сказал Рокоссовский, засмеялся. Генералы, плотной группой стоявшие за ним, шевельнулись… — Здорово, ладожцы! Четыре раза отрывисто бухнули о бетон сотни сапог, и над шоссе, над полями прокатилось: — Здрав…жела…товари…маршал! — Благодарю за достойную службу Отечеству! Рокоссовский, часто моргая, все хуже видел лица солдат… У него плотно стиснулись губы… «Ура» гремело над шоссе, и Рокоссовский знал, что солдаты видят его слезы, и был тоже счастлив, что он плачет сейчас у этой бетонной немецкой дороги… — Сергей… Васильевич, молодцы-то… а? — сказал Рокоссовский, повернув к Никишову помолодевшее, возбужденное лицо, но тот не ответил, только на щеке у него подрагивал мускул. А роты все шли… Приближалась к месту, где стояли маршал и генералы, еще одна рота. Высокий офицер в туго перетянутой ремнем телогрейке повернул к маршалу обветренное лицо. — Горбатов! Где ваш запевала? — крикнул маршал. — Живой, так точно, товарищ маршал! — закричал Горбатов. И генералы засмеялись. Горбатов на ходу повернулся лицом к роте, глаза его строго сузились, и сейчас же нахмурились лица четырех сержантов первой шеренги… — Шароварин… запевай! — Давай, Павлуша, — шепнул гвардии рядовой Бор-зов шагавшему справа младшему сержанту. — Давай твою оторвем… И над шоссе — голос:41
Рокоссовский подошел к высокому окну, заложив руки за спину и устало улыбаясь, смотрел на стайку воробьев, что прыгала на голых ветвях двух старых берез. Потом раскрыл форточку, погладил правую щеку длинными пальцами, и Никишов увидел, что висок у маршала совсем седой. Сидел Никишов на белой табуретке рядом со столиком, возле которого уже несколько минут держал черную тяжелую трубку аппарата ВЧ младший лейтенант в новенькой гимнастерке. — Москва, товарищ маршал, — торопливо проговорил младший лейтенант, поднимаясь с табуретки. — Покурите, — сказал Рокоссовский, улыбнувшись, и взял трубку. Прикрыв плотнее высокую дубовую дверь за младшим лейтенантом, Никишов прислонился плечом к притолоке. Что-то щелкнуло в трубке, и Никишов услышал знакомый глуховатый голос Сталина… — Здравствуйте, товарищ Рокоссовский… Маршал сел на табуретку. — Здравствуйте, товарищ Сталин. Считаю долгом поставить вас в известность о ситуации, сложившейся на фронте. Хорошо был слышен в маленькой комнате голос Сталина: — Слушаю. — Я впервые за всю войну остался без резервов. В армиях фронта полки — только двухбатальонного состава, в ротах — по двадцать два — сорок пять человек. Плохо с боеприпасами, обеспеченность ноль три, ноль пять боекомплекта. Перед фронтом — крупные силы немцев. — Уточните. Без круглых цифр. Мне известны круглые цифры наших генштабистов. — Слушаюсь. Передо мной соединения Второй полевой армии. Две танковые и четырнадцать пехотных дивизий. Четыре пехотные бригады, две боевые группы, четыре отдельных пехотных полка, пятнадцать отдельных пехотных батальонов… Никишов видел, как усмехнулось бледное лицо маршала. — Круглым счетом — двести тридцать тысяч солдат и офицеров. — Я вижу, вы шутите, товарищ Рокоссовский, значит, до гибели еще далеко… — Здесь со мной Никишов. Улыбается… по молодости лет. А я не улыбаюсь, товарищ Сталин. — Обиделись, что перевели вас с Первого Белорусского, товарищ Рокоссовский? — Я солдат, приказы привык выполнять. — Знаю. И вы знаете, что маршала Константина Рокоссовского товарищ Сталин ценит еще с лета сорок первого года, когда он с кучкой толковых офицеров в неделю сколотил из окруженцев армейскую группу. У меня хорошая память, товарищ Рокоссовский. — Я знаю, товарищ Сталин. Спасибо. — Вы понимаете, что, не покончив с Восточной Померанией и не накопив на Одере достаточных сил, мы не можем бросить армии Жукова на Берлин. — Надо обезопасить его правый фланг, товарищ Сталин. — Вот теперь вы сказали то, что хотели сказать… — Да, это меня беспокоит, товарищ Сталин. А мой уважаемый сосед Георгий Константинович все еще стоит на месте… Пауза была долгой, Рокоссовский глянул на Никишова… — Сейчас старик поставит точку над «i», — шепотом сказал Никишов. И, словно Сталин услышал эти слова, из трубки донеслось: — Жуков хитрит?.. Никишов улыбнулся, дрогнули и губы маршала. — Не думаю, товарищ Сталин… — Не думаете? — Нет. Но его фронт стоит. Это опасно. Прошу усилить мой фронт резервами Ставки или обязать Жукова перейти в наступление правым флангом. У меня оголен левый фланг, а там в Ной-Штеттине немец собрал крепкий кулак… Ударит — будет плохо, товарищ Сталин… Опять пауза. — Ной-Штеттин за разгранлинией, в полосе Жукова, так? — Так точно. Пауза. Было слышно — Сталин раскуривает трубку… — А вы не сможете взять этот Ной-Штеттин, товарищ Рокоссовский? Понимал Никишов — не так просто сейчас ответить. — Возьмете — в честь вашего фронта дадим салют… Рокоссовский засмеялся. — Хорошо, попытаемся, товарищ Сталин. — Спасибо. А Жукова я потороплю. Всё, товарищ Рокоссовский? Маршал глянул на Никишова… — Разрешите вопрос. Получу я резервы? Никишов кивнул. Правильно! Это — цена за Ной-Штеттин, молодец Константин Константинович, не очень-то клюнула приманка Верховного о салюте… — Резервы получите. До свидания. — До свидания, товарищ Сталин. Рокоссовский подождал, когда положит трубку Сталин, потом клацнули рычаги его аппарата. — Вот так и живем, Сергей Васильевич… а? — Все отлично, Константин Константинович! — Еду. Не провожай. Надо браться за этот чертов Ной-Штеттин. Поеду к Осликовскому, пусть зарабатывает со своими кавалеристами салют из двухсот двадцати четырех орудий… — Заработает! — засмеялся Никишов. — Старый рубака свое дело знает… Рокоссовский поднялся.ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
00.38. 19 апреля 1945
КОМАНДАРМ
Ну… держись, генерал Никишов… (— Сергей Васильевич? — Слушаю, товарищ маршал… — Не передумал? Время еще есть переиграть. — Нет, не передумал. — Тогда — жди…)ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
Во сне такое привидится — в ледяном поту проснешься. Живая смерть, не люди, стояла тысячами справа и слева от дороги, которую польская танковая бригада пробила напрямик через плац концлагеря. У Борзова ноги гудели, когда к тому концлагерю вторая рота подошла. А увидел людей в арестантских бушлатах — словно живой водой Борзова окатили, шагал Борзов твердо по мерзлой земле. Не по-русски люди кричали, шапки сняв. Только уж в самом конце лагеря увидел Борзов: стояло справа человек двадцать, солдатской выправкой от всех отличаясь. — Братки-и!.. Нас семь тысяч было, братки-и! — один из той двадцатки крикнул. — Отомстите, браточки родненькие! Пусть фашист кровями захлебнется! Во сне такое привидится — в ледяном поту проснешься…42
Вторая рота свернула с шоссе в узкую щель лесной просеки. Было здесь сумеречно, тепло, крепкий горьковатый запах шел от верхушек сосен, уже пригретых утренним солнцем… Гвардии старший лейтенант Горбатов размеренно ступал по сырому песку новенькими хромовыми сапогами (только вчера взял у старшины — от самой Вислы, когда орден Отечественной войны шел получать, берег сапоги, ни разу не надевал). Легко, на свежую силу, шагавший рядом с ротным гвардии рядовой Борзов сегодня, против обыкновения, помалкивал. Понимал Борзов, что и новые сапоги, и шинель вместо привычной синей телогрейки, и «самошивка» — темно-зеленого габардину фуражка с длинным козырьком, сработанная покойным Моисеем Файнбергом за день до того, как ротная повозка на мине подорвалась (душа был мужичок, пристроился ко второй роте по своей воле в белорусском местечке Станьково, что за Минском), — все это щегольство потому, что малость робеет Венер Кузьмич командовать штурмовым отрядом… Ротой заворачивать — одно дело, а тут Кузьмичу и танки придает начальство, и самоходок взвод, и саперов, и батарею старого приятеля Семена Хайкина… Войско! Шагал Кузьмич вроде и неторопко, а по звуку от глухого топота солдатских сапог за своей спиной знал Борзов — верных шесть верст в час рота жмет… — Никак, Малыгин Федька топает? — сказал Борзов, прищуриваясь: бежал навстречу роте, иногда пересигивая серебряные пятна луж, низенький парнишка в зеленой телогрейке, колотился автомат за его спиной… Малыгин обежал длинную лужу, отражавшую синь неба, перешел на шаг, плотно ставя вымазанные в глине сапоги, остановился в пяти шагах от ротного. Потное, красное, с ямкой на подбородке лицо мальчишки было веселым… — Товарищ гвардии старший лейтенант! Разрешите доложить? — Ну? — хмурясь, сказал Горбатов. — По причине немецкой толпы — не пройти, товарищ гвардии старший лейтенант! Беженцы аккурат за поворотом! Всю дорогу загрудили, товарищ гвардии старший лейтенант! Сержант приказал доложить — чего с ними делать? — Вот дурьи башки, — сказал Борзов. — То к Данцигу рвали, теперь в обрат шарахнулись… Завинтил им мозги Геббельс, прах его дери, а?.. — Тыщи там, товарищ гвардии старший лейтенант! — сказал Малыгин, блестя глазами. — Какие будут приказания? Но ротный почему-то молчал. Покусал нижнюю обветренную губу, вздохнул. — Что у тебя из кармана торчит? — сказал Горбатов тем негромким голосом, который (знала вся вторая рота) ничего доброго не предвещал… Малыгин, все еще улыбаясь взмокшим лицом, торопливо выдернул из кармана брюк перчатки — желтого хрома, с двойными настрочками по швам… — Вчера нашел, товарищ гвардии старший лейтенант, — сказал Малыгин, держа перчатки перед собой на подрагивавшей ладони. — Повозка там была, на мызе, бросивши ее немцы… И я… это… как раз возле дышла… двуконная повозка была… валяются, гляжу… — Я спрашиваю — что это? — еще тише проговорил Горбатов. — Так… перчатки же, товарищ гвардии старший лейтенант… Малыгин смотрел на перчатки. — В форменное обмундирование, что тебе старшиной выдано, входят такие перчатки? — сказал Горбатов, вздохнув. — Нет… никак нет, товарищ гвардии старший лейтенант! Это ж фрицевские, товарищ гвардии старший… — Ну, порадовал, товарищ Малыгин… Спасибо. Не зря мы думали — молодое пополнение к нам придет, заживем с такими орлами лучше некуда… Оправдал, оправдал… Гляди, Николаич, какой орел, а?.. Левый погон на соплях держится, ниток у старшины недосуг орлу взять, сапоги неделю не смазаны, подворотничок сменить орлу нет охоты. Назначен в боевое охранение, а оружие на спине болтается… Ты в какой стране находишься, Малыгин? Малыгин облизнул губы. — В Германии… товарищ гвардии старший лейтенант… — Не похож ты, гвардии рядовой Малыгин, на бойца второй роты. Может, в команду трофейную перевести, а?.. Или в похоронную?.. Погоны позоришь, гвардии рядовой!.. Сегодня, глядишь, перчатки у немца снял, завтра часишки у кого присмотришь. Воин-освободитель… — Товарищ гвар… — Молчи, Малыгин. Обидел ты всю вторую роту, понял? Молчи. Говорить будешь на комсомольском собрании. А сейчас я тебя перед строем роты поставлю. Поделишься опытом, как мародерничать ловчее. — Товарищ гвардии старший лейтенант!.. Да я!.. — Малыгин, зажмурившись, швырнул перчатки к сапогам. — Поднять, — все тем же негромким голосом сказал Горбатов, и Малыгин, медленно нагнувшись, взял перчатки двумя дрожавшими пальцами… Он вытер кулаком мокрые глаза, бросил на ротного взгляд. Но тот двинул подбородком. — Отойди с дороги. Стой. Лицом к роте. Горбатов оглянулся. — Рота-а… шагом марш! Шагала вторая рота мимо своего командира и низенького заплаканного мальчишки, что стоял у сосенки и держал в опущенной правой руке желтые перчатки… Когда заскрипели колесами четыре свежевыкрашенные в зеленое повозки ротного тыла, Горбатов сказал Малыгину: — Двое суток ареста. Будешь при кухне. Все! — Слушаюсь, товарищ гвардии старший лейтенант! — голосом, от которого Горбатов не сдержал улыбки, сказал Малыгин. — Да я… товарищ гвардии… — Я прощу — служба не простит, — сказал Горбатов. — Иди! — Слушаюсь! Малыгин бросил перчатки под сосенку… Смотрел Горбатов, как догонял повозки Малыгин, на ходу перекидывая ремень автомата через голову. — Ишь нарезал, стервец… А, Коля? Борзов, стоявший в трех шагах от ротного, засмеялся. — Отморалил ты Федьку — дошло до селезенки, точно! — Он подошел к сосенке, поднял перчатки, отряхнул от песка. — Надо Федюшке вернуть, цену он отвалил — будь здоров. — Отдай, пес с ними, — сказал Горбатов. Они догнали последнюю повозку, возле которой шагал Малыгин, успевший обмыть в луже сапоги. Откинув с головы серое одеяло, приподнялся в повозке гвардии старшина Евсеев. — Что, на отдых откомандирован, а? — сказал он. — За какие подвиги ратные? Похудел ты, что ли, Федя? — Ничего, вытерпит, — сказал Горбатов. — Умней будет. — Согрешил, солдат? — засмеялся Евсеев. — За перчатки те, а?.. То-то гляжу, ты без перчаток сегодня маршируешь… Венер Кузьмич дня три выжидал, чтоб тебя прижучить покрепче… Не знаешь ты командира, а я, браток, каши с ним не одно ведро умял с сорок третьего. — Ладно, ладно, — усмехнулся Горбатов. — Как нога-то? Надо б тебя по делу-то в санбат на недельку, покуда рана не закроется… Борзов сунул перчатки в карман Малыгину, подмигнул. — Подарок от командира, Федя, за отличную службу… Носи! — Да ну их! — смутился Малыгин, бросив взгляд на ротного. — Ладно, Федор, — усмехнулся Горбатов. — Для памяти сгодятся. Евсеев вдруг сел, прищурившись, смотрел мимо ротного… — И красна кавалерия… — проговорил он. — Галька, точно! Оглянувшись, увидел Горбатов: сизо блеснули брызги из лужи — пролетел над нею серый рослый конь. А в седле — Галина Чернова! Всхрапывая, дергая маленькой головкой с белой узкой пролысиной на лбу, конь сбавил бег, перешел на рысь, высоко вскидывая передние ноги. Галина рванула повод, конь захрапел, стал в пяти шагах от повозки… — Венер Кузьмич! Дарю! — засмеялась Галина, ткнула в бока коня каблуками аккуратных сапожек. — Стоя-ять, Данциг, военнопленный! Стоять, немец! И вдруг, отбросив назад правую полу шинели, легко спрыгнула с седла, блестевшего медной окантовкой высокой передней луки, подхватила коня под уздцы. — Сто-ять, Данциг! Евсеев засмеялся. — Ох, Галина… Сама, что ль, лошадку окрестила? Горбатов подошел к коню, пошлепал ладонью по белой пролысине. Лицо у него побледнело. Ах, черт те дери, конек какой… — Дарю, Венер Кузьмич, — сказала Галина. — В Данциг въедешь на Данциге! Фриц на дорогу выехал, автомат на меня… Я его и… Стоять, Данциг, дурачок, стоя-ять… Хороший, а, Венер Кузьмич? — Смотри, Галина, догеройствуешь ты у меня, — сказал Горбатов, улыбаясь и поглаживая коня по шее. — Носит тебя, окаянную… — Никакого присмотра за ранеными героями, — сказал Евсеев. — Приструнил бы ты нашего санинструктора, Венер Кузьмич, а? Завтра она на танке прикатит, не дан бог, а куда нам танк — кухню разве таскать на прицепе?.. Малыгин захохотал. — Товарищ гвардии старший лейтенант! Берите! Ой, конь!.. Горбатов усмехнулся. — Ты арестованный — иль нет? — Виноват… Галина глянула на Малыгина. — Погорел, Федька?.. Вот хорошо, а то котлы на кухне некому вымыть толком. — Галина засмеялась. — Я тебя к дисциплине приучу, будешь как миленький котлы драить и воду таскать, а то Семенов зашился, старый черт… Венер Кузьмич, могу я его взять? — Бери, бери, он давно на кухне не был, — сказал Горбатов. — Да я ни разу еще, — с обидой сказал Малыгин. — Ничего, солдату взыскание за дело — что коню овес, — усмехнулся Горбатов, приподнял крыло седла, привычным движением (сразу все поняли) прикинул длину стременного ремня, сунув стремя под мышку вытянутой правой руки… — Коротко, — сказал Евсеев. — У тебя вон какие ходилки-то, Кузьмич… Горбатов перестегнул пряжку, опустив ее на четыре дырки по ремню, поправил крыло. А Галина, зайдя к правому боку коня, уже отпускала другое стремя… — На четыре дать? — спросила она. — На четыре… Горбатов натянул повод, ухватился левой ладонью за короткую гриву (был это уставной прием, как заметил Евсеев, еще до войны служивший в конном дивизионе), неторопливо пронес над седлом прямую правую ногу, не глядя, продел сапог в стремя. — Скажи на милость, — удивленно засмеялся Евсеев. — Ты у Буденного не служил, командир, а?.. Силе-ен… А я-то думал — ты пехота… — Пехотой я был в сорок первом, а сейчас сорок пятый, — усмехнулся Горбатов, привстал на стременах, выправил полы шинели, разобрал повод в пальцах. — Прямо маршал, — сказал Борзов. — Точно. — Должок за мной, Галя, — сказал Горбатов. — Ага! — засмеялась Галя. — Где б мне кобыленку найти? — сказал Борзов. — Да вон Федора попроси, он тебе враз сыщет, — сказал Горбатов, тронул бока коня каблуками. — Вперед, Данциг… — Эх, товарищ гвардии старший лейтенант… — отвернулся Малыгин от ротного, обидевшись до того, что даже шея у него покраснела. Но ротный уже тронул коня рысью.43
Густав Герцберг все медленнее передвигал по сырому песку просеки ботинки с крагами. Ни в каком страшном сне не мог увидеть себя Густав Герцберг в этих ботинках и крагах (давно заброшенных в ящик для старья), которые переступали сейчас по сырому песку все медленнее, все медленнее, — потому что до русского офицера, скуластого, курносого, в серой длинной шинели и зеленой фуражке, под которым нет-нет и бил копытом высокий серый конь, оставался десяток шагов… Густав Герцберг чувствовал, как лицо, не бритое уже восьмой день, становится мокрым от пота, и ледяная эта влага ела глаза, как давно, очень давно, когда валялся рядовой Герцберг на гнилой соломе в каком-то украинском хуторе, брошенный в тифозной измори своими сослуживцами, — ушли сослуживцы в метельную темь декабрьской ночи восемнадцатого года… Он стиснул пальцами полированное, цвета вишни древко белого флага — было полотнище восемь дней назад простыней на кровати племянницы Греты, вдовевшей в свои двадцать два года уже семь месяцев и по утрам среды и субботы с девчоночьими взвизгами отдававшейся дяде, а на древке те же восемь дней назад висели в спальне Греты зеленые с золотыми звездочками шторы… Ботинки Густава Герцберга остановились на краю лужи, и краем глаза видел он отражение белого полотнища в воде… Он смотрел на русского офицера — лицо офицера было спокойным. Он смотрел на солдат, стоявших колонной. И лица солдат были спокойны, усталы, как у людей, которые уже давно шагают вот так за своим офицером в колонне по четыре в ряд, как когда-то, в восемнадцатом, шагал за обер-лейтенантом бароном Гнейзенау рядовой Герцберг… Он смотрел на солдат — высоких и низеньких, с совсем молодыми лицами, видел пожилые лица с усами, похожими на усы фельдмаршала Гинденбурга… Он смотрел на зеленые, уже терявшие цвет, коротенькие куртки солдат, перехваченные в поясе кожаными и брезентовыми ремнями, на сапоги из толстого брезента, на серые шапки с красными звездочками, на зеленые погоны… Он смотрел на непривычные, с прикладами из светлого и темного дерева автоматы, свисавшие на брезентовых ремнях с правых плеч русских… «Если сейчас этот офицер… если повернет голову к своим солдатам… и прикажет…» — попробовала родиться мысль, и Густав Герцберг подавил ее, потому что эта мысль была ужасной. — Ну-к, папаша, покажь знамя, — сказал гвардии старший лейтенант Горбатов, и солдаты за его спиной негромко засмеялись. Старый немец в ботинках на толстой подошве, в черном драповом пальто, в шляпе с короткими полями улыбнулся пухлощеким лицом — и Горбатов качнул головой: уж очень испуганные глаза были у старого фрица. — Иди, иди, не бойся, — сказал Горбатов. Густав Герцберг посмел оглянуться, очень медленно повернув шею, и, не различая лиц, посмотрел на людей, что стояли плотной толпой в лесной просеке, на сотни людей, которые выпустили Густава Герцберга вперед с таким видным издалека белым полотнищем на полированном древке… Только одно лицо узнал Густав Герцберг — с ямкой на розовом подбородке. — Иди, дядя, — сказала Грета негромко, и Густав вздрогнул, потому что эти слова он слышал от Греты по утрам в среду и субботу, когда она усталым движением полной руки гладила его лицо — чисто бритое лицо — и сонно закрывала глаза, улыбаясь уже отчужденно… Старый немец обошел лужу, виновато улыбаясь, приподнял свое знамя повыше, и Горбатов, усмехнувшись, взял древко. — Гляди, Николаич, обойными гвоздочками прибито… Аккуратисты, а? — засмеялся Горбатов. Гвардии рядовой Борзов взял древко из рук ротного, постучал пальцем по вишневому лаку, и несколько солдат и сержантов подошли к нему… Густав Герцберг тоже улыбался, глядя, как русские почему-то смеялись, щупая белое полотнище и древко, — теперь Густав Герцберг уже знал, что русский офицер на сером коне не повернет головы к своим солдатам и не скажет каких-то непонятных слов, после которых здесь, на этой узкой лесной просеке, русские пули били бы в плотную толпу немцев… — Папаша, прикажи своим — дорогу нам надо, вег, вег, понял? — сказал Горбатов. — Идти надо, понял? — Дорога! О-о, дорога! Яволь! — торопливо сказал Густав Герцберг, и какой-то улыбавшийся парнишка с красными полосками на мятых зеленых погонах сунул ему в руки древко знамени. — Держи крепче, начальник! — сказал Пашка Шароварин. Густав Герцберг приподнял знамя, повернулся лицом к тихой толпе, закричал голосом человека, которому дали право командовать: — Внимание!.. Все — направо марш! Быстрее!.. Русским надо освободить маршрут! Быстрее! И только в эту минуту, когда над тихой толпой, конца которой не было видно Горбатову, прошелестел тихий говор, понял Горбатов: здесь, на просеке, немцев было тысячи, пожалуй, три… Прищурившись, смотрел он, как женщины, старухи, девчушки, пареньки, дети, старики молча ринулись к правой опушке просеки, завизжали колеса тачек, тележек… Люди спешили укрыться меж тонких сосен, давились, кое-где — подальше от белого знамени — кричали дети… — Ладно! Хорош! — крикнул Горбатов. Он тронул коня каблуками… — Рота, шагом марш! Подтянись! Старый немец со знаменем попятился, улыбаясь, к обочине проселка, поднял белое полотнище на вытянутых руках. — Надорвешься, дед! — засмеялся Пашка Шароварин. Горбатов увидел на песке куклу — в зеленом платье, с длинными розовыми ногами. Лежала кукла ничком, и было в этой позе что-то такое, отчего Горбатов сказал шагавшему у стремени Борзову: — Николаич, подыми… Черти полосатые, от страху дуреют… Борзов обогнал ротного, поднял куклу, отряхнул ладонью песок с зеленого платья, поднял куклу над головой. — Эй, хозяева!.. Чья девка? Смотрел Борзов на длинную полосу испуганных лиц, что тянулась вдоль правой опушки в пяти шагах от проселка. — Эх, Европа… — Борзов свернул с дороги, остановился перед молоденькой немкой в серых штанах, синем коротком пальто. — На, ищи хозяйку… Да бери! — Данке, герр зольдат, — тихо сказала немка. — Не за что, — засмеялся Борзов и пошагал торопко, обгоняя первый взвод.44
Гвардии старший лейтенант Горбатов привел роту в район сосредоточения штурмового отряда за пятнадцать минут до срока. На длинной, в полкилометра, поляне соснового леса уже стояли в ряд шесть танков тридцатьчетверок, напротив, у другой опушки еще рокотали моторами, подравниваясь, четыре самоходки, а дальше увидел Горбатов темно-зеленые с надульниками стволы батареи старого, еще с Ладоги, приятеля — гвардии капитана Хайкина… Спрыгнув с Данцига и отдав повод Борзову, гвардии старший лейтенант неспешно зашагал по прошлогодней жухлой траве, кое-где залитой торфяными бурыми лужами. Он издали приметил среди группы офицеров и сержантов в синих и черных комбинезонах английскую зеленую шинель дружка Семена Хайкина, месяц уже щеголял артиллерист в «подарке Черчилля», как называли солдаты эти тонкого, редкого сукна шинели, в которых зимой армейские модники зубами стучали, но по молодости лет считали это пустяком… — Смирно-о-о! — закричал кто-то среди парней в комбинезонах тем истовым голосом, которым любят подавать команду молодые офицеры, — гвардии старший лейтенант, командир штурмового отряда, огибал лужу в десятке шагов от кучки танкистов… Горбатов остановился, прищуриваясь. — Товарищи офицеры, попрошу ко мне, — сказал он негромко, и к нему зашагали два старших лейтенанта (обратил внимание Горбатов на красивое лицо того, что был повыше) и гвардии капитан Хайкин, чуть небрежной походкой подчеркивая, что хотя сейчас командиру штурмового отряда он и подчиняется со своей батареей, но капитанские погоны все-таки у него, а не у Горбатова… Офицеры щелкнули каблуками начищенных сапог. Сержанты за их спинами вытянулись. — Гвардии старший лейтенант Гриднев! — сказал красивый танкист. — Гвардии старший лейтенант Иванюта! — сказал самоходчик. — Между прочим, товарищи офицеры, война еще не пошабашена, — сказал Горбатов, и лица троих офицеров сразу стали скучными. — Вы, товарищ гвардии капитан, были здесь старшим до моего прибытия, а о сторожевых постах кашевар за вас будет думать? Может, мне полковнику Вечтомову звонить, чтоб другую батарею дал, а?.. — Товарищ гвардии старший лейтенант, я просил бы вас… — тихо проговорил Хайкин, и смуглые его щеки стали багроветь. — А я попрошу не забывать, что кругом по лесам всякая сволочь табунами бродит, которая не одного славянина угробила. — Виноват, товарищ гвардии старший лейтенант, — сказал Хайкин. Горбатов вздохнул. — В девять ноль-ноль комдив и полковник Вечтомов должны прибыть, а у нас тут прямо гулянье на первомайский праздник… Посты я приказал от роты выделить. А вас прошу построить личный состав. — Горбатов медленно обвел взглядом поляну, по которой бродили танкисты и самоходчики. — Вон перед танками стройте, товарищ гвардии капитан. — Слушаюсь! Разрешите выполнять? Горбатов усмехнулся. — Погоди… Поздороваться надо… кочколазы полосатые… Офицеры засмеялись, протягивали Горбатову руки. — Порядок будет, товарищ начальник, — сказал красивый танкист. — Дал ты нам прикурить… — Ладно, ладно… Давай дело делать, кочколазы, а то сейчас Волынский стружку с нас снимет… Командуй парадом, Семен. Горбатов успел выкурить сигарету, пока перед ним бежали к танкам солдаты, сержанты, старшины, выстраивались в две длинные шеренги, переговаривались, пересмеивались и подтягивал кое-кто поясные ремни потуже… Низенький гвардии капитан в зеленой шинели похаживал перед шеренгами, поджидая опаздывавших на общее построение штурмового отряда… Вторая рота подошла в плотных взводных колоннах, щеголяя строевой выучкой перед танкистами и самоходчиками, дружно грохнула каблуками и замерла… От орудий подошли артиллеристы — четыре расчета по пять человек и отделение управления, все шесть солдат и сержантов которого были в куртках из немецких плащ-палаток. — Отря-яд… равня-а-айсь! — закричал тенорком гвардии капитан. — Отставить!.. Танкисты, на полшага левый фланг завалили! Подравняйсь!.. Батарея, последний ряд неполный! Устав для вас не писан?.. Пошевелились, равняя шеренги, парни в комбинезонах, кое-кто из танкистов поворчал глухо, и опять тишина поплыла над поляной, только был слышен скрип колес повозок: выкатывались из просеки в дальнем конце поляны повозки тыла второй роты… — Самоходчики! Полступни вперед, заваливаете равнение! — крикнул гвардии капитан. «Ну, молодец Семен… Помурыжить ребят надо, надо… — думал Горбатов, приминая сапогом окурок сигареты. — Одна польза, если чуток помурыжить, службу напомнить… А то танкисты больно нос дерут перед пехотой, черти полосатые, пехтура для них — что для нас обозная команда». Наметанным за годы службы взглядом увидел Горбатов, как дружным, веселым взмахом рванулись направо подбородки после команды Семена Хайкина. — Отряд… смирно! Равнение… на середину! Высоко подымая сапоги с оттянутыми носками, гвардии капитан зашагал к Горбатову, взяв правую ладонь под козырек чуть сдвинутой к уху шапки. — Товарищ гвардии старший лейтенант! Личный состав двух взводов танков, батареи СУ, артбатареи и стрелковой роты по вашему приказанию построен! Командир артбатареи гвардии капитан Хайкин! Глаза Хайкина смотрели в спокойное скуластое лицо командира штурмового отряда с такой дружелюбной готовностью выполнить любое приказание, что Горбатов улыбнулся, шагнул вперед. — Здравствуйте, штурмовики! — Здрав желам товар гвар стар лейт! — через секунду отозвались шеренги, и по этому дружному, ладному, веселому вскрику стало понятно каждому, кто стоял сейчас на поляне, залитой солнцем, — все идет здесь правильно, хорошо, толково, и незримый дух общей солдатской судьбы штурмового отряда вошел в сердца… — Вольно… — негромко сказал Горбатов, и это слово повторил, щегольски крутнувшись на каблуках, гвардии капитан. Горбатов приблизился к шеренгам еще на пять шагов. — Вопрос ко всем… Кто хочет Берлин штурмовать — два шага вперед… марш! Глухо грохнули десятки сапог по траве… Горбатов улыбнулся, оглядывая не потерявшие равнения шеренги. — Спасибо, ребята… Такими орлами командовать — не служба, а малина… В шеренгах засмеялись. — Только вот что, товарищи, вам должен доложить… Для нас, для всей Седьмой ударной армии, для никишовцев, дорога на Берлин аккурат лежит через Данциг… Такая уж тут география, товарищи гвардейцы… Горбатов снял фуражку, вытер рукавом взмокший загорелый лоб. — Приказ для нас короток — будем шуровать на всю катушку впереди дивизии, не давать немцу передыху, кость ему в горло… Ясно, гвардейцы? — Ясно!.. — ответили шеренги. — Данциг товарищ маршал Рокоссовский приказал брать с ходу, не чикаться, как наши соседи с этим Кенигсбергом… Мне командир дивизии вчера лично хорошую новость сказал, гвардейцы, по секрету уж вам доложу. — Горбатов лукаво приморщил курносое лицо. — Гвардии полковник заверил, что личный состав штурмового отряда в обиде на командование дивизии не будет… Мне приказано — после каждого боя лично докладывать гвардии полковнику о всех, кто показывает пример настоящего русского солдата, бьет немца нещадно, на тыл не оглядывается. Я уж боюсь, ребята, не хватит у комдива орденов для нашего отряда… Шеренги засмеялись. — Ну, на худой конец командарм подбросит наград, — улыбнулся Горбатов. — Вот так, гвардейцы. Коммунистам и комсомольцам особых слов говорить не буду, народ понятливый. Они свое дело знают — шагай впереди, а у партии большевиков память на добрые дела крепкая… Всё. Офицеры — ко мне, остальные… р-разойдись!ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
00.46. 19 апреля 1945
КОМАНДАРМ
(— Товарищ третий. Докладывает Караушин. На ноль тридцать уровень воды прироста не дал. Ветер — два балла. — Дошли до господа наши молитвы, а? Хорошо, Николай Семенович. На душе полегче… Устали? Выдалось вам оперативное дежурство веселенькое… — После войны будет что вспомнить, товарищ третий. — Да, войне — конец… Мир… Слово-то какое, Николай Семенович, а? — Хорошее слово, товарищ третий… — Шагнем через Одер — и мир… Ну, хорошо, Николай Семенович. Если Одер поутих — не звоните. Надо вам отдохнуть немного. — Спасибо, товарищ третий. Не устал.)ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
Все бока отлежал Борзов, а глянул при свете коптилки на ручные квадратные часы — всего-то пятнадцать минут четвертого… Разбаловался солдат, победу чует, вот и отлежал бока… Усмехнулся Борзов, шинель откинул, на нарах сел. Соседи (справа — новый старшина Борька Мануйлов, слева — связист Пашка Шароварин) сладкие, видать, сны на душу впустили, носами песни поют… Да. Пятнадцать, нет, уж семнадцать четвертого… Ладно, покуда молодежь невест по лужку за ручку водит (ну, сладко дрыхнут, стервецы), надо честь по чести к общему построению батальона приготовиться… В девять ноль-ноль приказано, сам командир полка гвардии подполковник Афанасьев явится… Да. Третий орден Славы… Ничего. Третий, а?.. Везучий ты, Колька Борзов, человек… С двадцать четвертого июня, с самого начала, воюешь, верст перемерил — господи, не сосчитать, а яма для тебя еще не вырыта… Рассердился на себя Борзов — так, не очень, потому что в праздник душу грызть — это уж самое распоследнее дело, уж праздновать — так праздновать, плакать — так в голос. Достал Борзов из вещмешка баночку асидола, фанерную дощечку с прорезью для пуговиц, гимнастерку, что берег в вещмешке вот уж пятый месяц, расправил… подходящая гимнастерка, хоть на строевой смотр сейчас. Подворотничок подшивать — занятие приятное… Два миллиметра белой каемочки из трофейного шелка над краем воротника гимнастерки — линейкой меряй, точно… Так, подходяще… Теперь надо все регалии подраить тряпочкой. Заслужил, заслужил ты, Коляша, за те версты, что отшагал с двадцать четвертого-то июня… По базарной площади, во вторник, торговый спокон веков у шуян денек, не совестно и прогуляться будет, а?.. Медаль «За отвагу»… Дорогая медалька-то, в августе сорок первого годка за такую награду попотеть надо было солдату… Да… Еще две «За отвагу»… Эта вот — за того длинного фрица, всю левую руку изгрыз тогда гаденыш, покуда я ему кляп не вогнал в зубастый рот. Как тогда с сержантом Егоровым Митькой живы остались — ума не приложу, по всем статьям загнуться нам был жребий в ту ночку, это точно… Да… Красную Звезду мне уж Венер Кузьмич вручал, лейтенантом еще только явился с курсов… А красивый орденочек — «Слава», видный из себя орденочек… Бог троицу любит, третий орденок — аккурат для солидности будет. — Николаич, ты чего шебуршишь тут?.. — Пашка голос подал, зевнул — и опять мертвехонек… Прибрал все в вещмешок Борзов, лег, шинелью укрылся с головой, минут, поди, через пять шагал уж по базарной площади в Шуе, день был дождливый, серый, никого на базар в такую мокрядь не тянуло, и шагал Борзов один под дождем, совсем один, босиком почему-то был, ногам в лужах было зябко, и видел Борзов издалека еще — стоял у ворот племяш его, Колька, во фрицевском новеньком мундире, на все пуговицы застегнутом, только ремня на мундире не было. Стоял Колька, смотрел на Борзова, только глаз у Кольки не было, темные щелки под светлыми бровями. Сказал Борзову голосом непривычным, как мальчишка сказал Колька: «Я босой никогда не буду ходить, дядя Коля… Убили меня, письмо ты не получил еще, а меня убили… Убили меня, дядя Коля…» Борзов к Кольке совсем рядом подошел, за правое ухо его взял, хотел оттаскать, чтоб такие слова дяде родному не смел говорить, а ухо-то у Кольки ледяное… Заплакал Борзов, хочет слово сказать Кольке, какое-то слово заветное, а вспомнить то слово не может… — Коля… Николаич! Чего ты… дышишь-то как? — Пашка заелозил, на локте приподнялся. — А?! — Повернись ты на другой бок, орешь со сна, черт… Утих Борзов. А в девять часов тридцать минут на просеке в сосновомнемецком лесочке… — Гвардии рядовой Борзов! — Я! — Ко мне! Двадцать пять шагов Борзову до гвардии подполковника Афанасьева… — Гвардии рядовой Борзов для получения правительственной награды прибыл! — Поздравляю, товарищ Борзов… Да ты, старый солдат… держись… Ничего уж не видел Борзов, а ответил не хуже других: — Служу Советскому Союзу! А гвардии подполковник сделал шаг к Борзову, обнял — росточком-то оба левофланговые… — Полному кавалеру ордена Славы — ура!..45
— Господин обер-лейтенант, мы уже четвертый день сидим в этом проклятом Данциге и… — Мы?.. Это я сижу, а вы, любезный, только состоите у меня на службе, — насмешливо сказал Коробов и отвернулся от Эриха, стал смотреть на парадный подъезд данцигского сената. — Да, конечно, господин обер-лейтенант, но если мы пробудем здесь еще день или два, то никогда не выберемся… — Идите в машину, Эрих, черт бы вас побрал! Эрих побрел к «паккарду», что стоял рядом с самоходкой, заехавшей на тротуар… Четыре дня назад Коробов узнал у соседа за столиком в ресторане «Густав», капитана-сапера, что пропуск на выезд из Данцига можно получить только в канцелярии начальника гарнизона, командира двадцать четвертого корпуса генерала артиллерии Фельцмана. «Но это трудно, — сказал капитан. — Едва ли вам удастся получить этот пропуск в рай, мой друг. Вот если вы найдете общий язык с адъютантом Фельцмана лейтенантом Нойманном… Но я знаю этого мордастого — сволочь, себе на уме… Впрочем, попробуйте. Если у вас найдется кое-что в кошельке… А на ваше командировочное предписание из Берлина надежд мало, в Данциге сейчас полно офицеров, которым отменены командировки, генералу Фельдману приказано собрать в Данциге всех, кто способен стрелять в иванов…» — Стрелять в иванов я не собираюсь, господин капитан… Я сам иван… Очень рад с вами познакомиться, господин капитан. Будете в Берлине — милости прошу, меня можно найти в министерстве пропаганды. — О, вы из ближних к солнцу? — усмехнулся капитан. — Офицер для поручений граф Владимир Толмачев — ваш покорный слуга. Капитан молча смотрел в лицо Коробову, густые брови прихмурились. — Ваши единокровные повесят вас раньше, чем меня, граф. Не завидую. — Вот поэтому мне и нужна ваша помощь, господин капитан… — Пауль Шлиппенбах. — Я рад вас встретить, господин Шлиппенбах. — О какой помощи вы говорите, граф? — Вы знаете, где найти этого… как вы сказали?.. Нойманна? Господин капитан, поверьте, я постараюсь отблагодарить вас… — Я просто помогу вам унести ноги из этой мышеловки… Вы же совсем мальчик, граф… Сколько вам? — Двадцать. — А мне уже… мне сорок три. Я остался один в семье Шлиппенбахов. Господу было угодно угробить двоих моих младших братьев… А неделю назад погиб и третий брат… Я постараюсь найти этого прощелыгу Нойманна… Три дня меня, к сожалению, не будет в Данциге, но я вас буду ждать у сената, как только вернусь. В пять часов дня, граф. — Господин Шлиппенбах! — Пустяки. Бегите из этой мышеловки. Пауль Шлиппенбах сделает доброе дело накануне встречи с братьями, да… Русские не выпустят никого из этой мышеловки, это истина… До свидания, граф.…Коробов вздрогнул — кто-то окликнул его: — Граф! Капитан Шлиппенбах улыбнулся, и Коробов почувствовал запах спиртного. — Господин капитан! А я, признаться… Густые темные брови капитана — вразлет. — Шлиппенбахи всегда держат свое слово, граф. — Прошу прощения, господин капитан… Шлиппенбах взял Коробова под локоть. — Вы знаете, граф, я должен преклонить перед вами повинную голову. Да, да. Пауль Шлиппенбах думал, что попадет в рай, если поможет русскому мальчику спастись из мышеловки… Но Пауль Шлиппенбах — болван, старый болван. Настоящий добряк — это лейтенант Нойманн… Вы понимаете? — Ни дьявола я не… — Когда я сказал этому добряку, что мне нужен пропуск, Нойманн перетрусил… Он сказал, что больше не может рисковать головой и… — Значит, он уже выдавал эти пропуска? — Мальчик мой, да Нойманн выжал из этих паршивых бумажек не одну тысячу марок! Я прижал его к стенке, он признался, что выдал уже восемьдесят четыре пропуска! Восемьдесят четыре, а? Ну и восемьдесят пятый он вручил мне, как говорят американцы, на «леньяп», в придачу к восьмидесяти четырем… Извольте получить. Коробов улыбнулся… Он смотрел, как Шлиппенбах расстегивал пуговицы мятой шинели, рылся в левом нагрудном кармане кителя. — Извольте… Синяя бумажка… Печать штаба двадцать четвертого корпуса… Четким почерком написано: «Обер-лейтенант В. Толмачев, Берлин, Министерство пропаганды»… — Вы… вы запомнили мою фамилию? — Голос Коробова дрогнул. — Господин капитан, поверьте, я так благодарен вам, что… — Когда-то я был инженером и запоминал более трудные вещи, чем русская фамилия… Не надо вам лезть в карман, мальчик мой. Мне ничего не нужно. Братья примут меня и с пустым карманом… А вы убегайте из мышеловки. — Я не забуду вас, господин Шлиппенбах… Капитан медленным жестом приподнял согнутую в локте правую руку, повернулся, пошел по тротуару, мимо самоходки. Длинные темные волосы на его затылке топорщились из-за поднятого воротника шинели… Капитан свернул налево, в переулок. — Господин обер-лейтенант… Эрих испуганно смотрел в странное лицо обер-лейтенанта. — Вам плохо?! — Нет, все хорошо, Эрих… — Господи, нам надо быстрее ехать! Обер-лейтенант с усмешкой глянул на Эриха. — Будете болтать — я вас выгоню. — Господин обер-лейтенант, но… — Едем в «Густав». Эрих вздохнул, пошел к машине, открыл правую переднюю дверцу…
46
Вот же проклятая дыра, этот переулок… Эрих протиснул «паккард» в промежуток между тротуаром и массивным желтым «бюссингом», в кузове которого сидели на дощатых некрашеных ящиках два фельджандарма, круто повернул руль влево — за «бюссингом» дорогу загораживал облепленный грязью броневик… — Проезжайте! — закричал фельджандарм, отступая к броневику. Он наклонился, увидел рядом с шофером обер-лейтенанта. — Господин обер-лейтенант, прошу проезжать! Коробов успел увидеть: из высокой арки под домом тянулась к грузовику цепочка фельджандармов, из рук в руки они передавали синие папки… — Эти всегда успевают первыми удрать, — сказал Эрих. — Молчите. — О, господин обер-лейтенант, почему вы так нехорошо ко мне относитесь, боже мой? — Рыжая щетинка усиков Эриха дрогнула. — Если вы будете поменьше раскрывать свой рот, я вас не оставлю и в Берлине. Да. Иначе вы загремите в фольксштурм и сложите вашу честную голову за империю и фюрера как герой… Вас это устраивает — умереть героем, а? — Господин обер-лейтенант, вы сделали для меня столько доброго… — Первый раз вижу сентиментального пруссака… Слушайте, Эрих, вы способны найти двух приличных бабенок? Эрих изумленно поднял брови… Он никак не мог привыкнуть к этому непонятному русскому парню. — Вы сказали… бабенок? — Именно. К семи вечера вы раскопайте двух приличных бабенок, займите столик в ресторане. Но учтите, для бабенок кавалер — вы. Я не в счет. — Но зачем мне две девки, господин обер-лейтенант?.. — За столиком должны сидеть четверо, других я не желаю видеть рядом с собой. И вообще, мне кажется, что вы позволяете себе рассуждать, а? — Виноват, господин обер-лейтенант! Прошло минут пять, как обер-лейтенант скрылся в дверях ресторана «Густав», а Эрих все еще сидел за рулем… Нет, этот русский — самый удивительный парень из всех, кого… Эрих ухмыльнулся.47
На третьем этаже гостиницы «Густав», в холодноватой комнате на широком диване с вытертым за десятилетия зеленым плюшем лежал Коробов… Под сапогами — мятый лист газеты «Данцигер форпост», под темноволосой головой — зеленая плюшевая подушечка с вышитым серебром готическими буквами словом «Густав». Коробов был один в этой холодноватой комнате, никто не мог видеть его лица… Так и есть, эти четверо моряков опять сегодня будут орать за стенкой… Ого, что-то много женских голосов. А этот голосок приятен, черт бы побрал эту данцигскую шлюху… Впрочем, сейчас у моряков может быть и не данцигская, в гостинице полно беженок из Пруссии… Гуляете, господа моряки? Коробов шевельнулся, заскрипели пружины дивана. Он поднес левую руку к глазам. Было без семнадцати минут девятнадцать часов. «Семнадцать минут перед девятнадцатью часами», — неожиданно для себя русскими словами, но в расстановке немецкого языка подумал Коробов и усмехнулся. Нехорошо было у него на душе, он злился на себя за то, что не устоял, что загнанное на самую глубину его «я» запретное чувство жалости к себе вдруг так властно сказало: существую, не умерло… И сквозь чувство злости на себя Коробов вдруг понял: он все эти дни, с самого Берлина, подавлял, не выпускал на поверхность сознания мысль о человеке, которого он знал только как «четвертого»… Да, это мысль о «четвертом» послужила толчком для появления недопустимого, запретного, позорного чувства жалости к человеку, который ощущал себя как «Коробов». Мысль о том, что «четвертый» сейчас, может быть, стоит перед столом следователя и… Если он начнет говорить, то «Коробов» умрет. И Циммерман умрет. Они оба умрут, если «четвертый»… Коробов опять поднес часы к глазам… Резким движением сбросил ноги с дивана, посидел, выпрямившись. Медленно застегнул три верхние пуговицы мундира, потом, усмехнувшись, самую верхнюю расстегнул… Он знал, что расстегнутая верхняя пуговица мундира (отличного мундира, сшитого в Берлине у портного, в мастерской которого Коробов встретил адъютанта Гитлера — майора фон Альсберга) — это тот крошечный штрих, который мог сказать любому немецкому офицеру очень многое о владельце мундира. Пуговица может значить, что человек в мундире уже слегка пьян или у него есть возможность и желание хорошенько, черт побери, выпить, пуговица ненавязчиво подчеркивала, что человек, не застегнувший ее, не боится нарваться на замечание старшего в чине за воинскую небрежность, что этот человек сам причастен к высокому миру, где плевать хотели на мелочи, важные для паршивенького офицерика из двухротного гарнизона в деревне… Коробов глянул на сапоги — с голенищами стальной твердости, квадратными носками. Голенища еще поблескивали новым хромом, не знавшим крема, а три грязных пятнышка на подъеме правой ступни, которые нельзя было не заметить хозяину сапог и которые тем не менее остались, тоже входили в понятие воинского щегольства, усвоенное Коробовым еще осенью сорок четвертого года, когда Карл Циммерман неделю подряд возил свежеиспеченного обер-лейтенанта графа Толмачева по злачным местам на левой стороне Фридрихштрассе… Затянув ремень, Коробов сдвинул подальше на правое бедро пистолетную кобуру желтой кожи (это неуставное положение пистолета тоже входило немаловажной черточкой в понятие «славный парень этот обер-лейтенант»). Он подошел к зеркалу, вделанному в стену сбоку декоративного камина из красных кирпичей. Несколько секунд смотрел на себя: темные волосы зачесаны к затылку, широкие брови вот-вот срастутся на переносице. Под глазами — темные пятна… — Ну, ну… сударь мой, — пробормотал Коробов, отвернулся от зеркала, глянул на фуражку (с двумя вмятинами на тулье справа и слева выше серебряного армейского знака), что висела у двери, но решил не надевать ее: входить в фуражке в ресторан было уж совсем дурной манерой по тем же неписаным заповедям армейского хорошего тона. Он вышел в коридор, не торопясь запер дверь ключом с медной бляшкой. По давно не метенной зеленой ковровой дорожке шагали офицеры всех родов войск, господа в штатском уступали им дорогу, в дальнем конце гостиничного коридора у раскрытой белой двери номера толпилась компания — несколько офицеров в шинелях и дам в шубках, там смеялись… Коробов сдержанно кивнул: мимо него тяжело переступал короткими ножками полковник в мундире генерального штаба, — и направился к лифту. — Не работает, свинство этакое! — сказал Коробову капитан с согнутой на черной косынке правой рукой. — Свинство! Иваны еще за двести километров, а здесь уже лифт не работает, а? — В Берлине они тоже не работают, господин капитан, — засмеялся Коробов. — В Берлине у всех полные штаны, — сказал капитан, пнул носком сапога в зеленую дверь лифта. Он был невысок, худ, на смуглом лице пятнами белела пудра. От капитана крепко попахивало дрянным одеколоном. Он глянул, подняв голову, в лицо Коробову — глаза у капитана были с мутнинкой. — Вы из Берлина, обер-лейтенант? — Да, господин капитан. — В вашем паршивом Берлине меня загнали на гауптвахту, да! Я не отдал чести какой-то скотине в генеральских погонах… Но здесь, черт побери, я сам себе генерал, да! Я могу не отдавать чести самому господу богу! — Капитан затрудненным, неловким жестом попытался попасть указательным пальцем в верхнюю пуговицу мундира Коробова, но покачнулся, и палец ткнул Коробова в грудь. — Пуговица, а?.. Обер-лейтенант, вы нюхали пороху? Пуговица! Черт знает что! Вы пить будете? А? Идемте, будем пить. Будем, будем. А? Коробов рассмеялся, взял капитана под локоть правой, здоровой руки. Он даже обрадовался немного встрече с этим капитаном — обер-лейтенанту графу Толмачеву капитан был подходящим компаньоном для сидения в ресторане… «Придет или не придет сегодня…» — на мгновение мелькнула у Коробова мысль о человеке, которого он ждал все эти суматошные дни в ресторане гостиницы «Густав». — Господин капитан, а если мы загремим с вами на гауптвахту? — Что-о? Капитан Бернгард Буссе заслужил перед фюрером право нализаться! Да! Я угощаю вас, малыш! Пуговицу я вам разрешаю! Не застегивать пуговицу, да! Шагом марш! Они стали спускаться по лестнице, но до дверей в гостиничный холл капитан Буссе дважды останавливался. Ему не понравилось, как солдат в очках, тащивший наверх два чемодана следом за господином в сером пальто, повернул к капитану голову, отдавая честь. «Это солдат великой Германии? — плачущим голосом сказал капитан Буссе. — Это штатская вонючая крыса!» Причиной второй остановки, перед самой дверью в холл, оказалась девушка в серых брюках, туго обтянувших крепкие ноги, — девушка стояла, распахнув беличью шубку, и, улыбнувшись, сказала: «Простите, господа, вы не знаете, где я могу видеть лейтенанта Порше?..» Капитан Буссе, помрачнев, смотрел на серые брюки девушки. Потом перевел взгляд на ее лицо. — Мамочка моя, вы не цените своего богатства! Этакие ножки для паршивого лейтенанта Порше?! — Идемте, капитан, — сказал Коробов. — Мамочка, искать паршивого лейтенанта Порше, когда капитан Буссе аб-со-лютно свободен! — Вы ужасно милы, господин капитан. Но мне… — Мой друг немножечко, чуть-чуть возбужден, фроляйн, — сказал Коробов, подталкивая Буссе под локоть к двери. — Никакого лейтенанта Порше не существует! — сказал капитан. — Я его отменяю! Фроляйн, вашу ручку, прошу… Капитан взял девушку за правое запястье. Она испуганно улыбнулась, взглянула на Коробова. — Вашего паршивого лейтенанта Порше давно съели иваны, — сказал капитан. — А я жив, черт побери! И вы будете благодарить этого старого штатского идиота господа бога, что капитан Буссе, черт побери… — Лейтенант Порше на третьем этаже, фроляйн, — сказал Коробов. — Никаких третьих этажей! — Капитан подергал девушку за запястье. — Мы спускаемся в преисподнюю, и если сейчас эта скотина обер-кельнер не найдет нам столик… Обер-лейтенант, голубчик, черт с ней, с вашей пуговицей, я прощаю вам! Но какого дьявола вы смотрите на меня как на пьяного новобранца? А? Фроляйн, какой красивый мальчишка мой друг, а? К черту лейтенанта Порше! Я его отменяю! Капитан Буссе пьян? Обер-лейтенант, застегните пуговицу. Да! Если вы не желаете сидеть за одним столиком с капитаном Буссе — застегнитесь! Девушка тихонько засмеялась. И только сейчас Коробов понял, что она совсем еще девчонка, ей было никак не больше пятнадцати или шестнадцати лет. — Не надо меня обижать, господин капитан, — сказал Коробов, — Я уже пять минут жду, что вы от слов перейдете к делу… Если фроляйн окажет нам честь, я буду счастлив… — Малыш из Берлина, вы умница. Не застегивайте эту проклятую пуговицу. Вы только посмотрите, какая у нас славненькая девочка! — Вы оторвете мне руку, господин капитан… — Обер-лейтенант, вперед! Мы приглашаем эти серые штанишки! А этому паршивому лейтенанту Порше я набью морду, пусть только посмеет сунуться мне на глаза! Фроляйн?.. Что случилось, малышка? — Нет, ничего… ничего, господин капитан… — Мамочка! — Господин капитан… все нехорошо, — шепотом сказала девушка. Она смотрела в глаза Буссе. — Я два дня голодна… Там самолеты… и все наши… я потеряла их… господин капитан… я не знаю… Глаза Буссе зажмурились… Капитан покачнулся. Коробов взял его под локоть. — Сволочи… все мы сволочи… — сказал капитан, не открывая глаз. — А! Надо жить! Жить…48
Взгляд капитана Буссе с такой надменностью уставился в рыхлое стариковское лицо обер-кельнера, что тот осмелился проявить свое неудовольствие появлением дамы в брюках только не слишком выразительным шевелением вялых губ… — Столик! — сказал Буссе. — Поживее, любезный. Обер-кельнер молча показал лысину, неторопливо повернулся и повел гостей по широкому проходу меж столиков (ни одного свободного места) к дальней стене зала… Два, может, три любопытных взгляда офицеров и штатских — и это заставило капитана Буссе вести девушку, опустившую голову, с подчеркнутой любезностью… Коробов, шедший на шаг сзади капитана, увидел справа Эриха, усмехнулся. Худое лицо Эриха было грустно-сдержанным, исчезли рыжие усики, на черных волосах посверкивали отсветы от люстры — видно, парикмахер не пожалел бриллиантина… Одна из двух дам, сидевших с Эрихом, оглянулась. Невыразительное лицо ее со лбом, прикрытым белесыми мелкими локонами, было явно взволнованным. Видимо, Эрих предупредил своих дам, что подходит его обер-лейтенант… — Извините, Эрих, я не могу разделить вашей компании, — негромко сказал Коробов, и Эрих закивал напомаженной головой. — О, как жаль, господин обер-лейтенант, — сказала белесая дама. Коробов улыбнулся, прошел еще десятка, два шагов и остановился возле столика, за которым уже сидели Буссе и девушка. — Садитесь, дорогой, — сказал Буссе. — Фроляйн… о, господи, я даже не успел… — Ирмгард Балк, — торопливо сказала девушка. — Чудесное имя, — сказал Буссе. — Просто чудесное. Ирмгард, вы не сердитесь? — О, господин капитан… — Ирмгард чуточку застенчивым движением рук пригладила на висках длинные светлые волосы, поправила воротничок коричневой бархатной куртки. Она посмотрела на Коробова — он сел напротив нее — и улыбнулась толстоватыми губами. Капитан Буссе минут семь вел с подошедшим кельнером переговоры, почему-то шептал на ухо старику, тот кивал, улыбаясь… — Фроляйн должна быть через час толще, чем наш обожаемый рейхсмаршал[7], да! — сказал он погромче. — Давайте, старина, развернитесь, пока я не разнес ваше заведение хуже, чем две роты иванов! Да! Коробов налил зеленый ликер в три рюмки. — Господин капитан, здоровье фроляйн Ирмгард Балк! — Ваше здоровье, фроляйн! Ну, ну, смелее, девочка… У русских есть напиток, они называют эту кислую штуку «квас», данцигский ликер не страшнее русского «квас», да… Ну, вот и отлично, девочка. А теперь объявите блицкриг курице… Смелее. Капитан, кашлянув, виновато глянул на Ирмгард, протянул руку к бутылке. — Надо солдатскую дозу… иначе я засну как гимназист первого класса, оставленный на два часа после уроков, да… Три рюмки ликеру капитан выпил без передышки. Лицо у него было виноватое, усталое. — Я позволю себе закурить, фроляйн? — сказал капитан, щелкнув крышкой портсигара. Коробов увидел на крышке вычерненный силуэт памятника Петру Первому в Ленинграде… — Память о России, господин капитан? — Что?.. А, да, да… Вы курите, мальчик? Черт возьми, сегодня все идет не по правилам. Я, кажется, капитально… а? Ваше имя, дорогой? — Владимир. — Вы сказали… — Я русский, господин капитан. — Русский? — Капитан вдруг засмеялся. — Настоящий иван, а? Вы шутите, мальчик! Коробов сказал по-русски: — Нет, я не шучу. Капитан вздохнул. — Гибель Римской империи — пустяковое происшествие… А?.. Немцы, черт побери, покажут миру, как надо с треском валиться в пропасть, да, да, с треском… Вы в самом деле русский, мальчик, а?.. — Да, господин капитан. Я русский шпион и вчера ночью меня выбросили с парашютом, чтобы я украл парадные штаны нового немецкого полководца Генриха Гиммлера… Тогда Генрих будет сидеть дома, и Германия немедленно проиграет войну. Капитан захохотал так, что кое-кто за соседними столиками оглянулся. Ирмгард смеялась. — Черт меня побери, мальчик! — сказал капитан. — Вы самый славный парень, кого я встретил в этом паршивом Данциге… Но как же вас звать, голубчик?.. Влядимир? А? — Владимир. Граф Владимир Толмачев. Офицер для поручений при министерстве пропаганды к вашим услугам, господин капитан. Буссе посмотрел на Ирмгард, усмехнулся… — Не боитесь русского, малышка? — Нет, господин капитан. — Ничего, малышка. Скоро сюда явятся целых четыре дивизии из Курляндии, и иваны побегут от Данцига… Мне наплевать на причины, почему вы сидите здесь, со мной, мальчик. Я не гестапо и не фельджандарм, к черту! Это ваше дело, почему вы сидите здесь, в этом паршивом Данциге, да, да, капитану Буссе нет никакого дела до причин, да! Если русские вас поймают, висеть на перекладине будете вы, а не капитан Буссе, да, да, капитана Буссе не за что вешать, черт побери, он честный немецкий солдат, да! Капитан выпил рюмку. — Я был подполковником еще в польскую кампанию, да, мой мальчик… А в июле сорок первого года подполковник Буссе приказал расстрелять пятерых скотов из своего полка, да, расстрелять! Они приняли за парижских шлюх девочек в лагере… в лагере для этих… — Пионеров? — Да, да, пионеров! И подполковник Буссе стал капитаном, да, он стал капитаном и плевать хотел на всех подполковников, да! Буссе отодвинул рюмку, посмотрел на Ирмгард. — Кушай, девочка. Будем надеяться, что этого красивого русского мальчика иваны не поймают, да, будем надеяться. Разминая сигарету, Коробов смотрел на обмякшее, почти трезвое лицо капитана. Он вспомнил сегодняшнюю встречу с другим капитаном, доставшим ему, незнакомому, пропуск на выезд из Данцига… Да, совсем не случайные исключения эти два капитана. Это уже скорее похоже на правило, а не исключения… Немцы начинают думать о том, о чем еще недавно думать не хотели… Впрочем, главное в другом… Этот Буссе говорил о четырех дивизиях, что должны прибыть из Курляндии… Надо проверить. Четыре дивизии — это не шутка… Обер-кельнер склонился над плечом Коробова. — Господин обер-лейтенант, прошу прощения. Вас ждут… По улыбке стариковского лица Коробов понял, что «ждут» наверняка относится к даме… — Ведите свою киску сюда, Влядимир, — сказал капитан. — Прошу извинить… — Коробов поднялся.--Очень сожалею, но у меня деловая встреча, господин капитан… — Плюньте на дела, мальчик! Коробов улыбнулся, достал из кармана мундира несколько кредиток. — Отставить, Влядимир… Отставить, да! Я обижусь, да! Кивнув, Коробов отступил на шаг. — Я постараюсь вернуться, господин капитан… — Отлично, мальчик! В холле Коробов остановился… В толпе офицеров и их дам, раздевавшихся справа, у гардероба с несколькими рядами блестевших никелем крючков, он увидел женское лицо, скучающее, равнодушное… Женщина была высокой, ее глаза смотрели на Коробова. — Простите, господин обер-лейтенант… Я, кажется, приняла вас за… о, извините… Вы ведь не служили в квартирмейстерском отделе штаба девятнадцатого корпуса? — Очень сожалею, но… — Коробов улыбнулся. Пожилой подполковник скользнул глазами по лицу красивой дамы в синем пальто, потом с уважением глянул на молоденького обер-лейтенанта с расстегнутой верхней пуговицей мундира, снисходительно усмехнулся… — Раз уж судьбе было угодно… — сказал Коробов. — Я так надеялась встретить здесь кого-либо из сослуживцев моего мужа… — Все мы служим фюреру, дорогая фрау… — Лило фон Ильмер… — …фон Ильмер, я посчитаю за честь быть вам полезным.49
Коробов припал спиной к двери своего номера. — Господи… — Это слово, сказанное Коробовым по-русски, словно подтолкнуло к нему женщину. Она протянула руку, засмеялась тихонько… — Господи… хорошо как мне, — сказал Коробов едва слышно. — Я тебя сразу узнала… сразу… Ты совсем такой, как на фотографии… — Пять дней жду, жду, жду… — Никак не получалось раньше. Коробов зажмурился… — Ну, вот… а мне говорили, что ты железный парень… Все будет хорошо… — Да, да… ничего, это у меня… ничего, — сказал Коробов. — Как вас звать? Можно? — сказал он шепотом. — Не надо, Володя. — Значит — фрау Лило… И на том спасибо, — сказал Коробов, засмеялся. — Мы… не очень громко? — Лило глянула на правую стенку номера, за которой кто-то пел пьяненьким баском. — Ничего. — Мы скоро поедем? У тебя есть машина? — Да, все в норме. Ты посиди, я поищу в ресторане своего шофера… — Шофер? Ты не один? — История длинная, потом расскажу. Посиди… Лило. — Так я и не посмотрю на этот Данциг… Коробов засмеялся. — Нет, в самом деле, я хотела бы посмотреть… — Она виновато улыбнулась.50
Человек в Москве читал:«Мартин Борман подписал приказ о проведении разрушений на территории Германии. Их должны проводить гаулейтеры. Население приказано эвакуировать в глубь страны даже пешком, если нет транспортных средств.Циммерман».
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
00.54. 19 апреля 1945
КОМАНДАРМ
Надо любить Россию. И тогда тебе ничто на свете не страшно. Надо любить Россию…ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
До боя завидует пехотинец танкисту (ног — не бить, всю зиму — в тепле, перед девками танкисты — короли, куда уж тут пехтуре соваться). А в бою… Нет, по земле-матушке на брюхе ползать лучше, чем за броней смерти ждать! Может, так думал гвардии рядовой Борзов, может, не так, когда мимо второй роты загрохотали по асфальту шоссейки танки с белыми орлами на башнях… — Принять вправо-о! — крикнул на ходу гвардии старший лейтенант Горбатов. «Принять вправо! Принять вправо!» — взводные в растянувшейся колонне закричали… А головной танк роту обогнал и направо через кювет крутанул, заурчал мотором понатужливее, на маленькую высотку в талом снегу выбрался и замер… Смотрела вторая рота: четверо парней в синих комбинезонах из того танка на снег прыгали… Шагов десять вперед прошли. Трое стояли смирно, а один на колени пал, голову в черном шлеме опустил, потом все четверо шлемы сняли… А когда пошли танкисты назад, увидела вторая рота: маленький флажок — белая полоска, красная полоска — под ветром на высотке шевелится. — Это чего вы, ребята? — гвардии старший лейтенант Горбатов крикнул полякам. — То польска земля! То земля наша! — танкист из башни ответил, рукой помахал, звякнул люком. Пророкотали моторами двадцать семь танков с белыми орлами на башнях мимо того флажка и за высоткой скрылись… Гвардии старший лейтенант Горбатов на свою роту глянул. — Рота-а… смир-рно! Равнение на-а… пр-раво! — И зачеканил каблуками по асфальту. Шагал Борзов за командиром, слышал: хорошо «ножку дала» родная вторая, от души бьют солдатские сапоги по немецкой дороге… Каждый понимал: то не флажок трепыхал белой и красной полосками на ветру, то было знамя…51
Коробов долго покручивал ключом в замке двери. — Бросьте, Толмачев, в самом деле! — сказала Лило. — Образцовый постоялец, радость хозяев… — Э, нет, фрау Лило… Аккуратность — мой порок, терпите. Коробов подергал дверь номера за медную, давно не чищенную ручку, сунул ключ в глубокий карман шинели. — Может, вы намерены еще и номер сдавать? — сказала, чуть усмехнувшись, Лило. — Намерен… Дорогая Лило, вы не из бравой когорты шапкозакидателей, а? — Молчу, молчу… — И вообще, дорогая фрау Лило, я большой эгоист, я хочу еще половить рыбку в одной очень большой реке. — Ну не сердитесь. — Теперь сдадим ключ и поедем как честные, благородные сын и дочь великой империи. Лило дотронулась до пуговицы шинели Коробова, виновато улыбнулась… Кто-то закричал в конце коридора: — Господа! Господа!.. Прошу в убежище! Воздушная тревога! Господа! Воздушная тревога! И сейчас же в коридоре наступил полумрак — осталась гореть только слабенькая лампочка у двери в лифт… — Не везет, а? — Коробов подхватил Лило под локоть. — Теперь придется искать этого сукиного сына Эриха… Выскакивали в коридор из номеров офицеры, дамы. Коробов и Лило прошли мимо распахнутой двери, вокруг стола сидели несколько офицеров-летчиков. Высокий майор в расстегнутом кителе со злостью захлопнул дверь… — Второй день пьют, — сказал Коробов. — Этот длинный дядя получил рыцарский крест и, конечно, засел капитально со своими… Плотный гул ударил сверху, от неба… Где-то недалеко в этом гуле, все нараставшем, зазвенели яростные всплески четких звуков. — Зенитки здесь, в центре, второй раз слышу, — крикнул Коробов, плотнее сжимая локоть Лило. — Будет веселая ночка!.. При слабом свете двух синих лампочек в холле гостиницы тенями, с мертвенно-бледными пятнами едва различимых лиц, десятки офицеров и их дам толпились у распахнутой белой двери, что вела в подвал. — Я буду ждать у подъезда! — крикнула Лило на ухо Коробову, стала торопливо проталкиваться к высокой стеклянной двери-вертушке, в которую выскакивали на улицу офицеры, успевшие надеть шинели. — Господин обер-лейтенант!.. Коробов обернулся. Лицо Эриха поднялось из-за плеча какого-то штатского господина… — О-о, господин обер-лейтенант!.. Я вас… Эрих что-то говорил, но его голос растаял в скрежещущем реве, от которого толпа в холле словно стала ниже, пригнула головы, за дверью-вертушкой мигнула ослепительная точка, неслышно осыпалось зеркальное стекло двери, черные полотнища штор над двумя окнами рванулись к потолку, и Коробов вдруг почувствовал, как упали на его плечи ладони Эриха, и Эрих стал медленно приседать. Снова полыхнуло на улице — багрово, слепяще рванулся к небу огненный столб… Эрих повалился на грудь Коробова с такой силой, что он упал, под ним уже стонали, шевелились люди… То в притухающем за дымом, то в слепящем свете с улицы Коробов увидел на своей груди запрокинутое лицо Эриха с черным провалом рта… Это была смерть, и Коробов, напрягая руки, пытался оттолкнуть от себя мертвое лицо… Он повернулся на левый бок, Эрих пополз вниз… Коробов поднялся. Он стоял, пошатываясь, и смотрел на девушку… — Ирм… Ирмгард… — проговорил Коробов. Полыхнуло пламя на улице, и Ирмгард зажмурилась. Коробов протянул руки к Ирмгард, схватил ее за плечи. — Его убили… — сказала Ирмгард. — Капитана убили… — Кого… убили? — Уйдем, уйдем, уйдем, — сказала Ирмгард, обхватывая руками шею Коробова, он почувствовал теплое дыхание девушки на подбородке и оттолкнул Ирмгард от себя. Коробов нагнулся. Его руки нащупали карман на брюках Эриха. Но ключа от машины там не было. Коробов почувствовал, что ладони трогают влажное и теплое, но только увидев на правой ладони длинную цепочку с ключом, Коробов понял — на ладонях кровь Эриха… Он поднял голову, посмотрел на Ирмгард. На ее бархатной куртке — отсветы желтого пламени, стоявшего неровной стеной на улице. Коробов перешагивал через лежащих на полу людей. Он выпрыгнул в пустую раму огромного окна на тротуар, оглянулся. Ирмгард стояла у окна. — Я боюсь, — сказала она. Коробов взял ее за руки, потянул к себе… Ирмгард села на мраморный подоконник, и Коробов поднял ее, но не устоял… Они лежали рядом. В трех шагах от них сидел, припав спиной к стене гостиницы, человек в шинели, фуражка его лежала у правого сапога… Коробов поднялся, смотрел на человека в шинели… Он пошел, ступая нетвердо, по тротуару… — Я боюсь, — сказала Ирмгард. — У тебя… ты в крови… — Пусть, — сказал Коробов, но Ирмгард не услышала его — за ее спиной ударило громом… Они прижались друг к другу изо всех сил. И опять, как тогда, в холле гостиницы, Коробов оттолкнул Ирмгард, потому что где-то в глубине сознания жило ощущение — «чужое». Ирмгард смотрела, как обер-лейтенант неверными шагами приближался к маленькой горевшей машине, коричневому «оппелю», — это хорошо было видно ей сейчас, когда глухой удар тряхнул асфальт под ногами и впереди, у конца переулка, белое пламя вылетело из окон дома… Ирмгард пошла к машине… Она смотрела, как обер-лейтенант, неловко опустившись на колени, не шевелился перед женщиной в синем пальто, лежащей у заднего колеса. — Я боюсь, — сказала Ирмгард. Она знала, что обер-лейтенанту тоже страшно, заплакала. — Уйдем, — сказала Ирмгард. — Уйдем, уйдем, скорее уйдем. У женщины не было лица. Было что-то темное, неровное. — Лило… — едва слышно проговорил обер-лейтенант. Он сказал еще одно короткое слово, но Ирмгард не поняла обер-лейтенанта… — Я боюсь, — сказала Ирмгард. Обер-лейтенант поднялся. — Ты без пальто… без шубы… Ирмгард… Обер-лейтенант оглянулся, медленно пошел к черному «паккарду» возле ближнего угла гостиницы… — Ирмгард! — Он смотрел в лицо девушке. — Садись… Ну! Я принесу тебе шубу. Садись…52
Только под утро, когда «паккард» миновал линию железной дороги в трехстах метрах от пылающей станции Косьцежина, Коробов впервые за дорогу покосился на сидевшую рядом Ирмгард. При слабом свете от приборной панели лицо девушки показалось ему удивительно, непостижимо прекрасным. А из поднятого воротника беличьей шубы смотрели на Коробова широко раскрытые глаза — светлые немецкие глаза под высокими бровями… — Ну… что? — тихо проговорил Коробов, отводя взгляд на слабо освещенную фарами узкую ленту шоссе. — Я хочу быть с тобой, я боюсь, — сказала Ирмгард, не шевелясь. Коробов молчал. Он думал, что страшное, мертвое, кровавое пятно на том месте, где улыбались ему черные глаза женщины… Ее звали Лило… Лило… Может быть, она была Ниной или Анной?.. Почему Ниной? Анна… Анна Евстафьевна… мама… — Я хочу, чтоб тебе было хорошо, ты слышишь? Я хочу, — сказала Ирмгард. Она чувствовала, что с человеком, плечо которого она ощущала своим плечом, происходит что-то непонятное, скрытое от нее, она не могла знать, что в эти минуту Коробов понял: смерть Лило вывела его из строя, его и Циммермана, эта смерть была нелепой, дикой, непонятной, потому что Лило не должна была умереть так, от бомбы, нашедшей ее в узком данцигском переулке, бомбы, сброшенной с черного неба русским парнем… Но Лило лежала у своей машины, горевшей машины, с багажнике которой, знал Коробов, плавилась рация… Коробов знал, что люди в Москве, пожалуй, уже не успеют прислать новую Лило… или Маргот… или Анну… ведь война уже кончалась… Дрогнуло плечо Ирмгард, она сказала: — Я хочу, чтоб тебе было хорошо… А человек, сидевший рядом, думал о том, что еще до сегодняшней ночи он бы ни мгновения не колебался, это было просто невозможно, — вдруг обнаружить, что ему не безразлична какая-то немка, что он не может видеть ее такой беспомощной, так доверчиво ищущей своим плечом его плеча… «Война кончается…» Эти слова не раз говорил Коробов наедине с Циммерманом, он слышал их от немцев, но только сейчас, в этот ранний рассветный час, слова «война кончается», казалось, вспыхнули, наполнились живым трепетом в его душе, эти слова вобрали в себя уже полузабытые, неясные воспоминания Коробова, того Коробова, которого звали Володькой, и тот Володька смотрел ясным октябрьским днем сорок первого года на голубую у дальнего берега Волгу, он видел перед собой смуглое лицо ефрейтора Миколы Нестерчука и красивое лицо мамы; он лежал на теплом песке берега Каспия, и невысокая девушка переступала по сверкавшей на солнце мелкой воде, приподняв локотки в стороны… Коробов покосился на Ирмгард. Он вдруг понял, что неосознанной до этой минуты причиной странного, тревожного, изгоняемого из души чувства привязанности к этой немке со светлыми глазами была немудреная игра случая: немка, которую звали Ирмгард Балк, была похожа на ту девушку из далекого, полузабытого сорок первого года, которую звали Марта Буртниекс. — Война кончается, Ирмгард… — Мне хорошо с тобой. Я не хочу без тебя. — А если нас убьют? — Нет! Я не хочу… Я не хочу. Ирмгард смотрела на четкую линию профиля обер-лейтенанта. Она уже знала, что никогда еще не встречался ей человек с таким добрым лицом, с таким красивым лицом… Господи, как же она могла не знать раньше, что он есть.53
Справа от дороги — деревянная стрела, облепленная снегом. На клочке желтого фона была видна только последняя буква названия города — «в», блестевшая черным лаком… Коробов резко притормозил. — Надо сориентироваться, Ирмгард, — сказал он, открывая левую дверцу «паккарда». — Нет, нет, я посмотрю! Ирмгард вышла из машины, тряхнула светлыми длинными волосами, пошла к стреле. Серые брюки ее измялись, и Коробов почему-то улыбнулся. Он смотрел, как Ирмгард сняла с правой руки желтую перчатку и стала водить пальцами по доске, влажный снег падал комками к ее ногам. «Бютов», — прочел Коробов, когда Ирмгард направилась к машине, зябко пряча голову в поднятый воротник шубки, стылый ветер шевелил прядку волос надо лбом… «Надо бы ей найти платок…» — подумал Коробов, глядя на сероглазое румяное лицо с высокими бровями, которое улыбалось ему. — Бютов, — сказала Ирмгард. — Мы правильно едем? — А черт его знает… — Коробов засмеялся. — Вот прикатим с тобой в этот Бютов, а там русские, а?.. — Мы их возьмем в плен. Коробов отвел взгляд от улыбающегося румяного лица. По-хозяйски захлопнув за собой дверцу, Ирмгард села поудобнее. «Наверняка у Балков была машина… Если девчонка так хлопает дверцей, то наверняка была машина…» — подумал, усмехнувшись, Коробов, не удержался — спросил, спрятав вопрос за шуткой: — Свою машину ты так не калечила, старушка… — А откуда ты знаешь, что… — Ну, сразу видно птицу по полету, как говорят русские. — И тебе… полет птицы не понравился? — Ирмгард улыбнулась. — Нет, почему же, птичка летает довольно изящно. Они засмеялись. — Ты не сердишься, что я говорю тебе «ты»? — сказала Ирмгард. — Знаешь, если посторонний услышит, то подумает, что ты моя сестра или… особа, которую мужчина имеет право называть… — Почему не договариваешь? — А ты хочешь, чтобы договорил? — Хочу. — Ты помнишь мое имя?.. — А почему нет? Ты думаешь, что я такая бестолковая корова? — Нехорошее слово — корова, не говори так о себе… — Владимир, а как твое уменьшительное имя? Коробов усмехнулся. — Володя… Володька… Вова… Вовка… Вовик… — О, как много! Тебе бы подошло хорошее немецкое имя, да! Зигфрид Балк. Так зовут моего брата, старшего брата. Зигфрид… — Где он сейчас, твой Зигфрид? — Он важная шишка, да. Ты знаешь гросс-адмирала Деница, Валёдя? — Ну, допустим. — Зигфрид очень близкий друг его адъютанта Людде-Нейрата, ну, этот Людде пристроил Зигфрида на очень приличное место… Мы как раз перед отъездом из Эльбинга получили письмо, Зигфрид уже капитан! О, как мама плакала… Она боялась, что никогда не увидит Зигфрида… Так страшно было… Русские исколошматили своими бомбами весь город, от нашего дома ничего не осталось… И потом я потеряла маму и дядю Рудольфа, бабушку… — Ну, ну, Ирмгард… слезы я запрещаю, слышишь? Все будет хорошо, вот увидишь… Не будем говорить о таких вещах… Знаешь, давай-ка глянем под сиденье, там Эрих что-то съедобное держал… Машина объехала опрокинутый на правый борт маленький синий грузовичок, сползший в кювет… Припав спиной к переднему колесу, стоял старик в очках, в брезентовом коричневом плаще, курил трубку. Он взмахнул руками… Коробов остановил «паккард». Старик подбежал, звеня подковами сапог по асфальту, заглянул в окошечко со спущенным стеклом, в лицо Коробову ударил запах спиртного. — Господин обер-лейтенант! Будьте добры, господин офицер! Возьмите меня в Бютов! Мне надо в Бютов, господин обер-лейтенант! — Старик подергал козырек кожаной фуражки. — Что с вашей машиной? — Эти проклятые танкисты, да! Они же выродки, эти проклятые сопляки! Они ударили танком, да! Это немцы?! Это хуже иванов! Господин обер-лейтенант, мне надо непременно. — Садитесь. И не дышите на мою сестру, она не пьет с утра шнапс. Старик пососал трубку, виновато ухмыльнулся… Забравшись на заднее сиденье, долго не мог прикрыть дверцы… — О, господи, господи… Была Германия, нет Германии… — пробормотал он. — С двадцать восьмого года… Такая машина, господи. Не будет у меня теперь… о, господи… — Вы из Бютова, дедушка? — спросила Ирмгард. — Да вы курите, пожалуйста… Сестра офицера не может быть неженкой. Коробов усмехнулся. — О, да, из Бютова, так точно! — торопливо заговорил старик. — Все в Бютове знают Курта Брезекке, да, господин обер-лейтенант! Я честный труженик, господин обер-лейтенант, да! И эти скоты, эти мальчишки, будь они прокляты… за что они мою Матильду?.. — Матильду? — Это моя машина… Я так звал ее, да. Матильда — хорошее имя, да, господин обер-лейтенант… Так звали мою покойную жену, господин обер-лейтенант… Да, так ее звали… Матильда умерла в двадцать седьмом, а мои старший зять подарил мне машину, да… Ничего нет. Матильды нет, Германии нет… Ничего нет… Вы — как мой младший сын, господин обер-лейтенант… Только у него глаза синие, да. Четверо сыновей, два зятя. Конрад и Адольф в сорок втором году, Сталинград, да… Манфред где-то в Африке, в этом аду, в пустыне, песком прикрыт, да… Другой Манфред, зять, бросил мою девочку, скотина, спутался с какой-то девкой из эсэс, в Варшаве прошлой осенью поляки ему всадили нож в горло, да, слезы моей девочкиотомстили поляки… Была Германия — нет Германии, да, господа, нет нашей Германии, развалилась, как трухлявая бочка, да. А я семнадцатый день пью шнапс, да. Почему Курту Брезекке не пить шнапс, господин обер-лейтенант? Оставить свой погребок целеньким для иванов?.. Ни одной бутылки не оставлю, да! Пусть иваны ходят с пересохшими глотками, да! Я их не звал в свой дом, будь они прокляты! Коробов закурил сигарету. — Я что-то не припоминаю — звали нас русские в свой дом? — Это политика, я в ней ни дьявола не понимаю, да, ни дьявола, господин обер-лейтенант! — Ну что ж… Иногда очень выгодно делать вид, что не понимаешь, ради чего фюрер вел нас в походы, а, господин Брезекке?.. Придут русские в ваш дом, а вы им покажете свой пустой погребок и скажете, что политика — не ваше дело… Они вас облобызают, а? — Господин обер-лейтенант… Курта Брезекке не очень-то спрашивали, куда идти и за каким дьяволом идти, да… Просто почтальон Грубер приносил в мой дом повестки сыновьям и зятьям, да. — А мне повестки не приносили, я пошел сам… Да, сам, господин Брезекке, потому что я люблю Германию. — Германии больше нет… — Вы скажите это эсэсманам, господин Брезекке, они будут просто в восторге от таких слов. — Плевать я хотел на… — Э, не советую. Веревку для вас они еще найдут… Ирмгард приподняла подбородок, сказала насмешливо: — Господин Брезекке — типичный паникер… У нас в Эльбинге за такую болтовню вешали каждый день на трамвайных столбах. — Я паникер?.. О, дорогая фроляйн… Я совсем не… — И вдобавок — господин Брезекке еще и трус! — О, фроляйн… Коробов усмехнулся. — На правах начальника гарнизона запрещаю братоубийственную резню, дамы и господа… Ирмгард, тебе еще рано браться за воспитание господина Брезекке в желательном для империи духе… — Я честный труженик, — сказал старик. — Да, фроляйн. — Вот если б вы были честным немцем! — Ирмгард опять приподняла подбородок. — Никакой дисциплины в гарнизоне! — Коробов улыбнулся. — Провинившихся высаживаю немедленно… Господин Брезекке, вы не знаете, очень ли забито шоссе на Штаргард? Старик поелозил на сиденье, приблизил голову к Коробову. — На Штаргард?.. Вы хотите проехать на Штаргард? — Да. — Я отлично знаю, господин обер-лейтенант! — словно обрадовавшись, сказал старик. — Я же на Матильде… о, я отлично все знаю, господа!.. Из Бютова на Ной-Штеттин, потом на Вангеран — нельзя, не надо ехать! Ни в коем случае, господин обер-лейтенант! Там иваны расклевали бомбами все мосты, да! Боже вас упаси ехать на Ной-Штеттин! — Так куда же ехать? — испуганно сказала Ирмгард. — Куда же нам? — О, милая фроляйн, я вам скажу! Я же знаю, о боже! Вам надо к морю, ближе к морю, да! Только к морю. Там вы просто отлично будете ехать на такой машине. От Гдыни на Кеслин дорога, да, потом на Кольберг, оттуда вы едете на Платте, и там совсем рядом до Штеттина! Зачем вам этот Штаргард, боже мой! Это совсем близко к иванам… Боже вас упаси ехать на Штаргард! — Ну что ж, информация исчерпывающая, спасибо, господин Брезекке. — Коробов улыбнулся. — А вот и ваш Бютов… — Да, да, господин обер-лейтенант! Благодарю вас, господин обер-лейтенант! — У вас там найдется какая-нибудь харчевня? — О, у нас есть ресторан, просто очень приличный ресторан, да, господин обер-лейтенант… Я покажу, это через два квартала, у Вилли Шредера недавно обедали господа офицеры танковой дивизии. — А может быть, какие-нибудь обозные интенданты, а? — Интендантов от строевого офицера я научился отличать еще в четырнадцатом году, господин обер-лейтенант, когда маршировал по Франции, да! «Паккард» медленно катил по неширокой улице, ничем не примечательной улице захолустного городишка… — О-о-о… — простонал старик Брезекке. — О-о… боже мой… Три дня назад я… Старик смотрел на двухэтажное серое, в грязных потеках здание. Крыша на правой половине дома рухнула, торчало несколько обгоревших стропил… В черном проеме, где когда-то был парадный вход, сидела рыжая кошка. Справа от проема на стене остался кусок синей стеклянной вывески с золотыми готическими буквами: «Брауншв…» — Да, в этом «Брауншвейге» долго не будут обедать, — тихо проговорил Коробов. Старик Брезекке сунул трубку в карман плаща, зашуршал брезентовой полой… — Я вылезу… да… о, господи… Коробов остановил машину. Старик выбрался на грязный мокрый асфальт, снял кожаную облезшую фуражку… Он заплакал. Потом достал трубку и побрел по тротуару, забыв надеть фуражку. Рыжая кошка догнала старика и пошла с ним рядом.54
Под стенкой молоденьких сосенок в двух десятках шагов справа от пустынного шоссе горел костер. На сиденье красной кожи (Коробов только что принес его из машины) прилегла Ирмгард, очищала кожуру колбасы длинными пальцами… — Хлеб у нас, кажется, тверже бомбы, — сказал Коробов, отрезая перочинным ножом ломти от темно-коричневой, почти квадратной буханки. — Наверное, недели три лежал… — Вот приедем в Берлин, там я целый день буду есть! — засмеялась Ирмгард. — Ты накормишь свою сестру, Валёдя? Коробов глянул на Ирмгард. — Да, да, постараюсь… Послушай, фроляйн Балк, расскажи-ка о себе, а?.. Нет, мне очень интересно. — Интересно?.. Не знаю. Скучно было. В гимназии у нас такие противные тетки, ужасно… Летом хорошо — море… Ты был на море? — Был. На Каспии. На Каспийском море. Это рядом с Кавказом… Ты знаешь где? — Валёдя, ты все-таки считаешь меня… — Не считаю, успокойся. — Все немцы знают, где Кавказ, Сталинград они тоже знают… — А русские скоро узнают Берлин, а? — Никогда! — Ну, не стоит нам об этом… Знаешь, я был на Каспии в сорок первом году… С одной девочкой был… — Вы убегали от наших парней, да? — Не убегали, моя дорогая, эва-ку-ировались. Слово «бегство» русские терпеть не могут… Мы эвакуировались с одной прелестной девчонкой. Но не целовались, потому что тогда России было плохо, очень плохо… А девочка похожа на тебя, Ирмгард… Латышка… Я был влюблен в нее, да, не отрицаю, моя дорогая, нет и нет… Коробов протянул Ирмгард ломтик хлеба, сам полез за сигаретой, прикурил, взяв ветку из затухающего костра. — Ты… помнишь ее, Валёдя? — Ну, допустим. — Ты какой-то… странный ты… Я не могу понять тебя… Ты убежал от Сталина… Почему? Это тайна? Коробов усмехнулся. — От Сталина?.. Смешная ты, Ирмгард. Сталина я никогда не видел. — А я видела фюрера, да! Глаза у него синие-синие… Я была на слете гитлерюгенда Пруссии… Такие синие глаза! Я люблю фюрера. Очень, да! — Разумеется… — негромко сказал Коробов. — А ты видел фюрера, Валёдя? — Нет. — Но ты же говорил, что у тебя важный шеф, у доктора Геббельса бывает… Коробов усмехнулся. — У тебя богатая фантазия, моя дорогая Ирмгард… Я никогда не говорил тебе, что без моего шефа доктор Геббельс не садится за утренний кофе… Видишь ли, какая-то из дочек доктора Геббельса заболела, ну, и мой шеф проявил должную преданность семейству господина рейхсминистра, достал какие-то лекарства в шведском посольстве… Ну-с, фрау рейхсминистр Магда Геббельс соизволила благодарить моего шефа… А я, видимо, по чисто случайному совпадению событий, ровно через неделю получил звание обер-лейтенанта доблестного вермахта… Шеф намекнул мне, что просил фрау рейхсминистр помочь уломать этих идиотов из… словом, моя дорогая фроляйн Балк, хотя, к сожалению, еще и не имею особых заслуг перед рейхом… Но я буду иметь заслуги, слово офицера, моя дорогая фроляйн Балк… — Ты не можешь не смеяться надо мной, Валёдя? — тихо проговорила Ирмгард. — Могу. Но я не смеюсь. — Валёдя… — Да? — Ты… ты возьмешь меня… возьмешь с собой? — Уже взял, Ирмгард… — Коробов носком сапога пошевелил гасший костер. — Давай лучше помолчим… — У тебя… такое лицо у тебя, Валёдя… Устал ты… Не сердись, буду молчать… Ты еще сердишься, я вижу… Коробов смотрел на дым костра. Ломило виски. Лечь бы сейчас… Но разве придет сон?.. Разве забудешь лицо фрау Мило фон Ильмер?.. Как же так вышло, что эта русская, эта родная женщина нашла свою смерть в Данциге?.. Все. Думать о деле. Эта немочка пригодится. Если что случится со мной, она, пожалуй, сумеет добраться до Берлина, до Циммермана. Совсем неглупая немочка эта фроляйн Балк… пригодится, если мне не повезет… Но нервы у меня сейчас ни к черту… Надо будет сказать Ирмгард: если что со мной случится, меня ранят или… словом, она должна знать, что во внутреннем кармане моего мундира — черновик рапорта Циммерману об итогах командировки в Данциг… Эти два листка, запечатанные в конверт, фроляйн Ирмгард Балк должна доставить в Берлин, непременно доставить… Но спешить мне не стоит… Девчонка что-то приуныла… — Ничего, Ирмгард, — сказал Коробов. — Приедем в Берлин и отправимся за обручальными кольцами… — Хорошо бы заполучить такого мужа! — Ирмгард засмеялась. — А у тебя с расовым вопросом все в порядке, а? — Надеюсь. Во всяком случае, мои предки не прибежали в Германию с Украины… или Кавказа, где ты целовался с девчонкой… Знаешь, один раз… Я прибежала из гимназии, мы, все девчонки, договорились пойти на шесть часов в «Вестэнд». А эта идиотка Гликерия… представляешь, имя? Гликерия!.. Эта дура с Украины стирала мои новые чулки и вот такие дыры наделала! Ты знаешь, я совсем не злая, но… Эта скотина, эта Гликерия! Совсем новые чулки, только получила в подарок от Зигфрида… Ну, и на кухне я устроила этой Гликерии! Я просто взбесилась, ты можешь понять? Кофейник с плиты… Голой рукой, да! Как запущу в проклятые веснушки этой Гликерии, да! Так и спекла всю ладонь! А эта Гликерия… Она бросилась на меня, да! Как волчица бросилась! И тут мама, понимаешь, еще хорошо, что мама была рядом и… Ирмгард вдруг увидела, что у обер-лейтенанта дрогнуло лицо. — Валёдя?! Губы обер-лейтенанта разжались. Какое-то слово сказали — короткое, непонятное слово: «Сука…» Он нагнулся к сиденью. Рванул его… Ирмгард повалилась на снег… Обер-лейтенант — слышала Ирмгард — уходил, скрипел снег под его сапогами. Лязгнула дверца. Рокотнул мотор. Машина тронулась, покачиваясь, перебралась через пологий кювет, круто развернулась вправо… — Валё-дяааааа!55
Небо с дымными редкими перьями облаков, разбросанными над Балтикой, казалось людям страшным… С неба могла прийти смерть. Люди шли по шоссе. Погромыхивала в пяти шагах от черного «паккарда» телега с древними железными ободьями, запряженная парой серых лошадей. Старуха, сидевшая на телеге сзади, свесив тощие ноги в синих чулках, как остановила взгляд на лице Коробова часа четыре назад, так и не отводила его… Коробов чувствовал этот взгляд, старался смотреть на слабое посверкивающее пятнышко, дрожавшее на высветленном за долгие годы ободе колеса… Монотонно-размеренный звук от шагающих по асфальту сапог, ботинок, ботиков тысяч людей, полязгиванье тележных колес, чьи-то вскрики то впереди «паккарда», то позади — все это сразу утонуло в чудовищном реве, стремительно налетевшем со стороны моря, от полосы далекого леса. Утреннее небо над узкой лентой шоссе словно рухнуло на головы людей, вдавило их в плечи, разметало людей по обе стороны от дороги, швыряло в грязный талый снег… Темные узкие тела самолетов выпрыгнули из-за леса, дернулись к земле, над снежным полем уже неслышно для людей полыхнули огненные линии… Поверх припавшей к узлам старухи Коробов увидел: девятка штурмовиков ударила по решетчатым аркам моста, неясно проглядывавшего в туманной ложбине, черно-красные разрывы закрыли мост… Коробов рванул машину вперед. Он думал, что через несколько минут сюда, на опустелое шоссе, могут вернуться штурмовики, добить цель… И только тогда, когда до моста оставалось меньше ста метров, Коробов увидел рваные края бетона, вздыбленного у дальних арок… Он успел затормозить, протяжно ныли по мокрому асфальту колеса «паккарда», — и этот звук исчез в новой волне рева. Коробов выскочил из машины. Ослепительная точка вспыхнула и погасла перед его глазами, он упал на пологий склон кювета… От тишины закололо в ушах, и Коробов застонал… Теплота коснулась его лица, он понял — это ладонь, маленькая, теплая… — Он живой! Господин директор, он дышит! Коробов увидел лицо девочки. Синяя вязаная шапочка съехала к темным бровям… — Господин обер-лейтенант! О-о, как вас бросило, да! Я думала, что… Прямо рядом с вами бомба, да! Голубые глаза приблизились к лицу Коробова, ладонь тихонько коснулась лба. Кто-то подошел — повизгивал под тяжелыми шагами снег… — Урзула, идем, — сказал голос старого мужчины. — Господин директор, он же совсем… — робко сказала девочка. Коробов с трудом перевернулся на спину, медленно поднял правую руку к груди. Девочка схватила его за эту руку — она поняла, что обер-лейтенант хочет сесть… — Идем, Урзула, — сказал старик в короткой зеленой куртке с темной меховой опушкой, в измазанных глиной высоких шнурованных ботинках. Он отвел взгляд от лица обер-лейтенанта. Стоявшая рядом с ним вторая девочка, в черном пальто с пятнами сырой глины, испуганно глянула на хмурое лицо старика и отступила на шаг… Коробов попробовал встать, девочка в синем бархатном пальто потянула его за правую руку, виновато улыбаясь маленьким обветренным ртом. — Урзула, мы уходим, — сказал старик и, взяв девочку в черном пальто за руку, выбрался из кювета на шоссе. — Я не пойду, — сказала Урзула, переминаясь с ноги на ногу. — Ули-и! — закричала с шоссе девочка в черном пальто. За ней Коробов увидел перевернутый, без передних колес, «паккард»… — Иди… Урзула, — проговорил медленно Коробов. — Не хочу. — Иди… Дедушка тебя ждет… — Это не дед. Это директор нашей школы. Я хочу помочь вам, да! Не поняла Урзула — не то слезы в глазах обер-лейтенанта, не то он смеется?.. Она вздохнула и стала натирать ладони снегом. Комочки розового снега сыпались к ногам. «Это же… это же моя кровь…» — подумал Коробов. — Я все вытерла, — тихо сказала Урзула. Коробов снял фуражку, посмотрел на темные пятна крови на черном лаке козырька, взял горсть снега… — Вас так бросило… тогда, — сказала Урзула. — А я перчатки потеряла, вот трусиха! Коробов встал. — Все равно удерем от Советов, да? — улыбнулась она. — Попробуем. — Вы не слышали радио, господин обер-лейтенант?.. Советы опять наступают, да, я утром услышала! Совсем рядом наступают! Маршал Рокоссовский, да! Урзула глянула в лицо обер-лейтенанту и замолчала. Она увидела, что обер-лейтенант закусил нижнюю губу. Наверное, ему было очень больно…56
Ветер над пакгаузом все крепчал, и дым от костра на бетонном полу швыряло из пролома в крыше вниз… Иногда Коробов открывал глаза, видел небо, плывшее кусочками меж дымных струй. — Спите, господин обер-лейтенант, — шептала лежавшая рядом с Коробовым Урзула. Мать солдата, что поднял упавшего на перроне вокзала обер-лейтенанта, укрыла его и девочку зеленым байковым одеялом, сверху набросила шинель сына (сидел солдат у костра, расстегнув три верхние пуговицы старенького кителя с погонами артиллерийского обер-ефрейтора и двумя Железными крестами). — Отдыхайте, господин обер-лейтенант, — сказал обер-ефрейтор. — Поезд обещают только к ночи… После контузии отлежка — великое средство… Девушка в сером пальто сидела рядом с обер-ефрейтором на ящике, курила сигарету, щурясь. — Эми, ты опять берешь в рот эту пакость, — сказала мать обер-ефрейтора. — А, фрау Рехберг! — Нет, не будешь ты хорошей женой, Эми, нет. Обер-ефрейтор засмеялся. — Это мне лучше знать, мамочка… — Тебе надо помолчать, Вернер, когда говорю я. Да, я еще не успела дать согласия, чтобы ты привел в дом жену. — Дома нет, а жена будет, — сказал обер-ефрейтор, взял сигарету из руки Эммы и стал курить. — Дома нет, сынок, нет, ничего у нас нет… И Германии уже нет. — Германия будет всегда, — сказала вдруг Урзула, шевельнувшись под одеялом. Обер-ефрейтор посмотрел на нее, засмеялся. — Ничего нет проще, моя дорогая дама. Купишь себе пять мальчиков и пять девочек — Германия будет жить… А? — Она найдет их в капусте, — сказала Эмма. — Спи, маленькая, — сказала фрау Рехберг, тяжело поворачиваясь грузным телом на ящике, и поправила одеяло в ногах Урзулы. — У тебя будет все хорошо. Спи. Разбудишь господина офицера. Старая немка напоила его кофе из зеленой фарфоровой кружки. Старая немка укрыла его одеялом. У нее были добрые глаза матери, у этой фрау Рехберг. Германия не умрет. Германия не должна умереть. Пять мальчиков и пять девочек найдет Ули в капусте… Я люблю ту, будущую Германию… Я люблю ее, потому что люблю Карла Циммермана, и Маргот Циммерман, и эту старую фрау Рехберг, которая хочет, чтобы у ее сына была хорошая жена, и маленькую Ульхен люблю, и того старика в брезентовом плаще, у которого жену звали Матильда… Я мог бы жить на улице, на той улице, где впервые увидел Эми… Нет, я не люблю Эми Циммерман… Карл бросил сигарету в окно. Мы стояли с ним у открытого окна в кабинете. Я все еще боялся этого высокого человека с красивым, таким надменным лицом, ведь я увидел Карла только сорок минут назад, когда приехал с Силезского вокзала… «У тебя гениальная легенда, Володя, — проговорил он медленно и усмехнулся. — Во всяком случае, Эми не будет сомневаться в том, что это именно ты пятнадцать лет назад ходил к ней в гости… Когда я сказал Эми, что фронт перешел ее старинный приятель Вовочка Коробов… Мне пришлось рассказать трогательную историю маленьких Эми Циммерман и русского Вовочки кое-кому из лиц, приближенных к Геббельсу… Мда… Дело-то в том, Володя, что сейчас — сорок третий год, а не сорок первый… В сорок первом тебя бы просто швырнули в лагерь для пленных или пристрелили… А сейчас советский офицер, добровольно перешедший на сторону Германии… Ну, ты и сам понимаешь… На этом мы и решили сыграть… Постараюсь добиться, чтобы оставить тебя офицером для поручений… Пожалуй, никто не будет считать странной такую просьбу, а?.. Друг детства милой дочери… Думаю, все уладится, Володя… Да, все будет хорошо… А ты… похож на Павла Васильевича… — Карл помолчал, потом сказал: — Эми абсолютно не в курсе, друг мой Владимир…» Абсолютно не в курсе… Карл, наверное, нарочно сказал о страшном эти холодные, мертвые слова. Ведь он говорил о дочери, об Эми, маленькой Эми, которая когда-то давно, очень давно шла за мной по тротуару в Коврове, ступая красными пыльными туфельками. «Да, я живая», — сказала тогда мне Эми… Она умерла для меня. Я стоял у машины, открыв заднюю дверцу, и ждал, когда ко мне подойдет высокая немка в сером платье… У нее были длинные волосы, очень светлые волосы, она была бы самой красивой девушкой на свете, если бы… Эми абсолютно не в курсе… Абсолютно. Эми смотрела на меня равнодушно. Она подошла к машине, Карл повернулся на сиденье — он сам вел машину. — Эми, я жду тебя уже семнадцать минут. Тебе звонила мама? — Да, папочка. Но Гильда меня задержала. — Эми… Господин обер-лейтенант интересуется, как поживает черепаха Брунгильда… — Эми… ты… живая? По-русски я сказал эти три слова… Господи, нельзя, нельзя так страшно, ниоткуда, из далекого, немыслимо далекого детства делать один шаг с улицы Коврова — и стоять на улице Бернау-бай-Берлин, стоять у ресторана «Шварцерадлер» и видеть не маленькую Эми, а фроляйн Эмму Циммерман с длинными светлыми волосами… Эми абсолютно не в курсе… Господи… она пришла, пришла ко мне ночью. Нет, не ночью. Было всего десять минут двенадцатого — я взглянул на бронзовые часы, стоявшие на камине, когда услышал шаги Эми… Мы помнили все… но самое страшное — я смотрел на эту красивую немку и знал — враг, она враг мне… и отцу, и матери… Она не знает, что она враг нам, не знает, не должна узнать, иначе мы умрем…57
Был приятен свет, шедший через закрытые веки… «Солнце… — подумал Коробов. — В тот день в Коврове песок обжигал ноги… Мы чистили красные туфли Эми лопухом… Мы сорвали лопух под забором конного двора…» — А-а, все это болтовня для дураков, мама… Если б ты видела, что делали черные шинели на Украине… Коробов шевельнулся. Это же голос обер-ефрейтора. — Тише, Вернер, боже мой, — сказала фрау Рехберг. — Плевать я хотел на всю эту болтовню. Какого черта мы будем бегать по Германии? От иванов не убежишь. От Волги бежим… Мне еще повезло, я успел унести ноги из этого ада… Спасибо тому ивану, который швырнул мне под ноги гранату. — Вернер, мальчик… тебя же схватят… Нет, об этом и думать нечего… Не увидим мы своего дома, не увидим мы… — Мамочка, перестаньте, — сказала Эми. — Не надо, мама. — От иванов не убежать, — сказал Вернер. — Надо возвращаться. Пусть, кто хочет, пробует убежать от иванов, а мне надоело, я сыт по верхнюю пуговицу всем этим свинством! — Не кричи, Вернер, — сказала Эми. — Как хочешь, мама. А мы с Эми вернемся. — Тебя… тебя убьют, сынок… Господи! — Плевать иванам на такого колченогого вояку, как я. Калек им в Сибири не надо, у них в лагерях полно толстомордых эсэсманов… — Замолчи, Вернер, — сказала мать. — Иваны придут в Берлин, придут. Мы в Москву не пришли, а они в Берлин придут. Я никогда не был трусом, но бить лбом в броню танка — занятие не для меня, нет! А, к черту все! Коробов открыл глаза, и ему пришлось прищуриться: в небе полыхало солнце… Струйка дыма от костра тянулась в пролом крыши. Фрау Рехберг оглянулась. — Спал как в раю, — негромко сказал Коробов, откинул одеяло, сел. — Вот и лучше вам, господин офицер, — сказала старуха. — Слава богу, русские летчики, наверное, пьют чай уже третий час… А ваша малышка убежала за водой для кофе. Славный ребенок, так заботилась о вас, все укутывала одеялом, очень милая девочка… Сейчас будете пить с нами кофе, господин обер-лейтенант. Вам непременно надо пить кофе — и сразу выздоровеете, кофе очень полезно; когда мой покойный Рудольф… он был старшиной плотников, да, так он всегда любил кофе, мы любили бразильский кофе, и мой муж всегда… — Мама, ты совсем заговорила господина обер-лейтенанта, — сказала Эмма. — Ну… ну, мне, старухе… Коробов улыбнулся. Понимал: боится старая фрау Рехберг, что он слышал ее разговор с сыном… — Напротив, напротив, фроляйн Эмма, я давно не имел удовольствия слышать добрый немецкий разговор о кофе, да еще с таким тонким знатоком, как фрау Рехберг… Полное лицо старухи покраснело. — Вы очень добры, господин обер-лейтенант, — сказала она, посмотрела на Эмму. — Дочка, нам сейчас нельзя опозориться… Коробов подмигнул хмурому Вернеру, сказал по-приятельски: — Надеюсь, храбрый артиллерист, вы не откажетесь быть членом нашей авторитетной солдатской комиссии по оценке благородных трудов уважаемых дам, а?.. — Благодарю, господин обер-лейтенант, — все еще хмурясь, сказал Вернер. — Осмелюсь доложить, я больше привык к солдатскому шнапсу. — Ничего, скоро придется отвыкать… Вернер глянул на мать. — Ты не понимаешь шуток, — строго сказала фрау Рехберг. — О, мы отлично понимаем друг друга. — Коробов, поднимаясь с соломенного мата, подхватил одеяло за концы, легонько тряхнул его, стал свертывать. — Господин обер-лейтенант, я сама, это женское дело! — Фрау Рехберг встала с ящика, взяла у Коробова одеяло. — Спасибо, фрау Рехберг… — Мы должны помогать друг другу… Немцам сейчас трудно, да, мы должны помогать, господин обер-лейтенант… Сев на ящик рядом с Вернером, Коробов протянул руки к костру. За его спиной — голос Урзулы: — Вы уже не спите, господин обер-лейтенант… Вам надо больше спать, да, вы совсем еще… Фрау Рехберг засмеялась, взяла из руки девочки алюминиевый чайник, поставила у своих ног. Коробов встал. — Что там на божьем свете делается, Ульхен? И не смотри на меня так строго, я совсем здоров, осмелюсь доложить… Надо покурить на свежем воздухе. Коробов улыбнулся девочке, пошел к дверям пакгауза. Солнце, свежесть, ясность — над весенней землей… А на земле… Коробов вздохнул, неторопливо разминал сигарету. Бродили по перрону и захламленным путям люди. Шагах в сорока от перрона стояли три пассажирских вагона с выбитыми стеклами. Приглядевшись, Коробов разобрал надписи на белых табличках: «Штеттин — Кенигсберг»… За дверями купе кое-где виднелись силуэты людей… На подножке вагона сидел парнишка с повязкой фольксштурмовца на рукаве черного пальто и курил сигарету — Коробов слышал иногда его простуженный кашель… — О, черт… — Коробов, забывшись, размял свою сигарету в труху, швырнул… Достав портсигар, увидел — пуст… — Черт возьми… — В буфете есть сигареты, я видела. Улыбнулся Коробов: рядом с ним стояла Урзула. — Я могу купить, хотите? — Ну, если тебе не трудно… — Совсем не трудно… — Ну, тогда я еще раз подтверждаю свое слово офицера… Мы приедем с тобой в великий город Берлин, возьмем за горло самого большого начальника и узнаем, где твой самый лучший на свете папа. Гарантирую. Коробов порылся в правом кармане мундира, достал кредитку. — О! Сто марок! — сказала Урзула. — Пачек шесть ты донесешь, а? Девочка засмеялась… Коробов смотрел, как Урзула не очень торопливо, выпрямившись, пошла по перрону — чувствовала, наверное, что обер-лейтенант провожает ее взглядом. Синее пальто затерялось в толпе… Коробов подошел к углу пакгауза. За решетчатой оградой, окружавшей пристанционные склады, тянулось шоссе, за ним плотно стояли двухэтажные дома с красными и серыми крышами. Из переулка тяжело вывернул на шоссе зеленый длинный фургон с двумя парами задних колес, проехал два десятка шагов и остановился. На асфальт из кабины вылез шофер — солдат в черной длинной шинели, в черной фуражке с мягким козырьком, торопливо прошагал вдоль машины к распахнутой задней дверце. В проеме дверцы стояли мальчишка лет десяти и две девочки чуть постарше, в одинаковых серых капорах. Шофер подхватил мальчика, поставил на асфальт, засмеявшись, пришлепнул его ладонью по спине, и мальчик как-то бочком, пригибаясь, побежал к ограде станции… Девочки в серых капорах, которых шофер поставил на асфальт, испуганно глянули на Коробова, потоптавшись, убежали за машину… А в двери уже теснились несколько женщин. Шофер откинул маленькую лесенку в четыре ступеньки, помогал им сойти… Потом пассажирки, которых набралось десятка два, и полдюжины мальчишек и девчонок пошли к невысоким распахнутым воротам в ограде и скрылись за пакгаузом… — О, газовый фургон, — сказала Урзула, останавливаясь рядом с Коробовым и протягивая ему пакетик из папиросной бумаги. — А я купила вам сразу десять пачек! Вы не сердитесь?.. — Ты сказала — газовый? — Мне шофер папы, Герард, говорил. Он работал на таком фургоне. Он напился совсем пьяный, когда папа не взял его с собой… Такой пьяный! Мама позвонила коменданту, и его отправили на гауптвахту, а потом он там подрался с фельдфебелем, вот глупый! Коробов порвал пакет, рассовал пачки сигарет по карманам шинели… — А кто твой папа, Ульхен? — Майор. Уже майор, да! Он сейчас в Венгрии воюет. Да. У него рыцарский крест, во всем полку только у него рыцарский! — А мама? — Мама?.. Не знаю… Мы жили в Данциге, потом меня папа отвез в лесную школу, а туда как ворвутся два ивана, да с автоматами! Старый иван меня, знаете, как назвал? Дюньетшка!.. Такой смешной иван! А другой был такой… важный, да! Унтер-офицер! А потом наш охранник Вилли стал стрелять по иванам, мы как бросились бежать, ужас! Коробов смотрел, как шофер фургона помогал пассажирам подниматься по лесенке… — Идем-ка, Ульхен… — Коробов взял девочку за руку и пошел к воротам. Хмурое, невыспавшееся лицо пожилого шофера смотрело на обер-лейтенанта… — Куда маршрут, приятель? — Везу семьи господ офицеров лагеря «Гросс-Вальде — девяносто четыре», господин обер-лейтенант! — Лучше транспорта у вас не нашлось? Шофер промолчал. — Возьмите меня и девочку. Надеюсь, ваш курс не на Москву? — Не могу, господин обер-лейтенант. У меня приказ господина бригаденфюрера. — Плевать я хотел на вашего замызганного бригаденфюрера! Ульхен, ты не очень испугаешься, если я дам сейчас в морду господину шоферу, а?.. Коробов подошел к дверце кабины, рванул за ручку… — Господин обер-лейтенант!.. Господин обер-лейтенант! Я не имею права! Это секретная машина… Коробов глянул на девочку. — Ульхен, дочь кавалера рыцарского креста, как называется эта паршивая колымага?.. — Газовый… газовый фургон. — Вот видите, приятель? Садись, Ульхен… Дядя шофер отлично понимает, что ехать в такой приятной компании лучше, чем получить по физиономии… Ну, садись же… Коробов помог девочке взобраться на высокую рифленую подножку, поднялся сам. Шофер сел за руль, поправил фуражку. — Я вынужден подчиниться, господин обер-лейтенант, но я… — Бросьте, приятель. А то я загоню вас в фургон и откомандирую к тем вашим лучшим друзьям, которых вы отправляли к праотцам… А? Шофер усмехнулся. Видимо, его успокоило, что обер-лейтенант знает о назначении зеленого фургона. — Так куда же мы катим на этой, как говорят русские, душегубке, приятель?.. — Душегупка, — сказала Урзула. — Это что, господин обер-лейтенант? Коробов осторожно коснулся рукой большой синей пуговицы на пальто девочки. — Здесь — твоя душа. И если ее погубить, твою очень славную душу, то получится ду-ше-губ-ка. Вот так, Ульхен. — Он повернул лицо к шоферу. — Вы забыли ответить мне, приятель… — Приказано прибыть в Эберсвальде, в военный городок, не позднее семи утра завтра, господин обер-лейтенант! — Шофер поправил фуражку. — Если русские свиньи не разбомбят нас по дороге… — Э, вы пессимист, приятель. — Я просто немец, доживший до проклятого сорок пятого года, господин обер-лейтенант… Машина тяжело прогрохотала по грязному дощатому настилу узкого моста через какой-то ров, пересекающий подножье пологого холма. — Девочка, смотри на небо, — сказал шофер. — Если увидишь самолеты, скажешь… — Да, господин солдат, — вежливо улыбнулась Урзула, отодвигаясь от Коробова к правой дверце просторной кабины. — Мы доедем, Ули, — сказал Коробов. — Нам нельзя не доехать.58
Человек в Москве читал:«Коробов звонил из Эберсвальде по армейскому телефону. Фрау Лило фон Ильмер погибла при бомбежке Данцига, все ее вещи сгорели вместе с машиной. Сообщите по любому каналу возможность замены. Имеющаяся рация не справляется с объемом информации, реальна угроза ее фиксации станциями радиоперехвата. Четвертый на допросах молчит. Допрашивал четыре раза лично бригаденфюрер СС Мюллер. Профессор Макс де Кринис покончил самоубийством. Привет!Циммерман».
«Генерал Венк, назначенный в штаб Гиммлера по настоянию Гудериана для помощи в руководстве войсками, уснул за рулем машины, разбился, вышел из строя на несколько недель. Вместо него назначен генерал Креббс. Друг генерала Бургдорфа, начальника управления личного состава сухопутных войск, близок также к Борману и бригаденфюреру СС Фегелейну. Перед Гитлером неустойчив. Привет!Человек поднялся с кресла, подошел по скрипнувшему под сапогами паркету к радиоприемнику… — Доброй ночи, дорогие соотечественники… — сказал приятный женский голос из Берлина. Человек выключил приемник, вернулся к столу. Перевернул листок в синей папке, стал читать:Циммерман».
«Главный вывод из поездки Коробова в Данциг: тыл рейха трещит по всем швам, настроение среднего немца паническое. На дорогах — сотни тысяч беженцев, маневр исключительно затруднен, массовое дезертирство — очевидный факт для сегодняшнего вермахта. Подтверждаем точность перечня частей и соединений, сосредоточенных для обороны Данцига, сообщенных вам вчера. Дополнительный список частей и соединений, наблюдаемых Коробовым в приморской полосе Данциг — Штеттин, сообщим следующим сеансом. Привет!Циммерман».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
00.55. 19 апреля 1945
КОМАНДАРМ
…рубаха досталась Борзову великонька… Завязывает тесемки ворота, смеется старый солдат: «Ежели того… уж вот где вольготно душе будет… Сразу в рай полетит…» Манухин даже побелел тогда: «Закрой, закрой уста, нечестивец, нехристь!..» Новые рубашки нам Алька организовала… Уходят люди в небытие… Их нет… Никогда не будет их, мертвых… Сильвы не будет… Альки… Вечи Березницкого… Ваню Евсеева опять зацепило миной… А Галя Чернова… Она ведь Ивана спасла, сама под огонь бросилась… Выживет ли девочка?.. Волынский теперь смерти ищет… Да, да, мне уже трижды докладывали… Потерял Сильву, а теперь и эта девушка… Галя… Когда редактор принес мне письмо Борзова о ее подвиге… черт возьми, я еле слезы удержал тогда… Солдаты, солдаты, русские солдаты… Борзов, наверное, опять чистую рубаху надел… Полверсты через этот проклятый Одер — не одна русская душа смерть здесь примет… Крепкая русская закваска… И дед, и прадед Борзова чистую рубаху перед боем всегда надевали, да, да, род Борзовых — старинный род, наверняка не один солдат был в твоем роду, Николаич, не один… А разве Николаич — последний, кому довелось чистую рубаху надевать, к смерти готовиться?.. Долго еще России понадобятся чистые бязевые рубахи… А ведь, наверное, и сейчас бязь со своих станков снимает жена Борзова в Шуе… Лида Борзова… Останусь живым — обязательно побываю в Шуе, к Борзовым зайду… Там ведь и Венер Кузьмич где-то по соседству живет, в Юже… Если останусь живым…ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
Спал Борзов под кустом. Справа — Пашка Шароварин, слева — старшина Мануйлов. Снилась ему баба. Не то соседка Тамара Васильевна, не то мастер первой смены Маргарита Викторовна… Зубами поскрипел Борзов во сне: то светлые глаза соседки на смуглом девчоночьем лице мастера были, то кудрявые завитки белокурых волос Маргариты вдруг над густыми, темными бровями Тамары под ветерком шевелились, — шел Борзов по маленькому броду с «Козьего острова»… И рядом с ним плескали босыми ногами по воде Тамара и Маргарита, и мучило Борзова, что никак он не угадает — кто из них мастер, кто — соседка… И платья на них были одинаковые — армейского покроя, зеленые платья… Тамара — а может, Маргарита — вдруг угодила в яму, вода всплеснулась, потянула Тамара — или Маргарита — руки к Борзову, а руки его не могли шевельнуться, мертво свисали руки Борзова, и крикнуть он не мог… И не Тамара это была, и не Маргарита — лицо жены увидел Борзов, уходило лицо в глубь воды… — Лида-а… Лидонька… — простонал Борзов во сне. — Не лягайся ты, — сказал спросонок Пашка Шароварин, трофейную плащ-палатку с соседа стягивая на замерзший бок. — А?.. Кто?.. Тьфу ты, господи… — забормотал Борзов. — Наснилось, что ли? — сказал, зевнув, Пашка. — Да ну к лешему… тьфу, башка гудит… Бабы замучили, дьяволицы толстомясые… — А мне все бе-еленькие снятся, — сказал Пашка. — Жена у меня — что цыганка, черненькая, ловкая, — сказал старшина Мануйлов. — Так за всю войну хоть бы разок во сне увидать… — Шкодник ты, старшина, вот жинка и обиделась, — усмехнулся Борзов, поелозил на соломе, укладываясь поудобнее… — А я сейчас вот свою ненаглядную видал, ага… Хороший сон был… Будто гуляем мы с Лидией по базару, яблок — навалом, огурцы, всякая тебе роскошь, ага! И вздохнул Борзов — не привык он душой кривить, а про то, как лицо жены в воду уходило, разве расскажешь? — Я солдат честный, — сказал старшина. — Солдат ты честный, а старшина — хреновый, — сказал Борзов. — Это как прикажете понимать? — Ты мне не выкай, я этого не шибко боюсь. Рубаху у тебя клянчу четвертый день, не-е… пятый, считай, а ты — глядеть на меня глядишь, а понимать не понимаешь… — Да я свою отдам, в душу Гитлера! — Старшина откинул с себя плащ-палатку, сел. — В складе полка натбелья напасено на год! А где тот склад, ежели мы рвем к Данцигу как с цепи сорвались? — Написать, что ль, Сергею Васильевичу Никишову про тыловые порядочки, а?.. Как, Павел? — Катай, — сказал Пашка Шароварин. — Он враз лычки-то с нашего старшины срежет. — Ты это… не пугай, ты по-человечески рассуждай! — Старшина закурил, сплюнул. — Я роту бы во все новое — хоть сейчас, да тыловики, душа с них вон, черт те где, понимать же надо, Николаич… — Оставь курнуть, — сказал Борзов. — Нет лучше солдатской должности, товарищ начальник… Солдат кого хошь из души в душу может крыть, а ему начальство вежливо обязано отвечать… Мелко оно против солдата плавает, товарищ начальник. Солдату — первая пуля, потому он и первый человек в армии, понял? Вот срежет тебе Никишов лычки — ты враз человеком станешь, это уж проверено… — Ты чуток на ужин не хватил из фляжки? — спросил старшина и сунул цигарку в руку Борзову. — Перед боем не пью, — сказал Борзов. — Архангел Гавриил, которые перед боем винишко тянут, в рай не пускает… А уж оставил-то, ну, жаден ты, Борис… — Да вы спать будете, черти? — рассердился Пашка Шароварин. — Шабаш. Спим. — Борзов отбросил окурок, поплевал на обожженные пальцы и повалился боком на солому. — Так рубашечку, значит, завтра получу, Борис? Старшина вздохнул. — Дам. Дрыхни. Они не успели задремать — над головами в темном небе зарокотало… — Каждую ночь наши Данциг бомбят, — сказал старшина. — Звездный налет называется, Горбатов говорил… Со всех сторон самолеты — и дают немцу припарку… Летели над ними невидимые самолеты, а когда глухо загудела земля, кромсаемая тысячами бомб, три друга уже спали.59
Все старшие офицеры корпусов и дивизий Седьмой ударной армии знали, что ни по рациям, ни по телефонам два, а то и три часа после «часа Ч»[8] не услышат они с командно-наблюдательного пункта голос Никишова… Знали они, что этот не совсем обычный порядок командарм перенял от командующего фронтом маршала Рокоссовского. Случалось в ином бою — вежливый, негромкий голос маршала, знакомый тысячам офицеров, говорил по телефону кое-кому из чересчур нетерпеливых командармов, не выпускавших из руки телефонной трубки, едва пехота выберется для атаки из траншей: «Вы Сергея Васильевича давно не видели?.. Позвоните, если вам не трудно, узнайте, как у него здоровье…» Намек маршала был понятен каждому командарму, и результат такого разговора был одинаков: в дивизиях и корпусах облегченно вздыхали, глядя на вдруг умолкший телефон… А командарм в сердцах грохал трубкой по аппарату, иногда — смотря по характеру — пускал матерка, а то и приказывал ординарцу дать стакан чаю… В такие минуты на командных и наблюдательных пунктах в дивизиях и корпусах штабные остряки из офицеров помоложе охотно растолковывали каждому новому сослуживцу, впервые попавшему в соединения Второго Белорусского фронта и удивленному непривычным молчанием телефонов, что соединяли с командармом, в первые часы после начала наступления: «У командарма-семь железный принцип для комдивов и комкоров: ходите своими ногами…» И объясняли новичку, что суть принципа проще простого: командарм помогает дивизии или корпусу только тогда, когда они «не могут ходить своими ногами», дело не ладится, наступление затухает… Вот в такие минуты и можно звонить «вверх», просить помощи… И еще толковали новичку, что принцип можно нарушить, если дивизия или корпус отличится, рванет вперед такими темпами, что тут уж не грех и порадовать командарма добрыми вестями… А командарм в те же первые часы наступления никогда не «висит над душой» комдивов и комкоров, дает им возможность спокойно руководить операцией… «А вот у нас…» — начинал рассказывать новичок, но штабные остряки и слушать его не хотели: «Бросьте, майор… Вашему комфронта у нашего Константина Константиновича учиться не переучиться, мелко он против нашего маршала плавает…» И если иной новичок сдавался не сразу, то штабные остряки начинали с таким ядом разбирать последние операции командующего фронтом, откуда прибыл новичок, находили в этих операциях такие страшные просчеты и нарушения азов стратегии, что новичок бледнел. А неделю-другую спустя и сам новичок был убежден до глубины души, что ему просто дьявольски повезло — получить назначение именно на фронт маршала Рокоссовского… Гвардии полковник Волынский, сидевший, сгорбившись, над картой в маленьком блиндаже своего командно-наблюдательного пункта, немного удивился, услышав по телефону доклад начальника штаба дивизии, что от командарма получена телефонограмма: «Мой ВПУ — высота 217,9»… Собственно, ничего неожиданного не произошло: Никишов принял решение сменить место своего вспомогательного пункта управления, причина в общем понятна… Просто командарм счел полезным быть поближе к переднему краю… И это тоже не удивило Волынского: он давно знал правило командарма — быть поближе к войскам, своими глазами видеть ход атаки… Но, глядя на карту, знакомую до последнего топографического знака, Волынский видел, что высота 217,9 — всего в пятистах метрах от блиндажа, где сидел сейчас Волынский… Видел он и то, что треугольничек, нарисованный красным карандашом вчера в двадцать три ноль-ноль и обозначавший место прежнего ВПУ командарма, был в полосе наступления соседней дивизии… А сейчас Никишов — совсем рядом… Волынский взял с края стола коробку цветных карандашей. Привычно положив «командирскую линейку» из прозрачного целлулоида на карту, он подвинул треугольный вырез в линейке к цифре «217,9» и обвел треугольник красным карандашом… Отодвинув линейку к краю карты, видел Волынский: густая, неровная цепочка из треугольников (были они нарисованы все тем же красным карандашом рукой самого Волынского часа четыре назад, после полуночи) теперь оказалась сзади высоты с отметкой «217,9». На хмуром лице гвардии полковника дрогнули усмешкой губы… То, что Сергей Васильевич перенес свой ВПУ в полосу дивизии Волынского, разумеется, не было случайностью… Не очень-то верит Сергей Васильевич, что дивизия (размышлял гвардии полковник) сумеет без его помощи преодолеть две немецкие траншеи,тянувшиеся по гребню нескольких высот, за которыми — знал Волынский по докладу начальника разведки дивизии — немцы с вечера успели собрать несколько десятков танков… Правда, в час ноль-ноль этот район бомбили наши ночные бомбардировщики, но результаты, понятно, скажутся только утром, когда пехота подымется из траншей. Волынский опять усмехнулся: он понял, что не слишком приятные размышления сейчас наверняка не только у него… Ведь то, что Никишов теперь находился ближе к немецкой первой траншее, чем большинство командиров дивизий и корпусов, не могло не заставить их как можно быстрее выйти из такого, не слишком щадящего самолюбие любого начальника, непривычного положения… — Хитер Сергуня… — пробормотал гвардии полковник и глянул на ручные часы. До «часа Ч» оставалось семьдесят минут… Гвардии полковник поднялся, отодвинув железный складной стул, одернул по привычке гимнастерку и неторопливо прошагал начищенными сапогами по дощатому полу блиндажа к узкой двери из фанеры, за которой размещались связисты. — Сиди, сиди, Ольга, — сказал гвардии полковник дежурной связистке, торопливо поднявшейся с зеленой табуретки перед щитом коммутатора. — Насколько я в вашем премудром деле разбираюсь, дежурный по коммутатору имеет право не вставать даже перед маршалом… Может, сменишься? Устала? Гвардии полковник смотрел на сонное, с розовыми щеками девичье лицо — резкие тени под бровями от света лампочки, свисавшей на черном кабеле с бревенчатого потолка, делали это лицо старше… Ольга села, скрипнув табуреткой, провела ладонью по туго зачесанным к затылку темным волосам… — Работенка сегодня предстоит нам с тобой веселая, — сказал гвардии полковник. — Вызови Афанасьева. Он смотрел, как крепкие короткие пальцы привычно защелкали переключателями, синий провод клацнул концом о медное колечко одного из гнезд коммутатора… — Береза! Береза! — строго и напористо сказала Ольга в рожок микрофона. — Девятого срочно! Девятого к аппарату! Гвардии полковник облокотился на край тумбочки коммутатора. — Возьмите трубочку, товарищ гвардии полковник, — сказала Ольга. Она работала на коммутаторе уже пятый день, побаивалась командира дивизии, о котором девчонки из роты связи говорили Ольге, только что прибывшей из медсанбата, что гвардии полковник иной раз так «заведется», такой бешеный бывает, тогда не дай бог тебе проканителиться с вызовом какого-нибудь абонента. И еще сказали девчонки Ольге, наглаживая ей обмундирование (жалели — слабенькая еще после медсанбата была), что гвардии полковник недавно Галинку Чернову, санинструктора роты Горбатова, в госпиталь отправил, приехал тогда на свой командный пункт черней черного, и что гвардии полковник совсем страх потерял, с передовой его замполит дивизии чуть не силком вытаскивает, командиры полков будто бы с гвардии полковником, собравшись вместе, толковали часа четыре, а командующий артиллерией гвардии полковник Вечтомов будто бы грозился лично написать маршалу Рокоссовскому, с которым служил вместе еще в первую германскую войну… Прошло минуты три, когда в трубке, что держал гвардии полковник, щелкнуло… — Афанасьев?.. Здравствуй, — сказал гвардии полковник голосом, который (подумала Ольга) совсем не походил на тот, каким гвардии полковник говорил с нею. Это был голос командира дивизии, а не совсем еще молодого человека с розовым шрамом на красивом лице. — Высоту за мной знаешь?.. Так вот, начальник, там сейчас Сергей… Соображаешь?.. Что именно?.. Так. Так. Понял, вижу. Вдохновлять тебя не буду, ты старый солдат, но надо нам с тобой так ударить по гадам, чтобы через два часа я мог доложить на ту высоту о выполнении задачи дня, да, да, волынку тянуть нам нельзя, никак нельзя. Задачу дня — за два часа, понял? Только так. Горбатова я вчера видел, он мужик крепкий, не подведет, твое дело — поддержать Горбатова маневром всего хозяйства, понял?.. Шумит фриц?.. Думаешь, «тигры»?.. Ну и что? Ты думал, фриц тебя с оркестром будет встречать на подступах к Данцигу, а?.. Не думаешь? Слава богу… Вот что, я тут подумаю, может, к тебе приду, дух твой поддержу… То есть как это просишь?.. Ты что, забыл, с кем говоришь, милейший?.. Позволь уж мне самому решать — нужен я на передке или нет, понял?.. Прекрати лирику. Всё. Действуй.60
…на крутом, почти отвесном склоне холма — таким он виден в стереотрубу — темные пятнышки то появлялись, то таяли в полосах дыма… Сверкали там разрывы немецких снарядов, падавших густой грядой перед медленно ползущими вверх танками… Да, после слов «Ураган! Три девятки!» танки уже будут за первой траншеей немцев, и прогрохочет перед атакой танков залп «катюш»… Маленькие темные пятнышки будут медленно, ужасающе медленно пробираться в дыму к вершине холма, солдаты будут казаться в окулярах стереотрубы просто темными пятнышками… Нет, чего-то я упустил, чего-то не хватает на склоне холма… на крутом склоне, потому что мне этот склон будет казаться более крутым, чем увидят его солдаты… Солдаты будут бежать медленно, их движение вперед всегда кажется медленным, и тогда думаешь, что их становится все меньше, все меньше, этих парней, что бегут в едком дыму и грохоте разрывов немецких мин и снарядов… Чего же там не хватает?.. Я же… я же забыл об орудиях сопровождения пехоты… Да, да, пушек не вижу я на склоне холма… Парни будут катить пушки прямо в цепях пехоты… Страшно — катить стволом вперед семидесятишестимиллиметровку, упираясь руками в ее колеса, поддерживать плечами страшную тяжесть обеих станин… Так. Все должно быть хорошо. Все должно быть так, как я вижу сейчас… А если не так? Нет, я верю… «Ураган! Три девятки!» Сорок минут артиллерийского наступления… Удар авиации — пятнадцать минут… Серии зеленых ракет над передней траншеей… Залп реактивщиков… И я увижу живые темные пятнышки на склоне холма… Танки. Орудия. Все правильно. Я должен увидеть бой, когда живые пятнышки… что они делают за час, нет, еще больше часа… до команды ротных и взводных «Вперед!»? Курят «по последней»?.. Или тоже, как я, пытаются увидеть то, что будет с ними на изрытом разрывами снарядов склоне холма?.. Не знаю. И никто другой не знает, потому что каждый человек по-своему готовится идти почти на верную смерть. Нет, в бою о смерти не думает человек, а вот перед тем, как услышать команду «Вперед!»… — Разрешите курить, товарищ командующий? Заместитель начальника штаба армии по вспомогательному пункту управления гвардии капитан Семенов неслышно раскрыл портсигар, достал трофейную сигарету, полез в карман за спичками, привычно тряхнул коробком — он был пуст… — Сева, огоньку, будь добр, — тихо сказал Семенов гвардии лейтенанту Маркову, что сидел на низеньком топчане, застеленном серым суконным одеялом, у правой стенки блиндажа и перочинным ножиком заострял концы цветных карандашей. И гвардии капитан, и гвардии лейтенант уже привыкли, что командарм может сидеть на топчане (всегда у левой стенки его топчан), закинув ногу на ногу, курить молча и десять, и двадцать минут, уставившись полуприкрытыми глазами в стенку блиндажа… Не знали только — о чем думает в эти минуты командарм, в тихие минуты, когда все готово, чтобы он мог сказать в трубку рации слова: «Ураган! Три девятки!» Но стрелки часов не подошли еще к цифрам, которые означают «минус сорок Ч» — начало огня артиллерии… И то, что командарм ничего не ответил на просьбу гвардии капитана, просто означало: он, пожалуй, и не слышал этих тихих слов… Положив дюжину карандашей в коробку на краю стола, Марков поднялся с топчана, подбросил в железную рубчатую печку справа от двери, ведшей в траншею со стереотрубами, три березовых поленца. Где-то впереди, у холмов, прострочил пулемет, и опять стало слышно, как шуршит карандашом по карте гвардии капитан Семенов… Прислонившись плечом к притолоке двери, Марков смотрел, как становились под карандашом гвардии капитана более зелеными опушки рощ за извилистой синей линией немецкого переднего края… Румяное, скуластое лицо гвардии капитана, с резкими морщинами в углах рта, было спокойным, казалось, даже чуточку рассеянным… Гвардии капитан взял желтый карандаш, передвинул губами сигарету в угол рта, сощурился и стал «оттенять» синюю линию на гребнях цепи высот. — Лишнее, Петр Федорович, — сказал вдруг командарм, и гвардии капитан поднял от карты глаза. Командарм встал, глянул на стол, где лежал поверх карты лист бумаги — таблица взаимодействия, — и в эту минуту из небольшого серого репродуктора, что висел на тесовой стенке блиндажа повыше ящика радиостанции, раздался хрипловатый голос начальника штаба армии генерала Корзенева: — Сергей Васильевич, прибыл Константин… Выехал к вам три минуты назад. От сопровождения отказался. Командарм взял микротелефонную трубку радиостанции, тихо щелкнул переключатель. — Понял. Он положил трубку, посмотрел на Семенова… — Скажи-ка разведчикам, пусть ставят еще одну стереотрубу. Семенов встал. — Сергей Васильевич… Не пускали б вы его в траншею… Ведь до немца — рукой подать. Командарм усмехнулся. — Не доспал сегодня, Петр Федорыч, что ли?.. Не знаешь Рокоссовского?.. — Знаю. Семенов протянул руку к телефону рядом с радиостанцией. — Мельниченко?.. Это Семенов. Давай хлопца со стереотрубой. Быстро!61
Самоходки в наспех отрытых мелких капонирах. Танки с наброшенными на башни ветками сосен. Минометы, трубы которых торчали ровными рядами чуть не впритык друг к другу. Устало орудующие трофейными лопатами пехотинцы, в гимнастерках без ремней, а то и в нательных рубахах, углубляли траншею. Связисты в мазаных-перемазанных телогрейках шагали вдоль красных и синих трофейных кабелей с трофейными же, в футлярах из коричневой пластмассы, телефонными аппаратами. Офицеры в неглубоких наблюдательных пунктах, прикрытых то маскировочной сетью, то лапами сосен, то жиденьким накатом из сосновых бревен. Подносчики пищи с зелеными бачками на широких брезентовых ремнях, шагавшие за старшиной в немецких офицерских сапогах. Пятеро саперов, тащивших на плечах по связке струганых жердей с красными матерчатыми треугольниками флажков на концах. Солдат с черными усами, сидя на корточках в воронке от немецкого снаряда, подогревал два котелка с водой на бездымном огне от длинных пороховых палочек из трофейного орудийного заряда. Гвардии лейтенант Марков засмеялся, обходя воронку, сказал: — Рванет, дядя. — Та шо там, — сказал солдат, ухмыльнувшись, и подсыпал в костерок пригоршню палочек. — Пехота свое дело туго знает, товарищ гвардии лейтенант, — сказал простуженным голосом разведчик Баландин. Он шагал в трех шагах сзади Маркова, легко, неслышно ступал такими же сапогами с немецкого офицера, в каких десять минут назад видели Марков и Баландин старшину, и поглядывал с чуточку надменной прищуркой армейского разведчика на всю эту давно виденную-перевиденную «славянскую» (как говорил Баландин) житуху… Баландин перепрыгнул траншею (на дне ее спали солдаты, уложившись вдоль стенки), глянул на небо: оно уже стало в зените того стального цвета, который — давно знал разведчик — предвещает скорый восход солнца… — Денек хорош проклевывается, товарищ гвардии лейтенант, — сказал Баландин, козырнув следом за Марковым хмурому капитану-танкисту в черном комбинезоне, — сидел он, свесив ноги в траншею, и смотрел в бинокль на дальние, у немцев, холмы. Марков оглянулся, улыбаясь. — Не разбил?.. — Целы! За подноску и мне, чай, причтется, товарищ гвардии лейтенант… Баландин похлопал ладонью по оттопыренному карману зеленых ватных брюк, из которого высовывалось горлышко бутылки. Такое же горлышко выглядывало и из другого кармана. — Солдат! Ко мне! Марков и Баландин остановились, оглянулись; капитан-танкист, пряча бинокль в брезентовый футляр, смотрел на них… — В чем дело, товарищ гвардии капитан? — Марков остановился. — Солдат с вами? — Танкист легко поднялся, отряхнул комбинезон, перешагнул траншею. — Так точно, товарищ гвардии капитан, — сказал Марков, хмурясь (не понравилось ему лицо танкиста — не то злое, не то устал он, что ли, этот танкист). Гвардии капитан подошел поближе, и разглядел теперь Марков: красивый этот танкист, молодой и красивый, на артиста Евгения Самойлова похож, точно, точно… — Махнем? — сказал танкист, движением подбородка указав на сапоги Баландина. — Не пойдет, товарищ гвардии капитан, — сказал Баландин, прищуриваясь. — Товарищ гвардии капитан, извините, мы по срочному делу, — сказал Марков холодно. — Я должен вернуться через сорок пять минут к командующему армией. — Ясно. Шестерим у командарма? Марков покраснел. — Я попрошу вас… — Ну, так как, начальник? — Не обратив внимания на слова Маркова, гвардии капитан присел и ощупал ладонью голенище сапога Баландина. — Хорош хромец, хорош… Сапоги, одну бутылку в придачу, а я гоню свои чеботы и рубль серебром. Идет? Гвардии капитан выпрямился. — Не идет, — сказал Баландин. — Товарищ гвардии капитан, я буду вынужден доложить командарму, — сказал Марков. — Разрешите идти? Красивое, с точеным ровным носом лицо гвардии капитана приблизилось к лицу Маркова (в капельках пота, на верхней губе). И в эти несколько секунд Марков понял: видел же, видел, конечно, видел Марков совсем недавно это красивое лицо, эти серые глаза… Марков почувствовал, что у него сдавило горло… И ослепляюще ярко увидел Марков: зеленый рыхлый лед… белые ладони Мишки Бегмы, вцепившиеся в этот лед… А потом… бежал по настилу в рыхлой, сыпучей каше из снега и льда человек в черном комбинезоне… подхватил Бегму… сидел, обессилев, на краю полыньи Марков, а тот человек… — Товарищ капитан!.. — Ну, память у тебя, Марков, девичья… — засмеялся гвардии капитан. — Товарищ капи… — Марков закусил губу. — Да ну, брось, Марков… А я гляжу — топает мой утопленник. И смотреть на меня не желает, кочколаз… — Товарищ капитан, я же только вот сейчас… ох, черт… вот же… вы были ведь старшим лейтенантом! — Марков обнял танкиста, тот засмеялся. — Позавчера четвертую звездочку прицепил… Ты куда жмешь-то? — Да на свою батарею, понимаете, моя батарея здесь, капитана Хайкина! На прямой наводке стоит, ну, хочу повидаться с ребятами… Черт, как же я вас не узнал? — Ну, Марков, с тебя бутылку… Я ведь в штурмовом отряде, где и твой Сеня Хайкин. Вторую неделю моя рота с ним шурует. Топаем, я туда! — Знаешь, Баландин, ведь он меня с одним солдатом из Вислы вытащил, а то б нам хана была! — сказал Марков, шагая вдоль траншеи за гвардии капитаном. — А у меня память на лица — ну, дрянь! — А я на той неделе знаете кого встренул? Брата! Ага! — засмеялся Баландин. — С января не знал, что живой Гришка! Похоронку домой уже прислали, а Гришка — во морду наел в госпитале! Старший сержант уже, в полку артиллерийском служит, в армии Батова… Во как бывает, а? В изгибе траншеи, куда они спрыгнули следом за гвардии капитаном, зашлепала под сапогами жидкая бурая грязь… — А фамилию мою ведь не помнишь, а? — сказал гвардии капитан. — Помню! — засмеялся Марков. — Лицо забыл, а фамилию… Гриднев! Марк Петрович Гриднев! — Скажи на милость, какой памятливый… — Нет, честное слово, даже стыдно, надо же забыть, а? — Рано залезли в траншею-то, — сказал Баландин, жалевший свои сапоги. — Не рано, — сказал гвардии капитан. — Вечером здесь моего взводного осколком мины наповал… Женю Братолюбова… Только из училища четвертый день… в душу Гитлера мать! — А Венер Кузьмич как? — спросил Марков, сразу вспомнив любимое «загибание» ротного Горбатова. — Кузьмич дает дрозда! Гвардии капитаном стал, того гляди два раза в день бриться начнет… С Кузьмичом жить можно, парень верный… Вчера на ужине мы с ним ка-ак… Марков чуть не ткнулся в спину гвардии капитана, так неожиданно тот остановился, подняв лицо к светлому уже небу… И сразу услышал Марков рокот — урчащий, с частыми пронзительными всплесками звуков, — накатывался рокот оттуда, от холмов… — «Тигры», в душу Гитлера… — Гвардии капитан не договорил, оперся локтем о край неглубокой траншеи, привычно забрасывая вверх согнутую ногу, выскочил из траншеи. — Назад, Марков! Я в роту! — крикнул он, оглянувшись, и побежал, пригибаясь… Марков повернул голову к холмам — резкой ломаной линией отсекались их вершины от чистого неба — и, вглядевшись, различил ниже этой линии темные квадратики, двигавшиеся к подножью холмов, четко прорисовывались на земле почти черные двойные полоски — следы танковых гусениц… — Керосин дело, — сказал Баландин. — Вертаем, товарищ гвардии лейтенант? В другой раз уж теперь… Вот суки, опять лезут… А, товарищ гвардии лейтенант? Сзади, в лесу, громыхнуло так, что головы Маркова и Баландина привычно ушли в плечи… Посыпались комья глины на дно траншеи… И уже ничего не слышали Марков и Баландин, кроме густого воя снарядов, рванувшихся из-за их спин в ясное небо. Приоткрыв рты, Марков и Баландин глянули вперед… Растаяла в серых упругих облаках, павших на холмы, линия горизонта, рвались облака вверх, густо вспыхивали там багровые искры… — Прорвутся, суки! — закричал Баландин. — Ближе нельзя нашим бить! По своей траншее можно!.. Марков глянул на часы… До часа «Ч минус сорок», помнил Марков, когда должна начаться артподготовка, оставалось еще двенадцать минут… Значит, немцы начали наступать сами, не дожидаясь удара штурмовых групп, ах, сволочи… — Я на огневую! — крикнул Марков. — Жди здесь! Баландин не успел ответить — бежал уже гвардии лейтенант по траншее, скрылся за ее поворотом направо. Два связиста в зеленых телогрейках показались из-за того же поворота, и Баландин сразу по напряженному, потному лицу переднего связиста, державшего в полусогнутых руках зеленые концы носилок, понял, что несут раненого. Припав спиной к стенке траншеи, Баландин пропустил переднего мимо и не удержался (хотя и знал, что не надо этого делать), глянул на раненого… Упало подбородком на грудь девичье белое лицо, чернобровое, с ввалившимися глазами. Рядом, сзади, грохнуло сухо и резко, Баландин привычно дернул книзу головой, осколки свистнули, кто-то крикнул; едва услышал этот голос Баландин, но понял: зацепило кого-то осколком… Шагах в двадцати справа от Баландина прыгали в траншею солдаты с автоматами, в касках. Они пробежали мимо него, даже не глянув. Человек пятнадцать было пехотинцев, и те лица, которые успел разглядеть Баландин, сразу сказали ему, что там, впереди, дело совсем швах, дело там хреновое… Лейтенант!.. Черт его дери… убьют гвардии лейтенанта!.. Баландин побежал по траншее, перебрасывая автомат на грудь, потом взял его в руки, и тут впереди полыхнул огонек — ослепительно-желтый, — грохнуло, ударил в лицо Баландину едкий запах тола… Но знал Баландин каким-то неясным чувством, что это — не его снаряд, побежал, пригибаясь, в серое облачко, павшее на дно траншеи, и споткнулся о чьи-то кирзовые сапоги… Голова в каске, без лица… Убило! Баландин торопливо отполз к стенке траншеи, не смея глянуть на убитого пехотинца, вскочил. Он пробежал до поворота траншеи и там остановился, припал спиной к глинистой стенке, тяжело дыша, почувствовал острую боль в левой ноге… Ощупал ладонью карман и, скривившись, стал выбирать оттуда осколки бутылки. По тяжести в другом кармане понял — эта бутылка цела… Баландин пнул сапогом по осколкам, увидел синюю наклейку, поднял, поднес к глазам… И, медленно разбирая белые буквы, прочел: не то Херри Хееринг выходило, не то — Шерри Хееринг… А над этим Хеерингом — поменьше буквы: ЕСТД. И цифры — 1818… И буквы ПФХ по краям треугольного щита, за которым справа и слева склонились по двое знамен, на синем поле — белый крест… Баландин смял бумажку, бросил на кучку осколков… «Сам ведь, сам напросился идти… Сам…» — всплыла вдруг обидная мысль, и Баландин понял: самое страшное случилось с ним сейчас… Только давным-давно, под Минском, было с Баландиным так… Когда увидел он на песчаной дороге через картофельное поле серое, кровавое пятно — то, что осталось от разведчика Сани Лихарева, раздавленного немецким танком… Упал тогда Баландин лицом в песок, лежал, дергалась у него голова в каске… А потом услышал голос командира взвода гвардии лейтенанта Шевченко: «Встать! Вперед!..» И вот… сегодня… Баландин зажмурился — и голос гвардии лейтенанта Шевченко, мертвого гвардии лейтенанта, убитого как раз в новогоднюю ночь, сказал: «Встать! Вперед!..» Пошатнувшись, Баландин протянул вперед руку с автоматом, новеньким автоматом «ППС», похожим на немецкий, коснулся блестевшим рожком патронника стенки траншеи, выпрямился… Беззвучно прошуршала сухая струйка глины к сапогам Баландина, он помотал головой в новенькой шапке и прижался грудью к стенке траншеи… Увидел в тридцати шагах впереди неглубокий окоп пушки «ЗИС-3», которая как раз дернулась кверху (не слышал выстрела Баландин), резко вспыхнуло перед стволом облачко сухой пыли… — Лейтенант!.. — закричал, не слыша себя, Баландин, поняв, что человек в зеленой телогрейке, без шапки, сидевший, сгорбившись, на левой станине пушки, — гвардии лейтенант Марков…62
Выстрел пушки, который увидел Баландин, был первым… Еще минуту назад гвардии лейтенант лежал в ровике для укрытия орудийного расчета — неглубокой щели с осыпавшимися стенками из сухого суглинка. Не успел Марков увидеть ни гвардии капитана Хайкина, ни старшего на батарее Савина — рвануло между третьим и четвертым орудиями, солдаты повалились на дно окопов, Мишка Бегма толкнул Маркова в ровик, крикнув: «Ховайтесь!..» — Взво-о-од, к бою-у-у! — закричал сержант Банушкин, пробегая сзади окопа, где лежал Марков, и отбросил в сторону котелок, который тащил в руке… Но все это, казалось Маркову, было давно: и котелок, брошенный Банушкиным, и упавший навзничь меж станин орудия Стефан Лилиен, шапку которого зачем-то схватил Мишка Бегма, и то, что Банушкин, увидев бросившегося к панораме Маркова, крикнул: «Осипова ранило!» — и побежал, согнув тяжелое тело шахтера, к третьему орудию, командир которого, Осипов, вышел из строя все от того же первого немецкого снаряда… Плавно шел влево ствол пушки, легко вращалась рукоять поворотного механизма, стиснутая пальцами Маркова, и, припав глазом к черному резиновому кольцу монокуляра панорамы, Марков видел в ужасающей близости два серых квадратика, ползущих, чуть показав правые борта, перед траншеей второй роты… Чья-то рука обхватила сапог Маркова. Бледное, грязное лицо наводчика Володьки Медведева глянуло на Маркова… — Я — м-м… м-могу… — прохрипел Володька, приподымаясь на локтях. Его контузило все тем же первым снарядом, и Марков сам оттащил наводчика в ровик… — Назад! — крикнул Марков, припадая глазом к панораме. — Заряжай!.. По лязгу клина понял, что Мишка Бегма, замковый, жив и услышал команду… — Гранатой, взрыватель фугасна-ай! — крикнул Мишка голосом, похожим на голос заряжающего Стефана Лилиена, всегда кричавшего «фугаснай» вместо «фугасный»… И это успел отметить Марков, и то, что замковый доложил род взрывателя, как полагалось это делать по наставлению огневой службы, другому номеру — заряжающему (краешком мысли мелькнуло это у Маркова), сразу успокоило его, — и пальцы ослабили хватку маховичка поворотного механизма, ствол пошел без рывков… Марков не видел, где лег на склоне холма разрыв первого его снаряда, и сейчас, чуть нажимая на маховичок пальцами, вел ствол пушки правее «тигра», что шел первым… Он нажал на спусковую рукоятку, ударил выстрел, привычно подтолкнуло ногу прыгнувшей трубой станины… Серая вспышка разрыва легла на целый корпус левее танка, и щеки Маркова мгновенно стали жаркими от пота… — Гранатой! — крикнул Мишка Бегма, и Марков услыхал лязг клина… Марков опять повел ствол с упреждением танка на его корпус, но рука, двигавшая маховичок поворотного механизма, дрожала все сильнее, и Марков вдруг понял, что боится не попасть в танк, что второй разрыв, упавший левее танка не меньше чем на пять делений угломера, означает одно: прицельная линия пушки сбита, оптическая ось панорамы не параллельна оси ствола… И так же неожиданно, как цифра «0-05», вспыхнувшая в мозгу Маркова, четко встали перед его глазами: печатные строчки… на желтоватой бумаге… Марков закусил нижнюю губу, но — видел это Мишка Бегма, согнувшийся за щитом у казенника пушки, — лицо гвардии лейтенанта стало каким-то другим… «Произведя выстрел… движением головки панорамы… отметиться по взблеску разрыва… вести огонь при полученных установках угломера…» — плыли строчки перед глазами Маркова, и в это же время он увидел разрыв своего снаряда, мигнул там огонек… Марков чуть крутнул барабанчик угломера мягким движением пальцев, и черный крестик в панораме совпал с тем местом, где две секунды назад мигнул огонек… — Давай, Миша! — крикнул Марков, накручивая маховичок поворотного механизма: далеко вправо успел уйти передний «тигр», но теперь его борт с ярким белым крестом ниже башни был виден Маркову целиком… Прыгнула под ногой Маркова станина, зазвенело в ушах… — Подкалиберным! — закричал Марков, не отрывая глаза от панорамы и чувствуя, как что-то случилось с сердцем: Марков перестал ощущать его, — серый борт танка окрасился в багровый цвет, узкий столб огня упруго выпрыгнул сзади башни и сразу потерял яркость, тяжелый клуб черного дыма закрыл танк… — Вже е! Товарищ литинант! Ще раз! Ще раз! — услышал Марков торжествующий голос Мишки Бегмы… Перекрестье панорамы легло под нижний обрез корпуса танка… Мигнул огонек — второй снаряд разнес передний каток… — Бейте! Бейте, бейте ж, товарищ литинант!.. — закричал Мишка, выпрямляясь за щитом во весь рост, и Марков увидел в ясном голубоватом круге панорамы второй танк… Катил он прямо на пушку, разворачивая длинный светло-серый ствол… — Товарищ литинант!.. Марков выстрелил… Черный взблеск земли закрыл танк… И еще, теперь с огненной вспышкой, ударил там снаряд… В голубоватом круге увидел Марков маленькую фигурку в зеленой телогрейке — показалась на мгновение из траншеи, исчезла, и под самым танком, под стволом, блеснул разрыв… — Це гранатами вдарили! — закричал Мишка Бегма, и Марков нажал на спусковую рукоятку… — Е-е-е!.. Горы-ы-ыть!.. «Тигр» стоял, и летели в него гранаты — серенькими точками видел их Марков, — тонули в черном облачке, все разраставшемся над танком… Марков засмеялся… Оторвал резким движением голову от панорамы, оглянулся — и увидел сапоги Баландина в трех шагах от казенника. — Во врезали! — засмеялся Баландин, стоявший возле дощатого ящика с отброшенной крышкой, в котором лежали два подкалиберных снаряда… — Черт, ногу засидел. — Марков выпрямился, перекинул правую ногу из-за станины, поверх щита увидел: четыре… шесть… шесть черных столбов дыма над подбитыми танками… Три серые коробочки подползли уже к гребню холма и скрылись. Марков засмеялся. Небрежно попинал пустые гильзы Мишка Бегма носком сапога поближе к ящику. — Клади, пехота, — сказал он Баландину. — Тоже артиллерист мне нашовся, снаряд пхает задом у казенник, от храбрая пехота… — Ладно, ладно, — засмеялся Баландин, набрасывая гильзы в ящик, и потер ладони о телогрейку — горячи еще были гильзы. Марков вдруг вспомнил, что ни разу за эти минуты он не посмотрел на третье орудие, куда убежал сержант Банушкин… И — ни разу не слышал он выстрелов третьего орудия… Марков спрыгнул с орудийной площадки на бруствер, увязнув сапогами в рыхлом суглинке, и замер… Торчала в тридцати шагах от него станина третьего орудия, правая станина, она никак не должна была так нелепо, непривычно торчать над бруствером окопа… — Попало!.. — закричал рядом с Марковым Мишка Бегма, и Марков понял, что там, у третьего орудия, случилось что-то страшное… Мишка Бегма бросился туда первым, обогнал Маркова и Баландин. Увидели все трое с бруствера: выглядывал из ровика для снарядов сержант Банушкин, торчала в углу его рта козья ножка… А за сержантом выпрямился в полный рост Володька Субботин… — Товарищ лейтенант!.. — увидев Маркова, вскочил Банушкин, выплюнув цигарку. Марков спрыгнул на орудийную площадку, увидел под ее стенкой лежащего на спине сержанта Осипова… Узкий подбородок сержанта был в запекшейся уже крови, мертво смотрели широко раскрытые глаза… — За… закройте! — глухо проговорил Марков, дрогнув потной щекой. — Первым снарядом… эх, Осипыч… — Банушкин снял с беловолосой головы Осипова шапку и положил ее на мертвое лицо… — Что с орудием? — сказал Марков, оглядывая пушку удивленно: она была цела… Банушкин не ответил — он увидел спрыгнувшего к сапогам Осипова длинного солдата в одной гимнастерке, державшего в руке ящик с панорамой… — Где ты, в богородицу твою… — Банушкин выхватил ящик из руки солдата, бросился к торчащей вверх казенной части пушки. — К станинам! Ну!.. Володька Субботин и длинный солдат (незнакомо было его веснушчатое лицо Маркову) подскочили к станине, повисли на ней — и пушка плавно пошла вверх длинным стволом, лежавшим до этого надульным тормозом на рыхлой земле впереди окопа… Банушкин закрепил головку панорамы зажимным винтом, крутнул ствол вверх, потом чуть опустил его, оглянулся… — Хорош!.. — Мудрите вы тут, Банушкин, — сказал Марков. — Не повезло нам, в душу Гитлера! — Банушкин сдвинул шапку на брови. — Панораму тем снарядом чикануло… Осипова вон… Ну я уж решил — задерем хвост нашей железяке, пусть фриц думает, что гробанул нас… За панорамой Егорова послал, а он, черт конопатый… — Да я, товарищ сержант, сам ее искал в землянке, никого ж там не было, стреляли ж все! — сказал длинный солдат. — Корову тебе в лесу искать, а не… Не слышали уже слов сержанта: густой, прерывисто урчащий звук сразу заставил оглянуться всех, кто стоял возле пушки… Набирая скорость, катили от леска сзади огневой позиции батареи несколько танков и четыре самоходки, и вот уже нельзя было различить глазом траков гусениц, слились они в светлую полосу… Оглушительно лязгая гусеницами, танки и самоходки проскочили меж орудийных окопов… У первой траншеи чуть сбавили ход, маленькие фигурки в зеленых телогрейках, в плащ-палатках, в касках выскакивали из траншеи, густо облепляли башни танков… Три красных флажка заполыхали над танками… Низенький пехотинец бежал от траншеи к огневой позиции. За ним — еще восемь солдат… — Федька!.. Федька Малыгин! — крикнул сержант Банушкин, вглядевшись в солдата. — Впере-е-ед! — издалека крикнул Федька. — Вперед, пушкари! Давай впере-ед!.. Сержант Банушкин побледнел, сдвинул шапку на затылок. — Лямки готовь! — крикнул он. — Володька! Егоров! Давай!.. Мишка Бегма побежал к четвертому орудию. Прищуренные глаза сержанта Банушкина глянули ему вслед… — Михаил!.. Примай команду над четвертым! — крикнул он, и Мишка Бегма, на бегу оглянувшись, поднял правую руку и спрыгнул с бруствера к орудию. Клацнули сведенные станины пушки. — Взяли-и! Навались! — Банушкин уперся руками в резиновый обод колеса, дернули за короткие брезентовые лямки Субботин и Егоров. Пушка качнулась станинами. Марков подставил плечо под рукоять станины. — Берем, ребята! — крикнул Марков, и пушка выкатилась с площадки на глинистый, прибитый лопатами сектор обстрела в переднем бруствере. Кто-то взял Маркова за локоть. Увидел: потное лицо солдата в каске… — Сменю, товарищ лейтенант! — сказал пехотинец и подхватил плечом рукоятку станины. Сержант Банушкин оглянулся, коротко улыбнулся озабоченным лицом. — Товарищ лейтенант! Вертайтесь к себе!.. Увидимся!.. Пушка была уже шагах в двадцати от окопа, катилась под уклон, к первой траншее, когда Марков услышал рядом голос Баландина: — Бутылку-то я… У орудия оставил! — И Баландин побежал к окопу четвертого орудия. Марков пошел за ним, иногда оглядываясь: все дальше были оба орудия его бывшего взвода, а метров сто пятьдесят правее катил орудия первый взвод, и в промежутке между орудиями видел Марков знакомую плащ-палатку старшего на батарее Савина… На пустой орудийной площадке, истоптанной сапогами, лежали три ящика от снарядов, пустых гильз не было видно, — значит, новый командир орудия Мишка Бегма успел собрать их в ящики… А на одном из ящиков увидел Марков свою шапку, глянул на Володьку Медведева, что сидел у стенки окопа, вытянув ноги в пыльных сапогах, и, щурясь, смотрел в лицо гвардии лейтенанта… — З-з-здорово б-били, — проговорил Володька хрипло. — А меня охранять б-барахлишко оставили… — В госпиталь надо, Володя, — сказал Марков. — Н-не-пойду… товарищ лейтенант… П-пройдет… А б-бутылочка… нам? Я вот… взял… б-бутылочку… Миша п-приказал б-беречь… Марков поморгал, отвернулся. — З-здорово п-по разрыву… отметились, товарищ лейтенант. — Медведев засмеялся. Отвернувшись от Медведева, плохо различал Марков дальние холмы, потом увидел за дымившимися еще «тиграми» колонну низеньких «тридцатьчетверок», ползли в ложбине самоходки, взблескивая на солнце задними бортами… Редкими цепями переваливали через гребень холмов пехотные роты… Несколько гаубиц на прицепе у «студебеккеров» пылили по проселочной дороге метрах в трехстах от Маркова, их обгоняли три зеленых «виллиса», над кузовами которых блеснули прутики антенн радиостанций. «Наверное, Афанасьев уже… Или Волынский…» — подумал Марков, торопливо отогнул на запястье конец рукава телогрейки, глянул на черный циферблат часов… Он не поверил своим глазам… Только тридцать четыре минуты назад Марков сказал командарму: «Пошел!» Марков почувствовал, что голове холодно. — П-простудитесь… т-товарищ лейтенант… — улыбнулся Володька Медведев, сидевший рядом с Баландиным, на коленях которого увидел Марков свою плащ-палатку… Марков надел шапку. — П-приходите еще, т-товарищ лейтенант, — сказал Володька Медведев. — Сберегу б-бутылочку… П-приходите… — Приду, Володя. Баландин встал, тряхнул плащ-палаткой. — Надевайте, товарищ гвардии лейтенант… — Я приду, — сказал Марков. Что-то ответил Медведев, но не услышал гвардии лейтенант: с пронзительным ревом прошаркнули но небу узкие тела штурмовиков, скрылись за холмами…63
— Немец уходит!.. Кто первым из тысяч людей в телогрейках, плащ-палатках и шинелях, делавших свое дело в окопах, на огневых позициях артиллерийских и минометных батарей, на узлах связи, на наблюдательных и командных пунктах, сказал эти слова, веселящие сердце, никто не знал. Но с этих слов в считанные минуты зародилось то знакомое фронтовикам чуть суматошное оживление, которое служит самым верным признаком, что к людям в телогрейках и шинелях пришла удача, что уже просится в душу слово «победа», которое по солдатскому извечному суеверию не любит, чтобы его произносили вслух… — Немец на моем участке отходит! Наблюдаю две колонны мотопехоты триста метров восточнее рощи «огурец»! Прошу усилить артогонь — НЗО[9] 104, 105, 107! Прошу усилить огонь! — услышал Никишов в репродукторе голос гвардии полковника Волынского. Никишов стоял возле стереотрубы в узком окопе, прорытом в форме буквы «г» от правой стенки блиндажа ВПУ. — Товарищ командующий! — сейчас же появился в дверях блиндажа гвардии капитан Семенов. — Волынский докладывает — немец отходит!.. — Слышал. И вижу, — сказал Никишов, не отрывая чуть прищуренных глаз от окуляров стереотрубы. — Передай артиллеристам — усилить НЗО. — Слушаюсь! — И Семенов скрылся в блиндаже. — Везет Седьмой ударной, — сказал сидевший на футляре для стереотрубы майор Павел Павлович, прибывший вместе с маршалом. — Робкие немцы все семерке попадаются… Чуть что — драпанеску махен… — Ехидничай, ехидничай, — сказал Никишов, медленно вращая барабанчик поворотного механизма стереотрубы. — Живой, чертенок… Оба идут, слышишь, Павлович?.. — Хороший мальчик ваш Марков, — сказал Павел Павлович. — Идет? — Идет, оба идут, — сказал Никишов. В голубоватом мареве, уже струившемся над полем, видел он две фигурки — в плащ-палатке и телогрейке; шагали они вдоль траншеи, вот скрылись в ложбинке… Никишов выпрямился, потер согнутым большим пальцем уставшие глаза, посмотрел направо, где стоял перед стереотрубой маршал в кожаной черной куртке, в зеленой фуражке с прямым козырьком, в синих бриджах без лампасов. Рокоссовский молчал вот уже минут тридцать, за которые случилось немало: и неожиданная атака немецких танков на участке полка Афанасьева, и хорошо видимая с ВПУ стрельба орудий батареи Хайкина по «тиграм», после которой запылало шесть машин, и контратака штурмовой группы гвардии капитана Горбатова, начатая им столь стремительно, что через двенадцать минут танки с пехотой и самоходки перевалили вершины холмов, слышал маршал и приказ Никишова командующему артиллерией армии — отменить артнаступление, открыть огонь по путям отхода немцев, не мог не слышать маршал и второй приказ Никишова, гвардии полковнику Волынскому, — бросить в узкую еще щель прорыва приданный дивизии тяжелый танковый полк, посадив на танки как можно больше пехоты… Но маршал молча стоял у стереотрубы. — Продвинулся на четыре-пять километров. Прошу разрешения ввести второй эшелон, — донесся из репродуктора неторопливый, окающий говорок генерал-лейтенанта Сазонова, командира соседней с Волынским дивизии, действовавшей на правом фланге корпуса. — Принято! — крикнул гвардии капитан Семенов. И снова голос из репродуктора, стариковский, с хрипотцой, — командира корпуса: — Докладываю: на всем участке хозяйства противник отходит. Прошу дать мне бело-красных, прошу дать бело-красных!.. Прием! Никишов покусал нижнюю губу… Танковая бригада поляков, которую просил для развития успеха командир корпуса, могла быть введена в дело только с разрешения командующего фронтом, это был его резерв. — Товарищ маршал, дайте мне поляков, — сказал Никишов негромко и вздохнул, потому что знал — не любит маршал расставаться с резервами… И Никишов не удивился, когда маршал сказал: — Не могу, Сергей Васильевич. — Слушаюсь. Майор Павел Павлович тяжеловато поднялся с футляра стереотрубы, снизу посмотрел на Никишова, улыбаясь полным лицом. — Просите еще, Сергей Васильевич, — сказал он громким шепотом, который, конечно, слышал и маршал. — Сейчас я от маршала схлопочу замечание, но на вашем месте я поляков попросил бы еще разок. Видел Никишов: дрогнули губы маршала в усмешке… Рокоссовский отступил от стереотрубы, закурил, бросил спичку на бруствер траншеи. — Исправлять твою распущенность, Павел Павлович, занятие, не обещающее больших результатов, — сказал Рокоссовский, и майор улыбнулся… — Виноват. — Не вспомнишь ли, Павел Павлович, как под Сталинградом один очень веселый молодой штабник докладывал мне, что в котле всего каких-то семьдесят пять тысяч немцев?.. — Запамятовал, товарищ маршал, — засмеялся Павел Павлович. — А потом оказалось, что немцев было четверть миллиона. — Нехорошо было с их стороны так меня подводить, — сказал Павел Павлович. Никишов смотрел на спокойное, худое лицо маршала. А постарел Константин Константинович, постарел… Никишов вздохнул. — Я не уверен, что история не пошутит с нами и здесь, под Данцигом, — сказал Рокоссовский. — История — не диктант, ее нельзя исправить, зачеркнуть ошибки. А то и учиться-то будет нечему… Написал «корова» через ять — так и останется на века… — Извините, Константин Константинович, — сказал майор. — Я совсем не буду в восторге, если после войны полковник или генерал Павел Павлович будет писать в какой-нибудь главе толстого тома, что Рокоссовский проваландался с Данцигом месяца три, а то и четыре… — Боже упаси — мне писать историю! — виновато улыбнулся Павел Павлович. — Я человек пристрастный. — Печальный опыт канители с Восточной Пруссией нам нельзя повторять… Генштабисты не могли не знать, что здесь у немца самые сильные укрепления на восточной и юго-восточной границе… И надо же было умудриться гробить именно на этих участках дивизии. — Рокоссовский отбросил папиросу. — А в Ставке даже и не поминали ни разу, что наш фронт должен взаимодействовать с Третьим Белорусским… Покамест немец не заставил понять, что Восточная Пруссия орешек покрепче, чем думали в Москве… Вот почему и пришлось мне отдать соседу пять армий… Раньше надо было бы думать москвичам… Сталин мне про помощь Жукову не один раз напоминал, а про мой правый фланг — ни слова… Вот почему, Сергей Васильевич, не дам я тебе танки поляков… Перед самым штурмом Данцига — получишь, если заслужишь. Это их город, они будут драться за Данциг по-настоящему, поляки там сотни лет жили… А сегодня — не проси, командарм… Рокоссовский улыбнулся чуточку застенчиво, как это у него получалось всегда, когда он кончал не слишком приятный для собеседника разговор. Но улыбка была короткой. Глянув на Павла Павловича, Рокоссовский сказал: — Покури-ка с Семеновым… Майор кивнул, ушел в блиндаж, прикрыл за собой дверь. Никишов понял: будет разговор не из обычных… И уже встревоженно вглядывался в лицо маршала, но оно было привычно спокойным, доброжелательным. Рокоссовский кивнул на стереотрубу. — Парнишка твой, разведчик-то… Помнит, что я ставлю окуляры на ноль пять… Подогнал под мои глаза… — Константин Константинович… Знаете ведь, что солдаты вас… Рокоссовский покусал нижнюю губу. Никогда раньше Никишов не примечал за маршалом такой манеры, и встревоженность Никишова стала ощутимой и маршалу… — Нехорошо с твоим соседом, Сергей, — сказал Рокоссовский, и Никишов понял, что это — о командарме-девятнадцать… Только позавчера ночью Никишов в разговоре с маршалом по «ВЧ» предъявил претензию к командующему Девятнадцатой армией: отставал сосед, и это было опасно для левого фланга армии Никишова… — Обстановка капризная, Константин Константинович, — осторожно сказал Никишов, потому что сейчас любая жалоба на Девятнадцатую армию могла отразиться и на судьбе ее командующего. — Я тебя понимаю. Ты у нас добряк известный… Но… — Посидели б вы над душой командарма денек-другой, мужик и встанет на ноги, может быть, — сказалНикишов. — Совет добрый. Только я уже был в Девятнадцатой… Нет, мое сидение над душой командарма ничего не дало… Держать вожжи командарм не умеет, не получается у него… Говорю: вызови мне штаб корпуса, — и не может, нет связи… И это когда корпус бьется лбом о несколько хуторов, теряет людей… Надо решение принимать, а командарм робеет, путается, карту карандашом марает, а толку нет. События идут помимо его воли. А теперь делай вывод, Сергей Васильевич. — Нелегко, — сказал Никишов. — А ведь неплохо и дело началось, вот что обидно… За день танкисты отмахали сорок километров, это корпус Панфилова. Взяли Бальденберг, Шенау… Используй же ситуацию, черт побери! А командарм только карандашиком по карте, карандашиком… Пехота и ползла, медленно поспешая… Рокоссовский достал портсигар. — Кури… Что посоветуешь? — Не хочется мне совет давать, Константин Константинович. — Понимаю… Павел Иванович Батов тоже не очень-то рвался ответ мне дать о судьбе коллеги. — Мы с Павлом Ивановичем одного поля ягоды, — улыбнулся Никишов. — Так. Ясно. Будем снимать командарма. Конец войны близок, карьеру ломать человеку — приятного мало, но и права мне оставаться смиренным наблюдателем не давал никто… Кто не умеет солдата любить, беречь — тот не генерал. Сегодня же соберу Военный совет, решим. Дверь блиндажа приоткрылась, выглянул, виновато улыбаясь, Павел Павлович. — Товарищ маршал, извините. Лейтенант Марков прибыл, вы просили… — Зови, — сказал Рокоссовский. Павел Павлович шагнул в окоп, и сразу же за ним показался Марков, уже без плащ-палатки, успевший даже помыть сапоги, по голенищам которых стекали мутные капли… — Товарищ маршал! По вашему приказанию гвардии лейтенант Марков прибыл! Удивился Никишов: никогда еще не слыхал он этих интонаций в голосе парнишки — интонаций человека, который уже узнал себе цену, поверил в себя, и потому так уверенно звучит его голос… Рокоссовский смотрел в краснощекое, пухлогубое лицо мальчишки в перехваченной ремнем телогрейке, с талией, — такой, какая была давно, очень давно когда-то и у вольноопределяющегося Кости Рокоссовского… — Спасибо, товарищ Марков. Наблюдал вместе с командармом за огневой позицией. Решение приняли верное, офицер вы настоящий… Отлично действовали. Наградить вас хотел бы, но не буду лишать удовольствия вашего командарма… — Спасибо, Сева, — сказал Никишов. — От имени Президиума Верховного Совета награждаю вас, товарищ гвардии лейтенант, орденом Красной Звезды. Никишов глянул на Павла Павловича — тот уже держал на ладони маленькую картонную коробочку синего цвета. Взяв коробочку, Никишов раскрыл ее. — Ножик вот, — сказал гвардии капитан Семенов, отбрасывая лезвие перочинного ножа. — Ну, Марков, почин у тебя такой сделан — даже завидно, — засмеялся Павел Павлович, взял нож у Семенова (торопливо расстегивал крючки телогрейки Марков), ловко провертел над правым карманом гимнастерки дырочку. — Расстегни воротник-то, герой… Так. Прошу, товарищ генерал! Засмеявшись, Никишов неторопливо просунул штифт ордена в дырочку, гайку — блестевшую тускло — выронил… — Нечистая сила, — пробормотал он, нагнулся, взял гайку. — Тьфу, тьфу, Сергей Васильевич! — засмеялся гвардии капитан Семенов. — В такую минуту, господь с вами, черта поминать… — Ничего, — засмеялся Рокоссовский, — с земли поднято, крепче будет… Поздравляю, Марков… — Спасибо, — смущенно глянул Марков и покраснел. — Виноват… — Ладно, Марков, в следующий раз по уставу ответите. — Рокоссовский пожал Маркову руку. — Постараюсь, товарищ маршал! — И Никишов опять услышал непривычные интонации совсем не того Маркова, что полтора часа назад уходил в предрассветную мглу. — С орденом тебя, Всеволод, — сказал он. — Товарищ командующий… Должен доложить вам… — Марков кашлянул. — Гвардии рядовой Баландин достойно действовал… Выполнял обязанности заряжающего, товарищ командующий, без него бы нам… Отлично действовал, товарищ командующий… Никишов почему-то глянул на маршала, тот улыбнулся. — Ну что же… — сказал маршал. — Я вижу, что лейтенант Марков — офицер еще лучше, чем мы думали… — Товарищ маршал, отличный солдат, очень хороший Баландин! Я ему приказал ждать меня в траншее, а он сам пришел на огневую! Обидно, если его… Никишов глянул на гвардии капитана Семенова. — Организуй, Петр Федорович. Заслужил — значит заслужил. — Слушаюсь! Сейчас же позвоню разведчикам. — Зачем канитель разводить? Вызови Баландина, я сам вручу. Орден найдешь? — Так точно. — Вызывай Баландина.64
Рокоссовский неторопливо прошагал в конец окопа, поднялся по глинистым крутым ступенькам — прорыли саперы запасной выход с тыльной стороны — и, оглянувшись, сказал поднимавшемуся следом Никишову: — А я вольнопером сейчас себя вспомнил… Древность, а?.. Тридцать лет пролетело… Славный парень твой Марков. Другой бы о разведчике и не вспомнил… Да и Баландин, кажется, ничего парень… Каблуками-то как лихо грохнул, когда ты ему награду вручил, а?.. — В Испании я таким же зеленым был. Малиновский мне по телефону говорит, что с меня за орден Красного Знамени причитается бутылочка, а я — не верю ему… Они засмеялись. Постояли рядом. Солнце светило им в глаза, щурились… Над высотой «217,9» промчалась девятка «петляковых», растаяла в солнечной яси… — Непривычно — на восток наступать, — усмехнулся Рокоссовский. — Скажи мне в сорок первом, что я буду командовать фронтом под Данцигом… — А что — не поверил бы? — Ну, про Данциг — не вопрос. Не Данциг, так какой-нибудь Дрезден… А вот то, что фронтом буду командовать, никогда не думал… — У каждого солдата в ранце жезл фельдмаршала, — улыбнулся Никишов. — Это честолюбцы придумали. Солдат о жезле не мечтает… Только вот ночью, когда сорок первый вспомнишь… Великомученица Россия-матушка… Рокоссовский застенчиво улыбнулся. — Видишь — вспомнил молодость и… Ну, ладно. Хорошо действовал, Сергей Васильевич, порадовал… Батов тоже сегодня добрые вести докладывал… Вот Девятнадцатая мне душу… Рокоссовский не договорил. Заляпанный грязью кузов «виллиса» выскочил из-за сосенок шагах в сорока от ВПУ, объехал широкую лужу и остановился. Вышел из машины офицер — высокий, в новой серой шинели, в форменной фуражке танкиста с черным бархатным околышем — давно уже не доводилось видеть такую ни маршалу, ни командарму… Кто-то подал из машины офицеру небольшой серый ящичек, офицер бережно взял его, потоптался, словно не зная, как его лучше держать, и зашагал к ВПУ, неся ящичек в полувытянутых вперед руках… Увидели маршал и Никишов: лицо майора (новенькие полевые погоны топорщились на широких плечах) было таким напряженно-радостным, что оба не сдержали улыбок, поняв — приятную новость должен сообщить майор. Хромовые сапоги майора ступали размеренно и твердо. Он не дошел до маршала (чуть отступил назад Никишов) как раз на пять шагов, предусмотренных строевым уставом, щелкнул каблуками. — Товарищ маршал! Генерал Панфилов и весь личный состав гвардейского танкового корпуса имеет честь просить вас принять наш скромный подарок. Герой Советского Союза гвардии майор Проценко! Майор подошел к маршалу, далеко вытянув руки с ящиком, — картонным ящиком, на боку которого Никишов увидел тиснутую блеклой синей краской марку военторга… — Не взорвется? — улыбнулся Рокоссовский. Майор смотрел в лицо маршала с выражением такой радости честно исполненного долга, что маршал засмеялся, взял ящик. — Та шо вы, товарищ маршал, хиба ж танкисты могуть такое? — От волнения майор заговорил по-украински. — Что ж это вы преподнесли, а?.. — Не приказано говорить, товарищ маршал! Рокоссовский приоткрыл крышку из откидных половинок и достал длинную темную бутылку явно не русского происхождения… — Шнапса не пью, товарищ Проценко, — сказал Рокоссовский и поставил в ящик бутылку рядом с двумя точно такими же… — Поспробуйте, товарищ маршал! Засмеявшись, Рокоссовский бросил взгляд на дюжины две солдат и офицеров (давно привык, что на него посмотреть всегда находились охотники) — стояли те шагах в тридцати, в тени от сосенок… — Ну, Проценко, приказ своего генерала выполнили отлично, — сказал, смеясь, Рокоссовский. — Це ж вода с самой Балтики!.. — не утерпел майор, хотя наказ генерала Панфилова был наистрожайший: ни под каким страхом не говорить Рокоссовскому, что́ доставлено в бутылках, пусть он самолично отведает подарок… — Балтики?! Вы вышли на… — Рокоссовский побледнел. — Так точно, товарищ маршал! — Майор Проценко полез в правый карман шинели, достал ножик со штопором, — откинут был штопор заранее, и это сразу сказало Рокоссовскому, как волновался и готовился к встреча с ним этот кареглазый украинец, трясясь в «виллисе» не один десяток километров от самого побережья моря. — Позвольте, товарищ маршал… — Майор Проценко взял бутылку, лихо заорудовал штопором, выдернул пробку… — А сосуд? — улыбнулся Рокоссовский. — Е сосуд, товарищ маршал! — И майор Проценко достал из левого кармана шинели что-то завернутое в клочок белого шелка… Рокоссовский взял маленькую хрустальную рюмку с золотым ободком поверху, смотрел, как майор Проценко твердой рукой держал бутылку, наполнил рюмку почти бесцветной, чуть зеленоватой жидкостью… — Благодарю за подарок, товарищ Проценко, — сказал Рокоссовский, и майор поднял подбородок, строго глядя ему в глаза. — Прошу передать от имени Военного совета фронта благодарность всему личному составу корпуса. И Рокоссовский выпил рюмку. Закашлялся, засмеялся, протянул рюмку Никишову. — Слаще меду, — сказал он. — Угощайте, Проценко, командарма… До дна, до дна, Сергей Васильевич! Рокоссовский передал две бутылки Павлу Павловичу, посмотрел на солдат и офицеров, что толпились теперь совсем рядом… — Товарищи, угощайтесь… Прошу, прошу… Балтийская водица, товарищи! А через несколько минут, проводив маршала и майора Проценко, Никишов вернулся в блиндаж ВПУ, взял микротелефонную трубку. — Всем!.. Генерал Панфилов вышел на берег Балтики! С победой вас, товарищи!ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
01.17. 19 апреля 1945
КОМАНДАРМ
…черт, накурился! Последнюю докурю и… Должен Рокоссовский сказать «да»… А потом… Ведь скоро будет мир… Мир… Можно будет идти по полю — и не думать, что тебя убьют. Странно… Поле… Мы шли с отцом по полю, нет, по кошеному лугу мы шли, ночью был ливень, мы шли по мокрой траве… А потом — по дубовой роще, и уже Оку было видно, туманило над серой водой… Я нес ведерко, сумку с припасами, старенькую командирскую сумку — еще с гражданской войны сохранилась сумка, когда отец был комиссаром в штабе главкома Каменева… Мне было тогда сколько?.. Пятнадцатый год шел мне, да, пятнадцатый, когда мы выбрались с отцом на рыбалку… Два года у нас не получалось — то отец ездил за границу по делам Коминтерна, то выполнял во Франции и Бельгии какие-то поручения Стасовой… — Спать хочешь, Сергей, а? — Отец оглянулся, улыбаясь. Мне совсем не хотелось спать. Разве в такое утро можно было спать?.. Ведь я шел с отцом на рыбалку, первую за целых два года… Отец засмеялся. — В революцию мы разучились спать… — сказал он. — Я не помню ночи, чтобы до утра не пришлось вставать из-за какой-нибудь новости. Старик Каменев терпеть не мог лежебок… По телефону — вежливый голос, как-никак полковником генштаба был когда-то наш главком: «Василий Алексеевич?.. Не разбудил?.. Не можете ли зайти ко мне?.. Нехорошие вести с Западного фронта…» Он всегда так говаривал — «нехорошие вести»… — Папа, а как Ленин с тобой говорил? — спросил я. Отец мне рассказывал не один раз о Ленине, но я любил слушать его. — Думаю, как со всеми… — Отец улыбнулся. — А как он говорил со всеми? — Как Ленин… — Ну, папа! Отец засмеялся… Он молчал, пока мы не спустились с невысокого обрыва к самой воде, сел на бревно, почти занесенное сырым песком, закурил… — Ты еще не дымишь потихоньку? — глянул на меня отец, прищуриваясь. — Не вижу смысла, — сказал я, возясь с лесками удочек. — Ответ убежденного антикурильщика… Ленин тоже не выносил табачного дыму… Только… Не все обращали внимания на плакатик, что комендант вывесил в кабинете Ильича… Я как-то по вызову Стасовой иду к Ильичу, часов этак в восемь вечера. Спешу — Ильич терпеть не мог расхлябанности, сказано — прибыть в восемь, будь дисциплинированным, явись точно… Захожу. Алексей Максимович Горький сидит возле стола в кресле, дымит как паровоз. Собирается уже уходить, Ильич что-то записывает, брызги чернил летят из-под пера… Поздоровался я… Горький, память у него была дьявольская, прищурил голубые глаза, говорит: «Никишов, а в пятом году вы модник были… Не идет вам френчик-то, вам смокинг бы сейчас, а…» Ильич смеется. Сказал: «Кончим войну, назначим Василия Алексеевича председателем комиссии при малом Совнаркоме по утверждению служебной формы для совбюрократов…» Хохочет. А Горький обрадовался, что настроение у Ильича, видать, стало получше, смотрю — новую папиросу достает из портсигара… А в кабинете уже — полоса дыма над столом Ильича. Я-то знаю, что Ильич слова не скажет Горькому, постесняется… Вот если б касалось дело политического вопроса, то тут и Горькому досталось бы на орехи, как не раз бывало… — А Ленин ругал Горького, пап? — Капитально. — Ну и что потом, папа?.. Так Горький и курил тогда? — Дальше самое главное… Горький подымил еще минуток пять, встал, попрощался, уходит. А меня черт дернул, говорю: «Алексей Максимович, вас ждут неприятности…» А он: «Привык к оным. Какие именно?» — «Комендант Кремля дал Свердлову клятву: тех, кто не читает плакатика в кабинете Председателя Совета Народных Комиссаров, вот этого плакатика, своей властью сажать на гауптвахту — на хлеб и воду сроком на месяц, без права свиданий…» Горький покашлял этак виновато, развел длинными руками: «Ви-но-ват, не особенно люблю плакаты читать, Василий Алексеевич…» Честное слово, смущен был он… Раскланялся, ушел… Ну-с… Ильич встает, быстренько прошелся по кабинету… Глянул на меня вприщурочку, левую бровь поднял… Я уж знаю — сейчас мне будет выволочка основательная… «Василий Алексеевич, говорит, мне кажется, что вы обидели Горького… Нельзя, нехорошо, неприлично сие… Горького мы обязаны беречь, это — национальное богатство республики, да, да, да, Василий Алексеевич!» А я: «Владимир Ленин — тоже национальное богатство…» Ленин опять — по кабинету… Сел в свое соломенное кресло, ладонью волосы на затылке пригладил — был у него такой жест… «Вы это всерьез сказали, товарищ Никишов?» Смотрит на меня. «Абсолютно, Владимир Ильич…» — говорю. «Я еще склонен простить тверскому или пензенскому мужику, когда он пишет: «Лично в руки преподнести дорогому и любимому великому товарищу Ленину, защитнику бедноты во всем мире…» Но образованному марксисту, революционеру, комиссару при главкоме всерьез считать личность своего товарища по партии… гм, гм… великой и прочее, прочее… нехорошо сие, Василий Алексеевич… Это никак не помогает делу, никак… И самое печальное, что таких… гм, гм… трубадуров Ленина в партии не убывает. Это абсолютно не марксистские, мещанские взгляды на роль личности… Я вот вижу — истины эти вы не приемлете и сейчас… Мда-а…» Засмеялся, махнул рукой… — Папа… А почему ты не напишешь об этом, ну, о встречах с Лениным, пап? Ну, о революции? Отец засмеялся. — Давай-ка рыбу ловить, Сергей. Мы ловили рыбу, пока солнце не стало припекать… Интересно, есть ли рыба в этом проклятом Одере?.. Наверное, есть… Много будет всплывать рыбы, когда снаряды немцев начнут бить по нашим переправам… Одер… Последняя река в этой войне, последняя…ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
Сидел гвардии рядовой Борзов с капралом Янеком, связным от мотострелкового батальона польской танковой бригады, на бетонном крыльце сгоревшей дачи, поглядывал на пленных немцев. Взвода три их чинно стояло вдоль забора из проволочной решетки — в очереди перед походной кухней второй роты, и повар Семенов пошумливал там, наводил порядок. Снимал кое-кто из немцев ордена и значки с мундиров — повар, увидев орден, гнал такого вояку в хвост очереди. — Марш цурюк, понял? Успеешь, налопаешься! Капрал Янек, плечистый парень лет тридцати, одобрительно посмеивался, глядя на повара… — Глянь, Янек, немец и бриться-то перестал, а? — сказал Борзов, прищуриваясь. — Допекло… — Дурак немец, — сказал Янек. — Хенде хох надо делать давно. — Сперва башку б Гитлеру оторвали — потом и хенде, — сказал Борзов. — То так, Коля. Выпьем, Коля? — Спрячь флягу. Зарок я дал, понял? Дружка опять миной ранило… Ивана Ивановича… Мы с ним горя не знали… Парторг наш. Коммунист, понял? — Я коммунист, — сказал Янек. — А ты, Коля? — С сорок второго, аккурат с марта… Янек пощупал в кармане зеленой шинели флягу, вздохнул. — Гданьск возьмем, Берлин будем брать, а? — Заслужим за Данциг двадцать залпов из двухсот двадцати четырех орудий — и на Берлин… Там уж выпьем. За победу. — Добже.65
С мартовского, в легкой хмари, неба над Балтикой падала на город смерть… Тысячи парней, у которых в карманах кителей и гимнастерок лежали удостоверения Четвертой воздушной армии, уже неделю не видели в небе ни одного самолета с черным крестом на фюзеляже. Визжащими густыми стаями устремлялись бомбы к плотным багровым облакам дыма пожарищ над сотнями кварталов Данцига, и в грохоте разрывов неслышно рассыпались в прах каменные громады зданий, сложенных на века, взметывалось над площадями и улицами месиво из фонарных столбов, афишных тумб, башен танков, автомобильных колес, обломков пулеметов и гаубиц, портфелей и чемоданов, кожаных кресел, пивных кружек, портретов фюрера и афиш с последним фильмом Марики Рёкк, на которых самая красивая грудь рейха была потрясающе великолепна, семейных фотографий, обрывков плакатов и газеты «Данцигер форпост»… А в сейфе, что стоял в углу душного бомбоубежища, хранилась последняя радиограмма из столицы рейха:«Берлин, ставка фюрера. Начальнику гарнизона Данциг, командиру 24-го армейского корпуса генералу артиллерии Фельцману. Город оборонять до последнего человека. О капитуляции не может быть речи. Офицеров и солдат, проявивших малодушие, немедленно предавать военно-полевым судам и публично вешать.Над городом, над головами пятидесяти тысяч солдат и офицеров в грязных, рваных мундирах, сотен тысяч беженцев с мартовского неба, которого никто из немцев не мог уже видеть, реяли листочки белой, зеленой, синей бумаги, на которой были напечатаны слова маршала Рокоссовского:Гитлер».
«Железное кольцо моих войск все плотнее затягивается вокруг вас. Дальнейшее сопротивление бессмысленно и приведет только к вашей гибели и к гибели сотен тысяч женщин, детей и стариков».
66
— Ответил генерал Фельцман? — спросил Рокоссовский. — Радисты ничего не приняли, товарищ маршал, — сказал майор Павел Павлович. Рокоссовский, горбясь, подошел к столу, на котором стояло несколько телефонов. — Сергей Васильевич… Предложение о капитуляции отвергнуто. Даю тебе два дня сроку. Надо кончать… Как у тебя дела? — Нормально, товарищ маршал. Почти весь центр города наш. На шестнадцать ноль-ноль Сто восьмая дивизия вышла к реке Мертвая Висла, захвачен мост. Разведчики инженерно-саперного батальона захватили мост в южной части города. Сейчас только сообщили — мотострелковый батальон поляков и штурмовой отряд дивизии Волынского пробиваются к ратуше. Хорошо идет корпус Алексеева. Думаю, завтра-послезавтра кончим, Константин Константинович… — Удачи тебе. — Спасибо!67
— Напрямик через площадь — труба дело будет, — сказал гвардии рядовой Борзов. — Надо б сбочку как приноровиться… — Помолчи, — сказал гвардии капитан Горбатов. Стояли они, припав спинами к закопченной стене высокой сводчатой арки шестиэтажного дома, из окон которого — слышно было — с гудом рвалось пламя… Горбатов провел по бритой щеке ладонью (успел побриться, покуда рота завтракала в подвале швейной фабрики, где на стеллажах лежали кипы обмундирования для господ морских офицеров). — В душу Гитлера… — пробормотал гвардии капитан, глянул в конец арки. Сидели там на корточках батарейцы — гвардии капитан Хайкин, трое разведчиков и два связиста, торопливо хлебали жидкую пшенную кашу из трех котелков… — Посадить бы тебе, Семен, своего старшину в ямку поглубже, жрать не носит дня четыре, — сказал Горбатов. — Кормежка у тебя в батарее — не дай бог… Мне, что ль, твоему полковнику Вечтомову рапорток подать? — Ладно уж, Кузьмич, — засмеялся командир батареи. — Вот возьмем Данциг — и, слово артиллериста, шницеля будем есть… Солдаты засмеялись. — Товарищ гвардии капитан, — сказал разведчик в немецкой плащ-палатке, облизнув ложку и сунув ее за голенище сапога. — У вас старшина жмот большой, точно… Вчера сахару у него попросил — с отдачей, так он, Мануйлов-то ваш, с копыт долой… Было помер от жадности, ага! — На даровщинку вы, пушкари, мастаки, — сказал Горбатов. — Нет, напрямик через этот плац — не тот шанец, — сказал Борзов, прищуриваясь. Понимал: треп Венера Кузьмича с пушкарями — верный признак, что ротному сейчас не до смеху… Вот уже полчаса лежала вторая рота за баррикадой из брусчатки, с которой вышибла немцев-фольксштурмовцев, солдаты — видел Борзов — даже закурили, значит, злость у них вся вышла, умаялись ребята… Нет, через эту проклятущую площадь, изрытую бомбами и снарядами, до ратуши ребята сейчас не могут идти… Глянул Борзов на ротного — закуривал тот, уставившись запавшими глазами в противоположную стенку арки, на которой чернела обгоревшая, с эмалевым белым уголком какая-то табличка, четыре синие буквы на ней сохранились: «Д-р Ма…» — Порубал, пушкарь? — сказал Горбатов, и гвардии капитан Хайкин виновато улыбнулся. — Порядок, Венер Кузьмич. — Командир батареи встал, поправил шапку с вылинявшим голубоватым верхом. Вместо зеленой шинели надел неделю назад артиллерист синюю телогрейку. — Между прочим, ратушу мы еще не взяли, — сказал Горбатов. — Может, погодить — поляки возьмут, а мы «ура» шумнем, а?.. Командир батареи промолчал. Минут сорок назад, когда возились огневые взводы, перекатывая все четыре орудия через противотанковый ров по хлипкому мостику из половых досок, вторая рота успела взять баррикаду… И, увидев бегущего по тротуару командира батареи, Горбатов отвернулся, потом молча пошел под арку. Обидевшись на такую встречу, Хайкин приказал своим разведчикам принести завтрак с батарейной кухни… — Вот что, начальник, — сказал Горбатов, глядя сверху на низенького артиллериста. — Заберу я у тебя людей, что твои пушчонки тягают на добровольных началах… Ты уж обедай тут, я один ратушу возьму, понял? — Бери, — сказал Хайкин, и его загорелое, с шелушинкой на смуглых щеках лицо покраснело… — Возьму. — Бери, бери. — Взаимодействие, — негромко сказал гвардии рядовой Борзов, и ротный резко повернул к нему голову («Ага, дошло, Веня…» — усмехнулся про себя Борзов, делая скучное лицо). — Рядовой Борзов! — Слушаю, товарищ гвардии капитан! — Ты… ты брось, понял?! — Так точно, товарищ гвардии капитан! Рота возьмет эту ратушу согласно вашего приказу, так точно! — Помолчи уж… кочколаз, — сказал Горбатов, вздохнув. Он уже злился на себя, что обидел Хайкина… Вторую неделю батарея огоньком роте дорогу чистит, пушкари вымотались вчистую, пушку катить — не автомат нести на плече, а тут всю дорогу катят парни… Нет, собачий свой характер надо унять Горбатову. И чего взъелся на Семена?.. Это же просто счастье подфартило сейчас роте, что немец с баррикады драпанул. А если б немца было не взводишко фольксштурмовцев, сопливых мальчишек да старых хрычей, а рота кадровиков?.. Без огня пушкарей Семена пустил бы немец кровушки роте, уж точно… Но вот что сейчас примозговать толковое, когда танковые взводы Марка Гриднева по приказу Волынского жмут на соседней улице, поляков поддерживают, а?.. Сунуться роте прямиком через площадь, верно ведь Николаич зудит, не больно мудра затея… Половины роты не останется потом… Нет, надо чего-то делать по-умному, так дело не пойдет — дуриком переть через площадь… — Не, тут надо сбочку лезть, флангом рвать к ратуше, — сказал Борзов, доставая из кармана телогрейки белую пачку трофейных сигарет. Горбатов молча выудил сигарету. И гвардии капитан Хайкин, улыбнувшись смущенно, взял у Борзова сигарету. — Ты ж не куряка, — усмехнулся Горбатов. — С таким главнокомандующим и пить начнешь… — Ла-адно, обидчив больно стал, — сказал Горбатов, и оба улыбнулись, хотя сейчас же постарались сделать лица серьезными… Хайкин покашлял, отбросил сигарету. — Пакость немецкая… — Интеллигентик, — сказал Горбатов. — Любезный мой товарищ от станка… Интеллигенция, к твоему сведению, пшенную кашу из солдатской кухни зарабатывает честно, — сказал Хайкин, достал из кармана телогрейки карамельку и бросил в красногубый рот. — Рокоссовский — тоже интеллигент, товарищ начальник, командарм наш — типичный интеллигент… И вообще, Венер Кузьмич, без интеллигенции жизнь стала бы такой тошной, скучной… Нет, ты начальник, еще от своего станка не далеко ушел… — Ох, вредный у тебя характер, Семен. — Я не сказал бы… — Не сказал бы! Ты лучше скажи, интеллигент, как нам к ратуше этой собачьей живыми доскакать. А то теории мне тут… — Сбочку способней, — сказал Борзов. — Через проулок, я видел, ресторан, что ли… — Ну? — сказал Горбатов. — Могу сходить, гляну. — В душу Гитлера… — Горбатов сплюнул, двинул шапку на брови. — Идем, Семен. Бери своих едоков, связь тяни. — Идем. — Командир батареи тоже нахлобучил шапку поглубже, глянул на своих управленцев. — Зинченко, потянешь связь. Все — со мной. — Слушаюсь, товарищ гвардии капитан! — Поднялся с асфальта высокий ефрейтор, забросил на плечи лямки катушки трофейного кабеля. Горбатов подошел к концу арки, где висела на одной чугунной петле половина решетчатых ворот, за ним тронулись остальные. И в прерывистом гуле огня из автоматов, пулеметных очередей, разрывов снарядов послышался басовитый, с визгливыми перебоями шум танковых моторов… То, что это «королевские тигры», все поняли сразу… От ратуши выкатывались на площадь четыре танка… — Огня, Семен! — повернул голову к командиру батареи Горбатов. — Раздавят гады… Гвардии капитан Хайкин кинулся к трубке телефона, что уже протягивал ему ефрейтор Зинченко. — Савин!.. Давай Савина, быстро!.. — закричал он в трубку. — Савин!.. Вперед к баррикаде! «Тигры» идут! Понял? Выдвинешься — оставишь у орудий по три номера, остальные в укрытие! Выполняй! Сунув трубку телефона в руку связиста, командир батареи оглянулся. — Венер!.. — закричал он. — Назад!.. Но Горбатов уже шел позади невысокой баррикады, и солдаты второй роты бросали окурки, смотрели на командира… Шагал за командиром Борзов, забросив ремень автомата на плечо, словно и ротный, и его связной брели где-то по тылам полка, правя в военторг или в баню. Наверняка по грудь высовывалась долговязая фигура гвардии капитана над обрезом баррикады, и то, что он медленно идет в полный рост, когда танки немцев доползли уже почти до половины площади, сразу сказало второй роте: с баррикады она не уйдет, не может уйти назад… — Ребята! Берлин в этой стороне! — крикнул Горбатов и махнул длинной рукой в сторону ратуши… — Ложись, Кузьмич, — сказал за его спиной Борзов. Гвардии капитан глянул на подбегавшего артиллериста. — Вали назад, Семен… Тут геройства не надо… Вали, вали! Но за Хайкиным подбегали его управленцы, рвали гранаты из брезентовых сумок, карабкались по осыпавшимся грудам гранитных кубиков баррикады, примащивались рядом с пехотинцами. Горбатов смотрел, как уже не четыре, а шесть «королевских тигров», приземистых, тяжелых даже на вид серых коробок, урча моторами, разворачивались на площади, все больше открывая правые борта, и вдруг ударили из длинных стволов почти залпом, и снова ударили… Но стволы поворачивались к выходу на площадь соседней улицы, где — знал Горбатов — за такой же баррикадой лежали поляки… Не сразу понял Горбатов, почему вдруг солдаты стали расшвыривать камни сверху баррикады, оглянулся: четыре пушки батареи Хайкина уже раскинули станины, огневики начали вбивать под сошники железные шкворни… — Давай, орлы! — крикнул, повеселев, Горбатов артиллеристам, повернул голову к баррикаде, где уже успела вторая рота раскидать в четырех местах углубления. — Рота-а! В укрытие налево-о… бегом марш! И солдаты, пригибаясь, побежали к арке, где еще недавно стоял Горбатов. — Веня! Мешаешь! — услыхал Горбатов голос командира батареи, неспешно зарысил к арке. Гвардии капитан Хайкин стоял между первым и вторым орудиями, поднял к глазам бинокль. — По головному-у!.. Подкалиберным! Прицел двенадцать! Наводить в передний срез!.. Батар-р-рея-а-а… огонь! Дернулись четыре ствола, вторая рота под аркой оглохла… И только через несколько секунд услышали: — Гори-и-ит, братцы!.. То кричал связист Зинченко. — По второму-у… огонь! Резкий, слившийся в один звук выстрел четырех пушек проскочил по улице… Сыпанулись стекла из соседнего с батареей дома… — Тикают!.. Тикают немцы! — закричал Зинченко, выскакивая на бруствер. Полыхали посредине площади два жарких костра — подбитые батарейцами «королевские тигры», — когда вторая рота (слышал за собой Горбатов дружный топот сапог) добежала до них, и здесь глухой грохот крупнокалиберных пулеметов из окон ратуши заставил Горбатова крикнуть: — Ложи-и-ись!.. Горбатов упал на брусчатку в семи шагах от второго горевшего танка — пекло лицо, повернул голову направо, услышал крик десятков злых голосов. Бежали от соседней улицы солдаты в зеленых шинелях, в рогатых шапках с длинными козырьками, несколько бело-красных флажков билось под ветром… Но пулеметный огонь заставил и поляков повалиться на брусчатку. Только один поляк, у которого в руках бился на длинном древке флажок, пробежал еще несколько шагов и повалился на бок, разбросав ноги в ботинках с черными обмотками… — Эх, славянин… — простонал сквозь зубы Горбатов и вдруг приподнялся на локтях — в четырех шагах от него прополз Борзов, сноровисто, привычно толкая вперед крепкое тело… — Колька! Наз… Секанула пулеметная очередь по мертвому поляку, дернулись его ноги в обмотках… Увидел Горбатов: трое поляков вскочили в неровной цепи — побежали к знаменосцу… Но опять забило огнем пулеметов, и не добежал до бело-красного флажка ни один из поляков, ткнулись рогатыми шапками в брусчатку… Ползла, видел Горбатов, реденькая цепочка парней в зеленых шинелях к флажку, который уже приподнял с брусчатки Борзов. — Веня!.. Оглянулся Горбатов. Мокрое от пота лицо Семена Хайкина — в трех шагах… Лежал командир батареи рядом с телефонистом Зинченко — улыбался парнишка Горбатову, дрожа подбородком… — Бей по первому этажу! — крикнул Горбатов. — Там пулеметов натыкано!.. Хайкин закричал в трубку телефона: — Савин!.. Два залпа по первому этажу вруби! Два залпа! Потом бей по второму! Огонь!.. Горбатов вскочил, подбежал к горящему танку, повернулся к нему спиной. — Слушай мою команду-у!.. Пушкари ударят — идем вперед! Не робей, гвардия!.. Пригото-о-овьсь! Которые первые на крыльцо — ордена за мной, ребята!.. Засмеялся Зинченко. Но Горбатов еще не услышал залпа пушек, как вторая рота вскочила… — Дае-е-е-е-ешь! Горбатов побежал следом за солдатами — и сразу понял, почему поднялась до его команды рота: далеко впереди бежал Борзов, торопливо перебирая кривоватыми короткими ногами, и билось над его каской бело-красное полотнище… Ударило за спиной Горбатова, свистнули четыре снаряда, посыпались кирпичи на ратуше… И еще раз ударила батарея… Горбатов бежал, не спуская глаз с бело-красного полотнища, но оно мельтешило повыше неровной цепочки зеленых телогреек и зеленых шинелей, которые уже успели перемешаться… Обогнали Борзова… Рванули гранаты на широком крыльце, и два бело-красных флажка скрылись в темном, дымном провале высокой двери ратуши. На крыльце еще молча втискивались в дверь солдат ты, когда Горбатов оглянулся… Правее горящих танков выскочили на площадь несколько «тридцатьчетверок»… На ходу, задирая стволы пушек, ударили по верхним этажам ратуши… — Давай, Гриднев, друг, давай! — засмеялся Горбатов — узнал он по номеру на переднем танке, что это орлы гвардии капитана Марка Гриднева прибыли добивать немца. — Связь тянешь? — крикнул Горбатов подбегавшему, похрамывая, командиру батареи. — Есть! — Ну, захромал, аника-воин… — Горбатов засмеялся. — Давай, Зинченко, трубочку. А то мой Шароварин чикается еще, горе луковое… Не найдет катушку кабеля получше — башку оторву… Отдышись, Семен. Вот сегодня ты действовал будь здоров. Что твое, то нам не надо. Молодец, Сеня… Спасибо… Хайкин поднял голову, посмотрел на окна ратуши… — Все, капут немец, — засмеялся Горбатов. — Минуты уж четыре тихо сидит, паразит… — Ты куда хочешь звонить? — сказал Хайкин, вытирая лоб платком из синего шелка. — Как куда? Начальство радовать, чудак. — Горбатов подмигнул. — Кто первым доложит о хорошем дельце — тому орденок, а ты вот проморгаешь — больше медальки не жди, не-ет, Сеня… Полковник Вечтомов твоего доклада покуда ждет, я раз — и в дамки… — Звони уж, карьерист… Горбатов по привычке подул в микротелефонную трубку, и легкий шорох убедил его, что связь есть. — Артиллерия?.. Это капитан Горбатов. Найди там, друг, связиста моего, Шароварина. Он под этой, под аркой. Пусть передаст Афанасьеву — ратуша взята. Понял?.. Ратуша взята штурмовым отрядом гвардии капитана Горбатова… Погоди, скажешь — совместно с поляками. Понял, друг? Ну давай, шуруй. Горбатов отдал трубку Зинченко. — Вот как надо воевать, Сеня. Звони Вечтомову-то, и топаем, поглядим на эту избушку, а?.. — Горбатов, поправив поясной ремень на пыльной телогрейке, пошел к двери. Сапоги его ступали твердо. В дымном вестибюле толпились солдаты второй роты и поляки, курили, поглядывая на десятка четыре немцев, стоявших у начала коридора, откуда валил дым… — Кто старший? — спросил Горбатов, прищурившись, и сразу из толпы немцев вышел полнолицый невысокий офицер в шинели без ремня. — Оберст Дервиз! — Вольно… По-русски говорит кто? — поверх полковника оглядел немцев Горбатов. — Я говорю, — улыбнулся полковник. — Немношечко. — Почему не капитулировали? — Приказ, господин капитан. — Прика-аз… — Горбатов махнул рукой, повернулся к своим солдатам. — Выводите вшивую команду. Пересчитать. Трофимчук — старший, возьмешь пять бойцов. Давай! — Слушаюсь, товарищ гвардии капитан! — Ребята, Николаич наш живой? — Порядок! — Ну и ладно. Горбатов засмеялся, посмотрел на поляка с оцарапанной щекой. — Где ваше начальство, хлопец? Брали вместе, а познакомиться не успели… Поляк опустил глаза. — Убили пана поручника… Горбатов покусал губу, отвернулся, увидел Семена Хайкина. — А мы, Сеня, всё живые… Война, сука… И побрел Горбатов по лестнице, иногда чихая от дыма, — хотел увидеть Борзова.68
Плакали за спиной гвардии рядового Борзова парни в зеленых шинелях — стояли кучкой возле древка с бело-красным полотнищем, билось полотнище под ветром с Балтики в большом проеме провалившейся черепичной крыши… Оглянулся Борзов, постоял — и пошел к выходу с чердака: не надо смотреть, как плачут люди, вернувшиеся на родную землю…69
— Товарищ Сталин, докладываю. Войска Второго Белорусского фронта освободили Гданьск. — Благодарю вас, товарищ Рокоссовский. Очень хорошо. Дадим салют. Теперь ваша задача — как можно быстрее совершить всем фронтом марш-маневр на Одер. Как можно быстрее, товарищ Рокоссовский. Без вас большая игра под Берлином не выйдет… — Войска фронта сделают все возможное, товарищ Сталин. — Не сомневаюсь. Спасибо. До свидания. Рокоссовский положил трубку телефона. Глянул на улыбавшегося майора Павла Павловича. — У меня для вас… — начал говорить Павел Павлович, но замолчал. — Разрешите, товарищ маршал, выполнить просьбу одного гвардии полковника? Очень хотел бы повидать вас… по сугубо личному делу… Рокоссовский засмеялся. — Неисправим ты, Павел Павлович… Опять ведь мудришь… — Это жизнь-матушка мудрит, товарищ маршал… — Зови полковника, раз уж… сугубо личное дело. — Слушаюсь! Павел Павлович подошел к двери просторной комнаты, слабо освещенной в этот поздний ночной час двумя лампочками в люстре из хрустальных висюлек, мягким движением руки распахнул ее пошире. — Товарищ гвардии полковник… Прошу вас… — сказал почему-то очень тихо Павел Павлович и вышел из комнаты. Рокоссовский смотрел на человека с бритой головой, стоявшего на пороге… — Товарищ маршал… — хрипло проговорил гвардии полковник Вечтомов. — Извините… я… Рокоссовский подходил медленно. — Господи… Аркадий… Гвардии полковник заплакал…ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
01.23. 19 апреля 1945
КОМАНДАРМ
Сева, пожалуй, уже доехал до Инны… Да, должен доехать… Час двадцать три… Инесса Андреевна Манухина… Напишет мне или нет? Не напишет. Незачем ей писать. Подумаешь, генерал Никишов прислал адъютанта… Генералам легко быть вежливыми… Странная у нас была первая встреча… Впрочем, сейчас на матушке-земле такие вещи происходят, что… Да, тридцатое марта… Данциг мы взяли, за двое суток взяли, во всей армии, наверное, не найти было грустного лица… Я увидел Манухина в коридоре сената, мы там были с Корзеневым, Семенов был, Сева был… Манухина я никак не ожидал здесь встретить… И когда рядом увидел Инну… Почему-то подумал, что это немка, нельзя же было представить, что студентка консерватории, москвичка идет по коридору сената, обходя груды фаустпатронов… Синие глаза… Умные. Спокойно смотрели на меня, когда Андрей сказал: «Сергей Васильевич, наконец-то я тебя изловил… Месяц бегаю за тобой, тешась благими упованиями… Во-первых, разреши поздравить с победой, дорогой мой. И, во-вторых, позволь представить… Старшая дщерь моя… вот, из Москвы… Всей доблестной Седьмой ударной понравилась («Папа…» — улыбнулась Инна), получила сто двадцать девять предложений руки и гвардейского сердца, но не желает оставить меня, старика, в одиночестве и треволнениях… Инесса Андреевна, урожденная Манухина, прошу любить и жаловать…» Синие глаза были спокойны, улыбались… Она умница, Инесса Андреевна Манухина, она понимала, что отец сейчас волнуется, поэтому и говорит так, с усмешечкой, пожалуй, даже чуточку опасливой… Сказала: «Очень будем рады видеть вас на концерте, товарищ генерал… Разрешите пригласить вас от всей нашей бригады… В три часа. Папа, здесь, да?» Манухин сказал, что перед входом в сенат концерт дадут специально для штурмовых отрядов, член Военного совета приказал ансамблю дать концерт для штурмовиков, выведенных уже во второй эшелон… Мы ушли из сената вместе с Манухиными… У подъезда стоял автобус, смотрели в окна женские и мужские лица, совсем не солдатские лица… Инна сказала: «Я буду очень рада вас видеть… Я давно знаю о вас… С сорок третьего года, мне писал папа… Он очень вас любит…» А потом?.. Да, автобус уехал, и тут подкатил на «студебеккере» Егор Павлович… Подвел какого-то младшего сержанта, смуглого паренька… Чудак, нашел для меня этого славного Казаряна… «Сергей Васильевич, такой шоферюга — лучше меня! Не пьет, не курит, золотой парнишка, Сергей Васильевич! Самого лучшего из своей автороты отдаю от души, Сергей Васильевич!» Корзенев засмеялся: «Товарищ командующий, раз уж так гвардии старший лейтенант просит, придется уступить…» Наверное, Казарян с Севой уже возвращаются… Ну что ж, Сергей, держись… Только больше всего на свете хочу, чтобы маршал сказал «да»…(— Николай Семенович, как на Одере? — На центральном участке вода без перемен — шестьдесят сантиметров. На левом фланге — двадцать. Ветер — один балл. — Добро.)
ГВАРДИИ РЯДОВОЙ
Письмо перед боем писать — каторга. Душа плачет, а писать надо… Борзов, чуть посветлее стало над Одером, пристроился поудобнее в окопе рядом с ротным (спал еще Горбатов), листок бумаги приложил к трофейной офицерской сумке, чернильный карандаш подострил финкой. Написал вот что:«Лидонька! Ты за меня не бойся, ты в меня верь. Чувствую себя хорошо, как и все солдаты сейчас, потому что до победы теперь быстро дойдем, не зря ноги били в кровь. Лидонька! По тебе скучаю, по детям очень крепко, но скоро вас всех увижу и жить будем хорошо. Приснилась мне наша бригада, будто подхожу я к твоим станкам, погонялку сменить на 462 станке, а у тебя на полотне один брак, подплетины да близны. Я тебя ругаю, а ты заплакала, мне тебя жалко стало, косынка твоя, голубая, которую Анна Евстафьевна Коробова тебе подарила в тридцать девятом году, с косы твоей на пол упала, а я, дурак, на нее сапогами, в сапогах сам себе приснился, привык к сапогам за войну. А чем сон кончился — заспал, никак не вспомню. Приеду домой, погуляю недельку, пойду на фабрику. Руки зудят, Лидонька, это я тебе честно. По Шуе тоже крепко скучать стал, город у нас хороший и зеленый. У немцев кругом камень, душе без вольности. Ну, кончаю, Лидонька. Целую тебя крепко и наших маленьких. Твое письмо читал я Венеру, смеялись, как ты племяша от курева отучала. Дядя Коля приедет, скажи Толику, за курево будет давать на все свои дисциплинарные права, как у нас в армии солдаты говорят, рано ему еще табаком баловать. За Жанну я спокойный, девочка у нас всем взяла, в тебя удалась. Ей ответ напишу завтра, очень хорошее письмо мне прислала доченька, я тут показал Венеру,так он удивился, что в первом классе такой почерк уже красивый. Мы тут теперь, Лидонька, все за нашу Россию крепко гордимся. Видали тут в Германии всяких народов пленных концлагерных, глазам поперву страшно было глядеть, до чего их тут замордовали фашистские империалисты, арийцы поганые. Как русских увидят на дороге, так не знают, как сказать за свое спасение от верной погибели на чужой земле. Прямо мильоны людей! А немцы теперь своего Гитлера из души в душу кроют, когда припекло их, а раньше куда как им весело было, когда он к Сталинграду пер своими танками. Были честные, которые все понимали по сознательности, да их перевешал Гитлер да по лагерям измывался. Ну, кончаю, Лидонька! Твой всегда муж Николай. 19 апреля 45-го года в Германии тебе писал».Закурил Борзов, посмотрел на листок — осталось местечко… Примета плохая — перед боем о своем счастье писать, но не удержался Борзов, меленькими буквами добавил:
«Недавно мне третий орден Славы лично большой товарищ вручил, поцеловал меня перед строем, и «ура» дал команду кричать. Венер тебе кланяется низко и просит тебе передать, чтобы ты за меня не переживала, подразделение у нас хорошее и потерь очень мало. Еще раз целую крепко. Николай».Треугольничком письмо сложил Борзов, сумку стал открывать, смотрит — Венер Кузьмич из-под плащ-палатки голову показал. — Отписался?.. А чего ж меня не разбудил? — Да набегавшись ты, Веня, всю ночь на ногах… — А письмо за меня кто напишет? — Да успеешь, Венер Кузьмич. — Дела… Вторую неделю дома без писем, ревет мамаша, точно… Ты погоди, Николаич, я сейчас отрапортую мамаше… А уж со всех взводов связные письма солдатские к Борзову несут — он к артиллеристам, во вторую батарею, те письма доставлял, как стал ординарцем… Совсем рассветало, только туман вроде еще гуще над черным Одером стал. Борзов в свою трофейную сумку письма сложил, тридцать восемь треугольников, — чуть не вся рота сегодня домой поклоны шлет… Взял последний треугольник Борзов — от ротного (мамаше весточку подать — дело короткое, мамаша и без письма чует, как сынок дышит на белом свете), по кустикам, через бугорок, а тут и пушкари, на прямой наводке стоят… Лопатами еще машут пушкари — не успели за короткую ночь окопы оборудовать… Подошел Борзов к четвертому расчету, с сержантом Банушкиным за руку поздоровался. — А-а, полная Слава! — Банушкин засмеялся. — На Героя еще не подали, Николаич? — Пишут, пишут, — Борзов подмигнул. — Ваша почта еще не утопала? — Та хиба ж мы письма писали? — Мишка Бегма сказал, зло суглинок лопатой из ровика отваливая. — Не ходи в артиллерию, сын украинского народа, просись в пехоту, — Борзов усмехнулся. — А мы всю ночку дрыховецкого давали, во как, артиллерия. Валяй к нам, Миша, примем, парень ты хороший. Теперь ты младший сержант, отделение тебе Венер Кузьмич с ходу даст, а то и помковзводом будешь. А? — Ни, мне и туточки добре! — Ну, гляди сам. Борзов на станину пушки присел. Другого б кого Банушкин за такую серость матерком шугнул — пушка ведь, не телега обозная; но полному кавалеру ордена Славы можно и на станине сидеть, заработать солдату эти три звездочки — крови своей не жалеть… Закурили Борзов с Банушкиным (хозяин угостил махорочкой из Саранска). — Лейтенант ваш пишет чего? — спросил Борзов. — Все при Сергуне? — Позавчера письмо получили. У нас лейтенант сила был парнишка, до сих пор все огневики жалеют, что забрали… Прислали нам тут из училища, да так… не шибко. Одно дело — журналы фрицевские собирает, на кой черт — ума не приложим… Это, говорит, свидетельства эпохи, во как, смех один… — Банушкин затянулся цигаркой так, что махорка затрещала, и тут заметил осуждающий взгляд Мишки Бегмы, понял, что выкладывает перед пехотой свои батарейные тайны, сказал, прищуриваясь: — Вообще-то взводный у нас отчаянный товарищ… Так вперед и жмет, только удерживай… Работящий мальчонка, до трех ночи сам с лопатой вкалывал на третьем расчете, мозоли с непривычки — до крови, а он все лопатой машет… А уж огонь ведет — ну!.. Все тебе довороты и прицелы в голове держит, попробуй махани куда снаряд за молоком — беда, не спорь, сразу тебя к стенке прижмет, память у него точненькая… — Это хорошо, если парень правильный, — сказал Борзов. — Мы на своего Кузьмича тоже, слава богу, не в обиде… Ну, надо идти, ребята. Миша, отдышись, а? Отнеси, будь добр, письма вашему почтальону… Не поленишься? Или лычки на погонах тяжелы?.. — Та шо там, — сказал Мишка, втыкая лопату в землю, и глянул на своего сержанта. — Уважь, Остапыч, — сказал Банушкин. Передал Борзов письма Мишке, тот рысцой вдоль огневой подался, к блиндажу связистов. — Как, Николай Николаич… Одера пехота не опасается? — негромко спросил Банушкин. Борзов вздохнул, со станины поднялся. — Да ведь есть чуток, Степа… Только надо нам дело делать, шабашить войну без позору… Никак нельзя позориться, Степа… — Это верно. — Ну, стрелять вам до попадать, артиллерия! — Бывай здрав! Козырнул Борзов и подался в роту.
70
Человек в Москве апрельской ночью ходил по красной ковровой дорожке… В кресле у стола плакала седая женщина. А на столе лежал лист бумаги, на котором было напечатано полученное час назад сообщение из Берлина:«Покончил самоубийством при аресте гестаповцами некий Циммерман Карл, ближайший сподручный Геббельса. Застрелился и его адъютант, якобы русский граф Толмачев Владимир Павлович, перебежавший к немцам лейтенант Красной Армии. Насколько можно судить по разноречивым слухам (Геббельс старается замять скандал в своем ведомстве, лично был у гестаповца Мюллера, это достоверно), Циммермана обвиняют в шпионаже в пользу России. Причина ареста — признание некоего Рихарда Панкова, владельца часовой мастерской в предместье Берлина, Цепернике, арестованного в феврале этого года, что он якобы являлся радистом у Циммермана с ноября сорок первого года. Панков скончался от пыток. Гестапо арестовало также жену, дочь Циммермана и девочку — дочь офицера вермахта, которую адъютант привез из командировки в Данциг. В Бернау-бай-Берлин многие жители улицы Мюленштрассе, где жили Циммерманы после начала бомбежек столицы, с осени сорок четвертого года, утверждают, что ночью, около двух часов, в особняке Циммерманов было произведено около двадцати револьверных выстрелов. Дом Циммермана явно под наблюдением гестапо. Если это наши товарищи — скорбим вместе с вами.Максимова. Сербина».
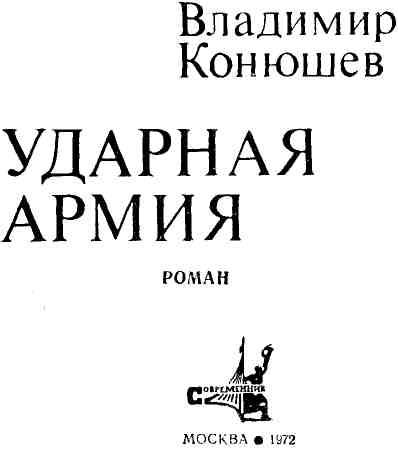















Последние комментарии
2 дней 6 часов назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 12 часов назад
2 дней 13 часов назад
2 дней 14 часов назад
2 дней 15 часов назад